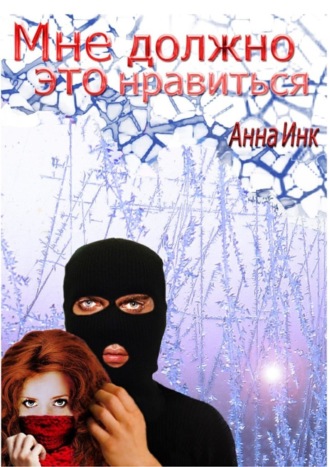
Полная версия
Мне должно это нравиться
– И сколько раз тебе так казалось относительно других людей?
– На этот раз всё иначе. Он знал её. Он знал Машу. И его подозревали.
– С чего ты это взяла?
– Статья в интернете. Откройте ноутбук. Откройте, и я Вам покажу.
А. А. неохотно поднимается и идёт к рабочему столу.
– Помните день рождения моей мамы?
– Конечно! Замечательный был ужин. Я бы остался на подольше, если бы не отъезд в Осло.
– Это случилось в тот вечер. После торжества я пришла в свою комнату. Открыла почту. Письмо будто было отправлено с моего же адреса. А в письме было это.
Ввожу ссылку. Я выучила её наизусть, каждый символ. На экране появляется фотография, разбитая двумя молниеподобными полосами.
Константин Лисковец в центре. Глаза приковывают к себе. Серые и злые. Он смотрит точно на фотографа. С неприличной надменностью. Узкий выступающий подбородок чуть опущен, и положение головы делает его прямой нос более продолговатым на кадре, отчего выражение лица кажется ещё мрачнее. У него красивые губы, с чётко очерченными треугольниками. Они кажутся твёрдыми и упрямыми. Над переносицей две разные по глубине морщины. Руки в карманы пальто. Высокий, стройный, с расправленными плечами. Он спускается по лестнице своей клиники в спешке, светлые волнистые волосы, длинные спереди, потоком встречного воздуха сбивает на висок. В его облике удивительным образом сочетается ярость и печаль. И это противоречие притягивает меня так сильно, что становится стыдно. Потому что он может быть тем самым человеком, который отнял у меня мою настоящую счастливую жизнь.
Справа от его фото Маша у какого-то кафе. На ней чёрная водолазка. Тёмно-коричневые, как мокрое дерево, волосы, собраны в косу и лежат на плече. Грустные карие глаза смотрят куда-то вдаль. Маленькие розовые губы поджаты, задавая складку над выпуклостью её подбородка. Она кажется благородной и милосердной, вечно сострадающей бедам всего человечества.
А слева от Лисковца фотография Александры Баунц, его невесты. Саша красивая, богатая, популярная модель, успешный блогер.
Заголовок над фотографией гласит: «Сын мэра: это не я, или как моя невеста убила мою любовницу».
– Ты уверена, что эта девушка – та самая Маша?
– На ней даже серёжки те же. Знаете, почему я не могла найти её среди пропавших без вести в тот период? Её никто не искал. Пишут, что Мария Мельникова была найдена мёртвой, в тот день, когда он меня отпустил. Тело было изуродовано. Последним в живых её видел таксист, который отвёз Машу в центр города в одиннадцатом часу вечера в день моего похищения. Только вот камера у подъезда, где она выходила, была сломана уже несколько недель. И всё. С концами. Ночь семнадцатого, – я загибаю пальцы, – восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое. Её никто не искал, Аркадий Анатольевич. Как такое может быть? А я Вам сама отвечу. Потому что она была любовницей сына мэра. Вот все и сидели молча. А потом замяли дело.
– Подожди, – его будто осенило. Он хлопает меня по руке, и закрывает ноутбук. – Ты сказала… Ты что, виделась с ним? Ты виделась с Константином…
– Это было непросто – найти его. Его нет в социальных сетях. Невозможно выяснить, в каких местах он предпочитает проводить время. Официально он числится совладельцем папочкиной клиники. Но по факту там не бывает. Никто, естественно, не дал мне его контактов. Пришлось обратиться к частному детективу. И я получила адрес его теперешней работы. Это магазинчик, недалеко от парка «Северный». Представляете, сын мэра, талантливый кардиохирург, теперь работает в супермаркете укладчиком? – я нервно усмехнулась.
– Ты поехала туда, – разочарованно.
– Не с пустыми руками.
– Твоя сардоническая улыбка меня пугает.
– Что значит «сардоническая»?
– Улыбка человека перед гибелью. Злая, язвительная, презрительная. Из греческой литературы.
Меня передёргивает. Бормочу:
– Ненавижу греческие мифы.
– Я помню.
– Вы специально? Издеваетесь надо мной?
– А ты специально пользуешься тем, что я пообещал не разговаривать с полицией, пока мы не добьёмся надёжных результатов?
– Я Вам доверяю. Одному из немногих мужчин. Я этим пользуюсь.
– Есть шанс, что найдут похитителя, если в полиции узнают, что вы обе были там.
– Если Вы им скажете, – делаю к нему шаг, – я всё буду отрицать, – рублю фразой воздух между нами.
– Хорошо, хорошо, – выставляет ладони, будто прикрывается от меня. – Что ты привезла для него?
– Листовку. Я попросилась в волонтёрскую группу. Там искали одну девушку. И я взялась расклеивать объявления. И вместе с ними взяла ту, которую напечатала сама. В ней написано, что разыскивается пропавшая без вести. Указан мой телефон. И фотография Маши из той статьи.
Аркадий Анатольевич делает ненавистный мной жест «рука-лицо».
– Мы должны всё рассказать полиции. Теперь, когда известна личность второй девушки, можно отыскать между вами связь. Появился шанс найти преступника и отправить его в тюрьму.
– Я не получу удовлетворения, если его посадят. Я не получу удовлетворения, пока его не станет вообще.
– Это нормальная реакция. Ты думаешь, что он сбежит, или…
– Нет. Вы не понимаете. Страх – это выше, поверхностно, незначительно. Стыд. Вот что первично. Он знает, как всё было на самом деле. Не Вы, не полиция. Только я и он. А я не хочу, чтобы это знание жило. А оно будет жить, пока он не умрёт. Первый шаг уже сделан. Я нашла его. Это наверняка он. Вы не видели, как он отреагировал на листовку. И на меня. Если бы видели – поверили бы.
– Яна. Будь он твоим похитителем – он бы узнал тебя. И вёл себя незаметно.
– Он вспылил из-за эффекта неожиданности. И сначала он не мог узнать. На мне был шарф, натянутый до самых глаз.
– Сначала… А что же произошло дальше?
– Я хотела сдёрнуть шарф. Я хотела, чтобы он узнал меня. Так хотела этого, что у меня стало мокро в трусиках.
3. Костя
Белая пелена сменяет каменные башни. Лес обступает разом. Влажный снег утяжеляет ветви, превращает тропу в туннель. Я сбавляю темп. Бег здесь как сквернословие. Кощунственно лишь глянуть.
Смотреть широко открытыми глазами.
Она ждёт меня в центре заледеневшего озера. Одинокая фигура в серой одежде. Только глаза цветные. Её тёплые карие глаза. Встречают меня с надеждой. Которую я снова разрушу до предпоследнего камня.
– Ничего, – я пускаю взгляд в норку между толстыми шерстяными нитями её шарфа. Ласкаю глазами кончик ключицы под краем маленького золотого крестика. Только я знаю, какая сладкая на вкус её белая кожа там.
И тот.
Эта мысль приводит меня в бешенство. Пальцы разом сжимаются, до хруста, до рези в ладонях.
– Я ничего не нашёл, Мари. Прости, хорошая…
– Пусть так, – её голос звучит глухо сквозь плотную хирургическую маску. – Я всё равно тебе благодарна…
– Дай мне ещё немного времени, – голос-предатель срывается на хрип.
– Костя, ты сделал всё, что мог, – её приветливость не милосердие – жалость.
– Я так виноват перед тобой.
Делаю к ней шаг. Но она отступает на все два. Я бы всё отдал, чтобы прижать её к себе. Вдохнуть её запах. Чтобы чувствовать, как она плавится в моих руках. Целовать её щёки и губы, которые я не видел уже полтора года, и которые она никогда мне больше не покажет.
– Позволь обнять тебя. Пожалуйста.
– Нет.
– Хотя бы взять тебя за руку.
– Раны… Раны опять загнивают. Я не хочу, чтобы этот запах стал последним напоминанием обо мне. Не так. Не так мы должны были расстаться.
Она подносит руки в перчатках ко рту, греет их собственным дыханием, сочащимся сквозь белое сито хирургической маски. Я слышу треск. Будто под ней проваливается лёд.
Взглядом вниз. Она задирает юбку до самых трусиков. Её колени гнутся в обратную сторону. Надламываются. И она обрушивает себя вниз. Взглядом по излому её тела, от обрубков колен к голым бёдрам. Чёрная нить вшита в рану, извивается в распухшей красноте, перечёркнута сгустками склизко-белого гноя.
Приступ тошноты. Глаза застилает пелена. Я на колени.
Она ползёт. Приближается ко мне, волоча обрубки.
Ощущаю её запах. Новый. Омерзительный запах её гноящейся плоти.
Рука на моём плече:
– Ты даже сейчас дрожишь. Ты никогда не боялся холода. Тебя трясёт не от холода. Ведь так? Ведь так? – слышит, как я сглатываю. И голос её становится нежным: – Единственное, что приносит мне облегчение: знать – ты не видел, что он сделал со мной.
– Костик, милый, вставай, – наигранно писклявый голос. Я вздрагиваю. Распахиваю глаза. Шея трещит, когда склоняю голову набок. Елисей щекочет меня за ухом как кота и лыбится. – Вставай, соня, – его низкий голос окончательно сошёл на визг.
– Мы приехали? – сбрасываю его руку. Машина припаркована под яркой вывеской золотого цвета. – Я долго спал?
– Ты отрубился в середине разговора.
– Извини. – Выдыхаю. – Мне снилась Маша.
– Сочувствую, – поджимает губы, смотрит сквозь лобовое.
Откашливаюсь:
– О чём мы говорили? До того, как я уснул.
– Видимо, тебе это не так уж интересно.
– Ковальски. Ты говорил про их встречу с отцом. Он покупает клинику.
Елисей ржёт. По щекам пошли глубокие складки, веснушки растянулись.
– Ковалевский. И не выдавай желаемое за действительное. Ковалевский хочет её купить, но твой отец отшивает его уже в третий раз. Хотя цена предлагается интересная, даже для вашей состоятельной семьи.
– Нет никакой семьи. И я ясно дал понять, что возвращаться не собираюсь.
Елисей долго выдыхает:
– Не понимаю, ведь это твоё детище.
– Я потерял к этому интерес. Окончательно. И к клинике, и к медицине вообще.
– Когда ты поймёшь, что очень ошибся, будет уже поздно.
– Я долго думал…
– Долго? Да ты бухал каждый день, на протяжении целого года! Долго он думал.
– Слушай, я всё решил. Мне плевать, что будет с клиникой. Пусть её купит Ковальски, разрушит землетрясение, явится сатана, и сожжёт дотла. Что угодно. Пле-вать.
– Я провожу в твоей клинике дни и ночи напролёт, – он успешно сдерживает приступ раздражения, а обиду мастерски скрывает. – Я искал тебя в самых богомерзких заведениях города, чтобы ты подписывал бумажки. Сам читал каждый документ. Договаривался с поставщиками оборудования. Проводил собеседования со специалистами. Отмазывал тебе перед прессой. Разбирался с налоговой. Улаживал конфликты с клиентами. Чтобы, когда ты очухаешься и соизволишь вернуться к делу, тебе было куда возвращаться.
– В этом-то и загвоздка. Ты там по факту – никто, – Елисей сглатывает. – Я – хозяин. И мой отец. И нам обоим насрать на эту клинику.
– А как же Мила? И другие девушки с несчастной судьбой и больными родителями/детьми? Как будешь спасать их жизни? Мои связи быстро растеряются, если я не буду в деле. Свои ты уже растерял. Остался только я, и Каринэ. Больше никто в тебя не верит.
– Мила – единичный случай. Больше никого не будет. Я больше ни о чём тебя не попрошу. Только об одном: забей на клинику. Пусть отец делает что хочет. Просто не езди туда. Всё сдуется за месяц. И он сам с удовольствием продаст её за бесценок. Ковальски будет рад до жопы.
– Ковалевский. И он очень зол. Я бы на твоём месте отнёсся к этому серьёзно.
– А что может произойти? Он попытается прихлопнуть моего отца? Да пожалуйста! Мне – плевать.
– Возможно, ему и не придётся этого делать. Скоро всё решится само собой.
Я поворачиваю к нему голову. Спесь слетела за секунды. Блефует?
– Я считаю, что ты должен знать. Твой отец проходил обследование. И всё очень плохо.
– Что у него?
– Он харкает кровью, как ты и пожелал ему некоторое время назад.
Немеющие пальцы нащупывают пачку сигарет в кармане.
– Да я ведьма, – делаю затяжку.
– У тебя просто защитная реакция. Шок.
– Значит, ты об этом хотел серьёзно поговорить?
– Можешь предложить тему серьёзнее?
– Сколько ему осталось?
– Мало, очень мало, Кость. До весны он не дотянет.
– И ты, как ангел милосердия, решил нас примирить перед его кончиной, – приоткрываю дверь и стряхиваю пепел в серый снег. – Может, ещё и мать мою найдёшь, чтобы она простилась, как подобает, с бывшим любимым муженьком?
– Ты хочешь её увидеть?
– За последние двадцать лет я увидел её всего раз, и ты помнишь, чем это закончилось. Проживу ещё двадцать, а там, глядишь, и она сдохнет. Надо только придумать, каким способом. Интересно, а моя ведьминская магия действует, только когда я выдаю пожелание лично в лицо объекту?
– Пойдем, – он вылезает из машины. – Давай, Кость. Выметайся из моей тачки.
Ноги плохо слушаются. Мне что, в действительности его жалко? Я уже очень давно желал ему смерти. Мучительной и медленной. И, кажется, так оно и происходит. Где же оно – ощущение триумфа? А нет. Только опустошение. Потому что я всегда хотел задавить его собственными руками.
Елисей смотрит в землю, поддевает грязный сугроб мыском ботинка.
– Кажется, ты переживаешь за него больше, чем я, – констатирую факт.
– Я не раз говорил тебе, что ты сам виноват.
– В чём?
– В том, что я общаюсь с ним больше, чем его собственный сын.
– Я не ревную, если ты к этому, – бью пальцем по сигарете, и тлеющий табак вываливается из неё шматком. – Лучше бы он усыновил тебя, вместо того, чтобы производить меня на свет.
Елисей ничего не говорит. Он недвижим. Только всегда светлый серый взгляд наливается свинцом. Здесь я был не прав.
– Извини, я погорячился, – хлопаю его по плечу. – Давай сменим тему.
– Сколько можно тянуть? Ты деградируешь. Возьми себя в руки. Я не хочу, чтобы после его смерти ты снова впал в депрессию, ушёл в запой, или ещё чего похуже. Ты только оправился после… на этот раз всё можно исправить. Потому что заранее известно, что будет. Я хочу, чтобы ты вернулся в профессию. Продолжил своё дело. А я, как и сейчас, буду помогать тебе чем смогу.
– Я подумаю над твоим предложением, – формально, холодно. – Идём внутрь?
– Поздно. Он приехал.
Я слежу за взглядом Елисея. Машина моего отца подъезжает к кафе, и паркуется недалеко от нас.
Вылезает. Собственной персоной.
– Встреча подстроена тобой.
– Вы должны поговорить, – теперь Елисей хлопает меня по плечу и уходит.
По дороге к машине пересекается с моим отцом, они обмениваются рукопожатием, и расходятся в разные стороны.
Недалеко от входа в кафе отец останавливается. Смотрит на меня. Ждёт. Улыбается искусственно. Якобы дружелюбно. Кажется, хотел развести руки, чтобы пригласить в объятия. Но приступ стирает и маску, и показушные намерения. Он заходится от кашля. Я сглатываю. Закуриваю новую сигарету.
– Хочешь повести? – отец убирает платок в карман распахнутой дублёнки и вытаскивает ключи от машины, держит брелок двумя пальцами, на вытянутой руке.
– Ты же говорил, что больше не подпустишь меня к своему имуществу.
– Всё сердишься? Я тогда просто вспылил. Сегодня поведёшь ты, Костя, – отец делает несколько шагов навстречу, вкладывает в мою ладонь ключи, сжимает мои пальцы. Достаёт из кармана железную флягу. Крышка клацает, отваливаясь на корпус, и в морозном воздухе теперь пахнет виски. – Ты же не позволишь своему отцу пьяным поехать за рулём. В прошлый раз это очень плохо закончилось.
Сука, давит на больное. Его самодовольная рожа напрашивается на кулак. Оставить вмятину в его обрюзгшей красной щеке. Пнуть разок в живот, когда он повалится на снег. Это принесло бы мне столько удовольствия.
– Ты уже знаешь? Елисей сказал тебе?
– Надеялся, что я посочувствую?
– Ты такой же жестокий, как твоя мать.
– Как вы оба вместе взятые. Плоть от плоти, – давлю сигарету пяткой. Расплющивается, намокает в снегу. – Чего ты ждёшь? Что я научусь на ваших ошибках? Мне должно нравиться самоутверждаться за счёт того, что я поступаю человечнее, чем мои родители?
– Тебе должно нравиться жить, – с видом философа отводит глаза в сторону, делает глоток из фляги. – А ты сам всё портишь. Несмотря на созданные условия.
Я усмехаюсь. Сжимаю ключи. Иду к машине. Пальцы после его прикосновений как в грязи. Хочется вымыться. Вываляться в снегу.
Отодвигаю кресло назад. Кнопки выворачивают зеркала так, чтобы я видел всё.
– Соскучился по роскоши? – он сыто улыбается, рассматривая меня за рулём.
– Мне никогда не нравилась эта машина.
– Она и не твоя. Твоя ждёт тебя в гараже. А ты всё не приходишь. Автомобиль – он же как животное. Верный пёс. Конь, – делает очередной глоток.
– Убери. В салоне будет вонять.
– Признают только своего хозяина… Ты в курсе, что Машин отец разыскивает тебя?
Мы отъезжаем от кафе. Только бы дороги были посвободнее. Побыстрее расправиться с этим.
– Он презирает тебя. Хотя даже не знает, насколько прав в своём презрении, – снова запивает слова глотком виски. – Только догадывается. Так вот пусть эти догадки останутся при нём.
– Я остановлю в «Северном». Припаркуюсь у магазина, недалеко от своей квартиры. А ты поедешь на такси.
– Нет. Ты отвезёшь меня домой, и останешься дома.
– Это уже не мой дом.
– Где же твой? На квартире одной из своих девиц?
– Нет. У меня нет дома вообще. Ещё не заработал.
– И не заработаешь никогда. Ты всё профукал. Образование, профессию. Зачем? Я же всё для тебя сделал.
– Перестань, а.
Он замолкает. И даже убирает флягу. Дышит тяжело. Упёрся локтем в дверь машины. Его губы выдают эмоцию отчётливо: он разочарован.
Елисей прав. Нужно разобраться сейчас, пока мой отец жив.
Придавливаю педаль газа, и мы едем к окраине города.
– Я привезу тебя домой, и мы поговорим. Нужно решить вопрос с клиникой. Ты должен принять, что я не вернусь туда. Сам поступай с ней как хочешь. Мне всё равно.
– Я позволил тебе самому выбрать дело по душе. Я не трахал тебе мозг тем, что ты должен продолжить семейную династию. Неинтересна политика – принял. Хотел спасать жизни – давай, пожалуйста. Лучший университет, курсы, связи. Самое обидное в том, что у тебя хорошо получалось, Костя. От начала и до конца. Оценки. Рекомендации. Интернатура. Проведённые операции ещё там. Ты действительно мог бы стать одним из лучших. Самым лучшим. Ни одна твоя операция не закончилась крахом. Ты об этом когда-нибудь задумывался? Ты людям жизни спасал. И вдруг решил забить. Пусть дохнут, да? Думаешь, мне на зло? Да ты не мне подгадил. Ты себя наебал.
– Я знаю, что ты давал взятки. Ты всех покупал. Всё, что говорили – враньё. Меня продвигали за твои деньги.
– Чушь!
– Брось. Я выучил тебя наизусть за эти двадцать девять лет. Ты не можешь оставить что-то без контроля. Ты должен контролировать всё. Даже с кем я трахаюсь.
– Ну что ж, как-то ты выбрал сам. И где она? Где твоя маленькая Машенька?
– Хватит.
– А я тебе скажу. Вот там, – он тыкает коротким пальцем в потолок салона, – высоко в Раю. Счастлива до усрачки, что сдохла. После того, как он её во все дыры выебал.
Бью по тормозам.
Кровь хлещет из его носа. Эта картинка перед глазами как навязчивое насекомое.
Я ударил собственного отца. Я ударил человека, который болен. Ударил человека, который скоро умрёт.
Пальцы отпускают голову. Вдоль машины туда-сюда. Нужно вернуться в салон. Посмотреть, как он там.
Извиниться.
После того, что он сказал? Ну уж нет. Он заслужил. Он не смел так говорить.
Просто развернусь и уйду, вот что. Пойду пешком. За минут сорок доберусь до квартиры, если быстрым шагом. А если бегом…
Слева от меня машина на дороге. Стоит метрах в тридцати. Как только я поворачиваю голову, свет фар гаснет. Но машина никуда не едет.
Елисей был прав? И за моим отцом кто-то следит?
Делаю шаг в сторону неизвестного автомобиля. Маленький. Красного цвета, или малинового. Вряд ли этот Ковалевский послал бы киллера на такой тачке.
Ковалевский послал киллера. Самому-то не смешно? Елисей, конечно, пересмотрел криминальных детективов. Скорее за рулём девушка, и она просто заблудилась. А тут ещё я резко дал по тормозам, и выскочил из машины как ошпаренный. Испугалась, вот и стоит поодаль.
Порыв ветра сносит с леса снег. Лицо обдаёт ледяным вихрем. С дерева слетает тяжёлая ветка, и обрушивается на капот красного/малинового автомобиля. Машина, по-прежнему без включённых фар, начинает движение назад.
Я возвращаюсь к отцу.
Его голова запрокинута. Он держит платок у носа.
– Наклонись вперёд, что ты делаешь? – я упираю ладонь в его лопатки. – Опусти подбородок. Ниже, прижми к грудной клетке.
Тяжело выдыхаю. Если у него начнётся приступ кашля, он прямо здесь и задохнётся. Не надо было мне ехать. Тогда ничего бы этого не произошло.
Я мягко жму газ, и уже через десять минут мы въезжаем в посёлок. Как только арка ворот остаётся позади, салон заливает светом. По сравнению с неосвещённой дорогой вдоль леса всегда кажется, что ты попадаешь в другой мир.
Некоторые дома уже украшены гирляндами. В прошлом году не было ни одной. Хотя нет. В позапрошлом. В том ноябре я был невменяем.
– Где пульт? – я роюсь в бардачке.
– В отсеке подлокотника.
Коричневые дверцы собираются гармошкой под потолком двухуровнего гаража. Отец всё-таки достроил второй этаж. Он всегда мечтал сделать там бильярдную. Так было модно в девяностые. Как будто дома места мало.
Я долго смотрю на лысеющий затылок. Чувство жалости стягивает изнутри.
– Ты как? Дай посмотрю, – он бьёт меня по протянутой руке.
Выходит из машины. И прежде, чем захлопнуть дверь, бросает:
– Я завтра же займусь переоформлением клиники на тебя. Хочешь, чтобы твоё детище погибло – убей его сам.
4. Яна
Он обещал мне еду. В желудке будто прорва. Я никогда бы не подумала, что чувство голода способно пересилить страх. Стыд. Холод.
Вкус – ради этого ощущения я готовая отдать сразу все другие. Согласна на любую пищу. Хотя бы крошку. Только бы ощутить на зубах, разгрызть, смочить слюной. Почувствовать на языке.
Челюсть сводит от желания. Я вгрызаюсь в собственные губы, сдавливаю, причиняю себе боль. Язык мечется в поисках капли крови. Солёной. Хоть что-то. Хоть что-то.
Щелчок. И дверь открывается. Я поднимаюсь резко. В голове гудит. Серебряные пятна перед глазами. Коленки подгибаются.
Втягиваю носом воздух, пришедший с ним. Голова кружится. Тело трясёт как в лихорадке. Ощущаю, как выступают капельки пота у висков. И слюна заполняет мой рот. Я как собака реагирую на хозяина. Я жду его. Это нормально?
Шаг к нему навстречу. Привязь держит у стены.
Он садится на пол в позе лотоса. Поодаль от меня. Держит прозрачный пакет, перевязанный сверху как мешок. Разматывает узел, запускает внутрь руку. Шуршание заставляет моё сердце биться чаще. Скрипит упаковка от сырных чипсов. Он надрывает её, не отводя взгляда от моих глаз. Вытаскивает один ломтик. И погружает в рот.
По комнате разливается запах сыра. Желудок бьётся пульсом.
Он молчит. Ест, плотно смыкая губы. Но мой слух улавливает каждое движение внутри его рта: зажаренный до хруста картофель, сдобренный сырным порошком, степенно и методично размалывается, крошится, заполняет солёно-острым вкусом всё вокруг.
До меня вдруг доходит: он ждёт, чтобы я попросила. Это такая стратегия: расчленить личность, но прежде заживо содрать оболочку. Не разовым актом. А сдирать постепенно, по маленьким лоскуткам. Попрошу один раз – и придётся просить всегда. Перейти эту грань – и я превращусь в жертву.
Отступаю на шаг.
– Ты не голодна?
Я сажусь на пол. Прислоняюсь спиной к стенке. Страх. Стыд. Холод. Переступлю. Но не гордость.
Он расправляет почти опустевший пакет. Задирает голову. И в его открытый рот соскальзывают по сгибу как по горке самые маленькие крошки. На маску падает несколько штучек, они цепляются за ткань и остаются там, на обтянутом чернотой подбородке.
Люди могут очень долго прожить без еды. Ставят фантастические рекорды: недели, месяцы. А я здесь не больше суток. Что я? Слабачка? Нет. Хер ты дождёшься, чтобы я просила.
Он встаёт. Разглядывает свои ладони. На его пальцах остался сырный порошок.
– Я покормлю тебя, – улыбается. Кивает на пакет, в котором ещё несколько упаковок. – Но мне нужно кое-что узнать для начала.
Идёт ко мне. Я вжимаюсь в стенку.
– Тебе какие больше нравятся? – он проскальзывает носком ботинка под мои согнутые ноги, и немного подталкивает их вверх. – С солью? Со сметанкой? Или такие, которые сейчас ел я?




