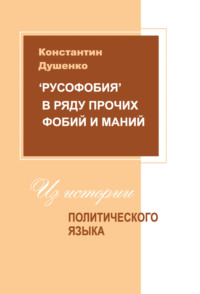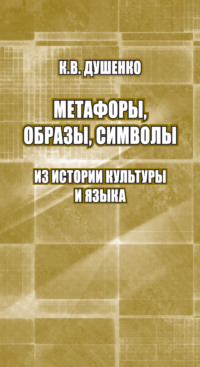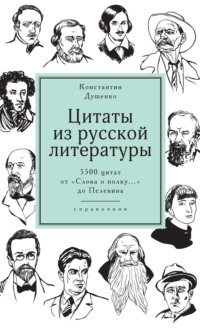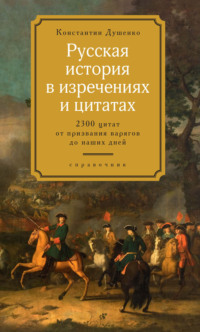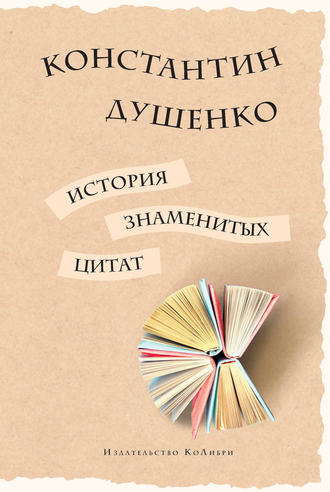
Полная версия
История знаменитых цитат
Источником второго скаутского девиза можно считать рассказ Светония об императоре Тите Флавии, правившем с 79 по 81 год н. э.: однажды за обедом, вспомнив, что за целый день он не сделал ни одного доброго дела, Тит воскликнул:
– Друзья мои, я потерял день!
Будьте бдительны!
В наше время «Будьте бдительны!» чаще всего звучит как призыв остерегаться воров и мошенников. Не так было в советское время. Тогда каждый школьник знал, что это слова Юлиуса Фучика, чешского журналиста-коммуниста.
Фучик был, разумеется, большим другом СССР. Свою книгу о Стране Советов, вышедшую в 1932 году, он озаглавил: «В стране, где наше завтра – вчерашний день». В апреле 1942 года Фучик, руководивший подпольными изданиями чехословацкой компартии, был арестован гестапо и заключен в пражскую тюрьму Панкрац. Последняя запись его тюремного дневника, сделанная 9 июня 1943 года, заканчивалась словами:
Люди, я любил вас, будьте бдительны!
Три месяца спустя автор дневника был казнен в берлинской тюрьме Плётцензее, однако дневник уцелел. В 1945 году он был опубликован под заглавием «Репортаж с петлей на шее» и переведен на 70 языков.
Советским людям довоенного поколения призыв к бдительности был знаком и раньше. В 1937 году, в разгар борьбы с «врагами народа», в Москве вышла книжка под названием «Будем бдительны! Указатель литературы по вопросам вредительско-диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов». Да и после войны фучиковский призыв использовался у нас не столько как антифашистский лозунг, сколько как страшилка против идеологического противника.
Тут мы продолжали традицию якобинцев. «Бдительность, – говорил Робеспьер, – это страж прав народа», добродетель, «необходимая для спасения свободы» (речь 18 декабря 1791 г. в Обществе друзей конституции). Синонимом «бдительности» было у него «недоверие» – «спасительное недоверие, которое является вернейшим стражем свободы» (речь в Учредительном собрании 1 сентября 1789 г.).
Неудивительно, что в 1924 году один из соратников Ленина заметил:
Недоверие к людям, т. е. критическое отношение к ним, действительно было характерно для Ленина, руководившегося в жизни принципом Робеспьера: «Основная добродетель гражданина есть недоверие».
(А. Мартынов в предисловии к книге Л. Мартова «Записки социал-демократа»)Отсюда уже недалеко и до сталинской фразы, приведенной в книге Анри Барбюса «Сталин» (1935):
– Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы.
Кумиром самого Робеспьера был Демосфен, которому Плутарх приписывал изречение: «Лучшее ограждение от тиранов – недоверие граждан». Это краткая версия фрагмента из «Второй речи против Филиппа Македонского», произнесенной Демосфеном в 344 году до н. э.:
Но есть одна вещь, общая у всех разумных людей, которую природа имеет сама по себе как оборонительное оружие; она хороша и спасительна для всех, а особенно для демократических государств против тиранов. Что же это такое? Это – недоверие.
(Перевод С. Радцига)Однако формула «Будьте бдительны» не принадлежит Демосфену. Она восходит к новозаветному выражению «Бодрствуйте!» (на латыни: «Estote vigilate»), например: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, диавол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1-е послание Петра, 5:8).
Не следует думать, что бдительность – понятие исключительно якобинское или большевистское. На эмблеме Верховного штаба Объединенных вооруженных сил Европы (т. е. НАТО) помещен латинский девиз:
VIGILIA PRETIUM LIBERTATIS
(Бдительность – цена свободы)
Этот девиз был принят в 1952 году, при первом Верховном главнокомандующем ОВС Европы Дуайте Эйзенхауэре.
Он представляет собой латинскую версию английского изречения «Eternal vigilance is the price of liberty» – «Цена свободы – неустанная бдительность». Изречение это появилось не позднее 1833 года; оно приписывалось Томасу Пейну, Томасу Джефферсону и другим лидерам американской революции. Президент США Эндрю Джексон в своем прощальном обращении к нации от 4 марта 1837 года сказал:
– Вечная бдительность народа – вот цена свободы.
Всё это – варианты высказывания ирландского судьи и оратора Джона Филпота Кёррана. Выступая в Дублине 10 июля 1790 года, он заявил:
– Условие, при котором Бог даровал человеку свободу, – это неустанная бдительность.
В 1937 году вечный борец за свободу Джордж Оруэлл заметил:
Порою мне кажется, что цена свободы – не столько вечная бдительность, сколько вечная грязь.
(«Дорога к пирсу Уигана», гл. 4)Важно заметить, что в англо-американской традиции (как и у Демосфена) бдительность есть недоверие к власти, а вовсе не к собственным гражданам, как это было у нас при Сталине, да и не только при нем. Именно об этом говорил британский писатель Норман Дуглас:
Недоверие к власти должно быть первейшим гражданским долгом.
(«В одиночестве» (1922), книга путевых очерков)Буря в стакане воды
В справочнике Ашукиных «Крылатые слова» это выражение толкуется как «большое волнение по ничтожному поводу», а его автором назван Шарль Монтескье. Эту версию Ашукины взяли из немецкого справочника Георга Бюхмана «Крылатые слова». Правда, Ашукины, вслед за справочником Бюхмана, сообщают также, что император Павел I, будучи еще наследником трона, назвал «бурей в стакане воды» волнения в Женеве.
Монтескье умер в 1755 году, когда Павел был годовалым младенцем, стало быть, приоритет принадлежит французскому мыслителю, не так ли?
Нет, не так. Единственный довод в пользу авторства Монтескье – цитата из романа Бальзака «Турский священник» (1832):
…Буря в стакане воды, как некогда выразился Монтескье по поводу республики Сан-Марино, где лица, стоявшие у кормила правления, сменялись чуть ли не каждый день, так легко было там завладеть тиранической властью.
(Перевод И. Грушецкой)Но это ошибка великого романиста. Монтескье этого не писал, да и не мог написать – в Сан-Марино тиранической власти никогда не было.
Французское выражение «буря в стакане воды» («une tempête dans un verre d’eau») возникло уже после смерти Монтескье. Первоначально оно было оборотом политического языка и означало «большие волнения в маленьком государстве»; отсюда у Бальзака и появилось Сан-Марино. В XIX веке это выражение нередко приписывалась Вольтеру, иногда – прусскому королю Фридриху Великому и еще нескольким лицам.
Английская версия этого выражения – «a tempest in a teapot» («буря в заварочном чайнике») – в начале XIX века приписывалась барону Эдуарду Сэрлоу, который в 1778–1792 гг. занимал пост лорда-канцлера. Так он будто бы отозвался о волнениях на острове Мэн. Мэн – маленький остров в Ирландском море с одним из старейших парламентов в мире. Это не часть Великобритании, а лишь владение британской короны.
Но в самых авторитетных французских и английских справочниках XIX – начала XX века автором «бури в стакане воды» именуется все-таки наш соотечественник Павел I. Справочник «Geflügelte Worte» («Крылатые слова»), на который ссылались Ашукины, до сих пор выходит под именем Георга Бюхмана, умершего в 1884 году. Но указание на авторство Монтескье появилось уже в посмертных изданиях справочника, сам же Бюхман держался версии об авторстве Павла I.
У нас того же мнения был князь Петр Андреевич Вяземский:
При Павле, тогда еще великом князе, толковали много о Женевских возмущениях: да перестаньте, – сказал он, – говорить о буре в стакане воды.
(«Записная книжка 1813–1848 гг.»)«Женевские возмущения» – это т. н. «Женевская революция» 1781–1782 гг. К тому времени демократическое устройство Женевской республики превратилось в аристократическое. Полноправными гражданами были лишь потомки старинных женевских родов. В феврале 1781 года «неграждане» заняли город и провозгласили равенство прав всех жителей республики. «Старые» граждане призвали на помощь Версаль. Три армии – французская, сардинская и бернская – осадили Женеву, и 2 июля 1782 года городская аристократия вернулась к власти.
Как раз в это время великий князь Павел Петрович совершал путешествие по Европе. Встречи наследника русского престола с европейскими монархами носили неофициальный характер, поэтому цесаревич с женой, великой княгиней Марией Федоровной, путешествовали под именами графа и графини Северных.
20 мая 1782 года «граф Северный» был представлен Людовику XVI и Марии Антуанетте. 8 июня для великокняжеской четы был устроен в Версале торжественный прощальный прием с оперным спектаклем, балетом и обедом на 300 персон.
По свидетельству современников, «граф Северный» проявлял живой интерес к наукам и искусствам, превосходно говорил по-французски и владел искусством светской беседы. Когда Людовик XVI в разговоре с ним упомянул о волнениях в Женеве, Павел ответил:
– Ваше Величество, для Вас это буря в стакане воды.
Реплика Павла появилась в журнале «Литературная корреспонденция» Мельхиора Гримма (одного из «братьев Гримм») за июнь 1782 года, т. е. вскоре после приема в Версале. Этот журнал, переписывавшийся от руки, рассылался европейским государям и был для них важным источником сведений о французских делах, так что слова «о буре в стакане воды» сразу же стали известны при европейских дворах, включая русский.
В печати упоминание о «буре в стакане воды» появилось год спустя, в «Политических анналах» С. Н. Ленге, знаменитого в то время французского публициста. В девятом томе «Анналов» (1783) Ленге опубликовал «Обращение к подписчикам». Здесь, среди прочих европейских событий, говорилось о революции в Женевской республике:
…Буря, поднятая в стакане воды, как ее весьма остроумно назвал наследник одной из величайших европейских монархий [т. е. цесаревич Павел Петрович].
В самом ли деле это выражение принадлежало Павлу или было приписано ему парижскими остроумцами? Вопрос остается открытым. Подлинность диалога Людовика XVI с «графом Северным», приведенного в «Корреспонденции» Гримма, вызывает сомнения. Едва ли французский король стал бы на торжественном приеме обсуждать с русским цесаревичем волнения в Женеве. К тому же никто из других современников, приписывающих эту фразу Павлу, не упоминает Людовика XVI. Однако эти слова могли быть сказаны Павлом в беседе с кем-то из других лиц, с которыми он встречался в Париже.
В XIX веке был обнаружен античный предшественник «бури в стакане воды» – латинская поговорка «поднимать волну в черпаке (ковшике)» («…fluctus in simpulo»), приведенная в трактате Цицерона «О законах».
Однако оборот «fluctus in simpulo» не относился к числу общеизвестных и встречался исключительно в текстах, написанных на латыни. Выражение «буря в стакане воды» при своем появлении воспринималось как новое и остроумное, в том числе людьми образованными (что предполагало тогда хорошее знание латыни и знакомство с основными трактатами Цицерона). Отсюда следует, что они не считали «бурю в стакане воды» переводом латинского оборота.
Единственный известный мне аналог этого выражения в новых языках до 1782 года – английский оборот «a storm in a cream bowl» – «буря в чашке со сливками». Он встречается в письме Джеймса Батлера, герцога Ормондского, к герцогу Арлингтонскому от 28 декабря 1678 года: «Наша перепалка [с лордом Оррери], кажется, подходит к концу, и по сравнению с нынешними большими событиями это всего лишь буря в чашке со сливками». Больше это выражение не встречается вплоть до начала XX века, когда письмо герцога Ормондского появилось в печати («Calendar of the manuscripts of the Marquess of Ormonde, K. P.», 1906, т. 4).
На протяжении полувека выражение «Буря в стакане воды» воспринималось как остроумная историческая фраза. И лишь потом оно утратило авторство, а его значение свелось к значению латинского «fluctus in simpulo» – «большое волнение по ничтожному поводу».
Как видим, Павел имеет куда больше оснований притязать на авторство «Бури в стакане воды», чем Вольтер, Монтескье или Фридрих Великий. Пусть вспомнят об этом биографы несчастного императора.
Бывали хуже времена, но не было подлей
В 1929 году журнал «30 дней» опубликовал главу, не включенную в текст романа «Двенадцать стульев». Глава называлась «Прошлое регистратора ЗАГСа». Здесь рассказывалось, как в 1913 году уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов явился в кафешантан «Сальве», ведя под руки двух совершенно голых дам.
Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцать пять рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождения предводителя». (…)
Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей».
И точно: это одна из самых заезженных фраз дореволюционной публицистики.
Знаменитое некрасовское двустишие появилось во вступлении к I части его поэмы «Современники» (1875):
Я книгу взял, восстав от сна,И прочитал я в ней:«Бывали хуже времена,Но не было подлей!»Швырнул далеко книгу я.Ужели мы с тобойТакого века сыновья,О друг – читатель мой?..Как видим, двустишие здесь закавычено.
Дело в том, что Некрасов переложил в стихи фрагмент из рассказа Н. Д. Хвощинской-Зайончковской «Счастливые люди». Рассказ появился годом раньше в журнале «Современник» под псевдонимом «В. Крестовский». Один из персонажей, воспитанный на идеалах «эпохи великих реформ» 1860-х годов, замечает:
– Черт знает, что из нас делается. Огорчаемся с зависти, утешаемся ненавистью, мельчаем – хоть в микроскоп нас разглядывай! Чувствуем, что падаем, и сами над собой смеемся… А? правда? были времена хуже – подлее не бывало!
Хвощинская услышала эту жалобу от критика Степана Семеновича Дудышкина в апреле 1866 года, вскоре после покушения Дмитрия Каракозова на Александра II и начавшегося в связи с этим «завинчивания гаек». Беседуя с мужем Хвощинской, Дудышкин сказал:
– …Видал [времена] и тяжелее настоящего, но подлее не было.
Эти слова приведены в письме Хвощинской к Ольге Новиковой от 29/16 мая 1869 года.
Некрасовская сентенция не раз подвергалась критике. В книге «Основы народничества» (т. 2, 1893) Иосиф Иванович Каблиц писал: «…Обычным идеализированием прошлого являются отзывы современников об этом прошлом. Известно, что выражение: “Бывали хуже времена, но не было подлей” – было излюбленным именно людьми шестидесятых годов».
В 1889 году 18-летний Бунин ненадолго поселился у брата в Харькове. Согласно биографии писателя, написанной его женой, местная радикальная молодежь интересовала его, но по культуре была ему чужда. «Задевал его и язык их, (…) бледный, безобразный, испещренный иностранными словами и (…) повторением одних и тех же фраз, например: “чем ночь темней, тем ярче звезды” или “бывали хуже времена, но не было подлей”, “третьего не дано”… и так далее».
В советское время некрасовское двустишие могло цитироваться лишь в сугубо историческом контексте. Зато теперь оно популярно не менее, чем во времена молодости Ипполита Матвеевича.
Бывшее сделать небывшим,
или Парадоксы всемогущества
«А может ли Бог бывшее сделать небывшим?» – таков один из парадоксов о всемогуществе Божием.
Греки и римляне знали совершенно точно: не может. Это положение мы находим уже у Феогнида в VI в. до н. э.: «Невозможно бывшее сделать небывшим» («Элегии», 583).
Аристотель цитировал изречение афинского драматурга-трагика Агафона (V в. до н. э.):
Ведь только одного и богу не дано:Не бывшим сделать то, что было сделано.(Перевод Н. В. Брагинской)Детальный перечень невозможного для богов представил Плиний Старший, римский ученый-энциклопедист I века н. э. («Естественная история», II, 27). В XVI веке этот перечень цитировал Мишель Монтень:
Для человека немалое утешение видеть, что бог не все может: так, он не может покончить с собой, когда ему захочется, что является наибольшим благом в нашем положении; не может сделать смертных бессмертными; не может воскресить мертвого; не может сделать жившего нежившим, а того, кому воздавались почести, не получавшим их, – так как он не имеет никакой иной власти над прошлым, кроме забвения.
(«Опыты», I, 22)И, конечно, даже боги не могут нарушить законы логики и математики: «Бог не может сделать, чтобы дважды десять не было двадцатью», – замечает Плиний. В 1625 году голландец Гуго Гроций изложил ту же мысль в современной форме: «Даже Бог не может сделать, чтобы дважды два не было четыре» («О праве войны и мира», I, 1, 10).
Для христианских мыслителей это было не столь очевидно. Итальянский кардинал XI века Петр Дамиани в трактате «О божественном всемогуществе» заявил: «Бог (…) может сделать бывшее небывшим».
Автор трактата возражал одному из отцов западной Церкви Иерониму Стридонскому, который считал, что «хотя и все может Бог, не может восстановить деву после падения ее» («Письма», 22, 5; перевод И. Купреевой).
Петр Дамиани, напротив, писал:
Признаю и, не боясь никаких возражений насмешливых спорщиков, утверждаю без колебаний: может всемогущий Бог всякой многобрачной вернуть девственность, восстановить в самом ее теле знак невинности, с которым вышла она из чрева матери
(Перевод И. Купреевой)Этого мало: Бог может сделать так, чтобы Рим, основанный в древние времена, не был основан, – потому что Бог не связан ни законами природы, ни законами логики.
У позднейших церковных авторитетов этот тезис признания не нашел. Фома Аквинский учил:
…То, что несет в себе противоречие, не подпадает под всемогущество Бога. Но то, что произошедшее не произошло, подразумевает противоречие.
(«Сумма теологии» (1265–1274), I, 25, 4; перевод С. Еремеевой)Того же мнения держался великий математик и богослов Готфрид Лейбниц:
Бог, будучи высочайше премудрым, не может отступить от сохранения известных законов и не может не действовать согласно правилам, как физическим, так и моральным, которые избрала его премудрость.
(«Опыты теодицеи» (1710), I, 28; перевод К. Истомина)И все же некоторые позднейшие мыслители, в том числе Кьеркегор и Лев Шестов, вернулись к тезису Петра Дамиани: законы нашей логики Богу не писаны, иначе вера как таковая теряет смысл. Тут уместно процитировать Тургенева:
О чем бы ни молился человек – он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: «Великий Боже, сделай, чтобы дважды два – не было четыре!»
(Стихотворение в прозе «Молитва», 1881)Существует множество формулировок парадокса о всемогуществе Божием. Из них едва ли не самый известный – парадокс о камне: «Может ли Бог создать камень, который он сам не в силах поднять?» Этот парадокс появился лишь в XIX веке, хотя уже в XIV веке итальянец Григорий из Римини доказывал, что Бог может создать бесконечно большое по величине тело.
В «Воспоминаниях» Лидии Ивановой приводится ответ ее отца, поэта-символиста Вячеслава Иванова, на этот хитрый вопрос:
– Бог не только может, Он уже создал такой камень. Это есть человек с его свободной волей.
В наше время «бывшее сделать небывшим» чаще всего означает исправление истории задним числом. Поэтому закончу афоризмом из «Дневника» английского писателя Сэмюэла Батлера (1835–1902):
Бог не может изменить прошлое, но историки могут. И должно быть, как раз потому, что иногда они оказывают эту услугу, Бог терпит их существование.
В борьбе обретешь ты право свое
В главе 9 «Двенадцати стульев» читаем:
– Этот ребус трудненько будет разгадать, – говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. – Придется вам посидеть над ним!
– Придется, придется, – ответил Корейко с усмешкой, – только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а! Есть! Готово! «В борьбе обретешь ты право свое»? (…) А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?
– Для печати.
– И совершенно напрасно, – сказал Корейко (…). – «В борьбе обретешь ты право свое» – это эсеровский лозунг. Для печати не годится.
– Ах ты боже мой! – застонал старик. – Царица небесная!
До большевистского переворота социалисты-революционеры (эсеры) были самой многочисленной и самой влиятельной революционной партией, а с весны по октябрь 1917-го – фактически правящей. Девиз «В борьбе обретешь ты право свое» печатался в их газетах, листовках, помещался на знаменах и прочей символике. Его знал чуть ли не каждый, кто в сознательном возрасте встретил Февральскую революцию. По известности он соперничал с лозунгом большевиков и меньшевиков «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». И то, что Синицкий его не знал, говорит о его абсолютном политическом невежестве.
Эсеровский девиз впервые появился в январе 1902 года в газете «Революционная Россия» – центральном органе партии. Однако взят он был не из сочинения какого-нибудь социалиста-революционера. Это эпиграф к книге выдающегося немецкого правоведа Рудольфа фон Иеринга «Борьба за право»:
Im Kampfe sollst du dein Recht finden.
Трактат Иеринга, опубликованный в 1872 году, два года спустя вышел в России в переводе П. П. Волкова.
Главные идеи трактата актуальны и в наше время: «Право есть непрерывная работа, притом не одной только государственной власти, но всего народа»; «Защита права есть обязанность перед обществом»; «Кто защищает свое право, тот (…) защищает право вообще».
Понятно, что Иеринг не мог одобрить борьбу за право насильственными методами. Эсеры, напротив, не собирались «бороться за право» с помощью легальных юридических механизмов. Как раз в 1902 году была создана их Боевая организация, развернувшая масштабный террор против представителей власти.
До московского восстания левых эсеров в июле 1918-го эсеровский лозунг использовался в Советской России наравне с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
С лета 1918 года под лозунгом «В борьбе обретешь ты право свое!» эсеры боролись против большевиков в Гражданской войне. Во время Антоновского восстания в Тамбовской губернии 1920–1921 гг. к этому лозунгу был добавлен другой: «Долой власть насильников-коммунистов!»
В октябре 1917-го режиссер Е. Петров-Краевский по заказу частной фирмы снимал в Петрограде фильм-хронику «В борьбе обретешь ты право свое». Фильм не был закончен из-за Октябрьского переворота. А в 2007 году под тем же названием в Москве был показан документальный фильм Якова Назарова. Здесь уже речь шла о борьбе «отказника» Иосифа Бегуна за право выезда в Израиль.
В окопах нет атеистов
«Не бывает атеистов в окопах под огнем», – пел основатель рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов (песня «Про дурачка», 1990). Тогда это изречение было у нас новинкой.
Автором фразы «В окопах нет атеистов» обычно считается Уильям Каммингз, капеллан армии США. Согласно книге Карлоса Ромуло «Я видел падение Филиппин» (1943), Каммингз привел ее в своей проповеди, прочитанной в начале 1942 года в осажденной японцами крепости Батаан на Филиппинах.
Однако на сайте «Quoteinvestigator» («Расследователь цитат») указаны более ранние источники. В ноябре 1914 года, через полгода после начала Первой мировой войны, провинциальная английская газета «The Western Times» поместила отчет о поминальной службе в честь павшего на фронте солдата. Проповедник цитировал письмо неизвестного армейского капеллана:
У нас в окопах нет атеистов. Люди не стыдятся признаться в том, что, хотя прежде они никогда не молились, теперь они молятся всем своим сердцем.
Это изречение, вероятно, появилось на фронте. В годы Первой мировой оно не раз повторялось в англоязычной печати. В феврале 1918 года американский журнал «St. Andrew’s Cross» привел слова молодого офицера, сражавшегося во Фландрии: «Уже в полумиле от линии траншей нет ни одного атеиста».
Вторично эта фраза родилась в уже упомянутой крепости Батаан, причем первоначально имя Каммингза не упоминалось. В апреле 1942 года изречение цитировалось со ссылкой на некоего сержанта из гарнизона крепости. А в июле журнал «Ридер дайджест» опубликовал более подробный рассказ офицера Уоррена Клира:
Я помню, как прыгнул в окоп во время особенно жестокого авианалета. Находившийся там сержант присел, чтобы освободить мне место. Тут весь мой ужас вырвался на свободу, и я не удивился, обнаружив, что молюсь вслух. И сержант, как я слышал, молился тоже. Когда налет кончился, я сказал:
– Сержант, я заметил, что вы молились.
– Да, сэр, – отвечал он, ничуть не смутившись, – но в окопах нет атеистов.
К тому времени фраза слегка изменилась: в годы Первой мировой окопы именовались trenches, что означает еще и траншеи. Во Вторую мировую войну в армии США обычным был индивидуальный окоп – foxhole (буквально: лисья нора); он-то и заменил первоначальное trenches в изречении об окопах и атеистах: «There are no atheists in foxholes».