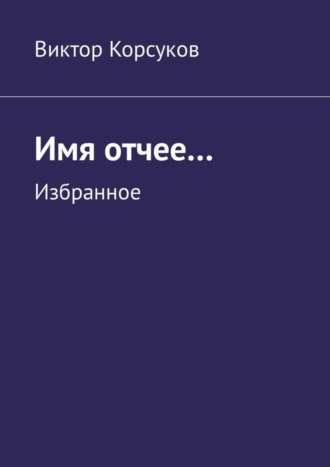
Полная версия
Имя отчее… Избранное
Генка хороший был, безобидный. Не объедал, постель не пролеживал и работник – ничего себе. Все больше Степану подсобничал. А ничего, хорошо.
Ровно три года и восемь месяцев прожил он у Степана и помер. Своей смертью. Червь, видать, нутряной точил парня. Он уже последнее время на завалинке сидел, желтый весь, в валенках. К солнышку шею протянет и греется, прикрыв глаза. Вскорости и помер. По весне как раз. Жалко Генку. Хоть и дурачок, а славный мальчишка. Так до конца мальчишкой и остался. Глаза особенно ребяческие, светлые.
Степка больно уж горевал, все думал, будто бы это он Генке жизнь скоротил. А может, и так. До сих пор мается.
Дед досказал и отвернулся к окну. Лоб и глаза ладонью прикрыл. Крепкий, кряжистый старик, ладонь с лопату, наверное. Здоровый старик. А тут и моя остановка. Я вышел.
Посидел ещё на перронной скамеечке, вспоминая детали дедова рассказа. Не забыть бы. Нет, не забуду.
Все мы кажемся себе добрыми да правыми. А всегда ли? Это только думается, что всегда. Кто-то нам жизнь укорачивает, мы кому-то. «Чаянно» или нечаянно, а укорачиваем же.
Да, вот тебе и Пронька, черт побери. Вот тебе и старичок – ладонь с лопату.
Паромщик
А ночью река отдыхает. Намается за день, с моторками да купальщиками, а к закату отходит. Бурчит, журчит потихонечку. Лизнет ленивой волной прибрежный галечник и с шепоточком отвалит. Потом опять. Еще по баркасу несильно стучит, подталкивает его, трос натягивает. Сердится.
Хорошо ночью.
Ефим Григорьевич, паромщик, сидит на лавке рядом с лебедочной. Покуривает. Тоже устал. У ног паромщика лохматая серая дворняга. Когда на той стороне реки мимо станции проходит поезд, собака поднимает морду, прислушивается. Иногда для порядка гавкнет и снова морду на лапы. Ефим Григорьевич собаку не гонит. Привязалась бродячая, пусть. Тоже уже не молодая. И ходит за паромщиком, как и он, не торопясь. Ефим Григорьевич даже прозвища ей не дал, придумать не мог. Да и не хотел: кто ее знает, как ее раньше звали. А новое имя давать вроде неловко.
В два часа ночи, после последней электрички, оба пойдут домой. А может, и не пойдут, а заночуют здесь же, в лебедочной. Все равно ведь с утра к парому. В поселке, правда, его так не называют – паромом. Называют – баркас. Но Ефим Григорьевич – паромщик.
– Ну что, Барбос, башкой вертишь? – паромщик легонько тычет сапогом в собачий бок.
Собака стучит хвостом по настилу и глядит на своего нынешнего хозяина. Хозяин сощурился, подмигнул.
– Посидим, подождем. Мишка грозился приехать. Пишет, жди, батя, вентеря готовь, приеду. Уже второе лето грозится. Как мать померла, так и не был. Видать, на заводе запарка. Пуски всякие, наладки-неполадки. «Нано», едрит твою.
Ефим Григорьевич умолкает и снова лезет за папироской. Собака не шелохнется, только ушами пошевеливает. А паромщик вполголоса рассказывает:
– Видал, Кащеева сегодня перевозил? Наторкался мужик по базарам. Его, толкуют, провести хотели. На огурцах. Разом хотели взять, по дешевке. Так он там такой хай поднял, весь базар сбежался. Думали, грабят. А он там огурцом размахивает. Лишнего не отдаст. Хитрый. Да кто сейчас не хитрый?! Все тянут.
Ведьмаков, смотри, раньше-то всю дорогу на Доске почета красовался, а тоже не промах. Городьбу свою каждый год переделывает. Сначала столбы вкопает, рядом со старыми, но маленько вперед. Потом решетку к новым столбам пришпандорит – и все. Тихо, вроде как незаметно, а уж с сотку прирезал, наверное. Но у него дочка – красавица. На учительницу выучилась. Счас все – «Наталья Николаевна, Наталья Николаевна». Такая телка вымахала – я те дам. Жаль, Миха ее упустил. А Витька не промахнулся. Витька да. Всю жизнь с голым пузом бегал. Пуп наизнанку. А Натаху-то хапанул. Хорошо живут. При деньгах, видать, раз такую хату отгрохал. Машинистом работает. А на тепловозах платят, слыхал, дорого.
А вот Бабаиха мучается. Тоже, ведь, у кого как. У кого все вместе, а у этой дочек по городам растащили. Беда с дочками. К Бабаихе, что ль прилепиться? Как думаешь, а, пес?
Пес поднимает одно ухо. Будто бы соглашается. Но Ефим Григорьевич вздыхает:
– Я это по молодости до баб злой был. А счас? Смотреть друг на друга и гадать, кого раньше зароют? Потом дочки у ней часто гостят. Как барыня с ними по деревне ходит. Гусыня. Ладно про это.
Вот и последняя электричка отстукивает на стыках скорую дробь и исчезает за сопочкой.
Ефим Григорьевич встает. Потягивается, зевая.
– Пошли, что ли, барбос блохастый.
Поднимается и собака. Выгибает спину, тоже зевает.
Сегодня решили в лебедочной не ночевать. Паромщик запирает ее на замок.
– Мишка-то опять не приехал. Небось что-нибудь на заводе пускают, заказы исполняют. А может, внучата хворают, – дед вздыхает, – Эх-хе. Скоко ждать-то ещё?! Некогда уж…
И оба, и человек, и собака, идут в деревню. Домой.
Машинист Николай Бабин…
Как ни странно, а поутру Николай Бабин чувствовал себя превосходно. Нигде не болело, не ломило, не дергало. И ничего, что случилось с ним ночью, хоть убей, не помнил. А ночью происходили события даже для близких ему людей страшные.
Два года назад, сбрасывая с крыши снег, он оступился и с этой крыши слетел. Слетел неудачно. Сломал руку и получил легкое сотрясение мозга. Как раз с этого-то времени все и началось. Может, от падения, а может, так судьбой было предписано, а превратился машинист маневрового тепловоза Николай Бабин в лунатика. Правда, лунатиком не таким, чтобы там по карнизам лазить, по чердакам, нет. Лунатиком он был тихим, что никак не соответствовало его крепкой высокорослой фигуре. Даже странно – такой большой дядя и такой тихий лунатик. Вообще-то Бабин любил порядок, организованность и дисциплину. К этому приучил его отец, который тоже был машинистом, к этому приучила работа на тепловозе.
Начиналось все так. Часам к двенадцати, к часу, когда сон уводил его в свои закутки, Николай громко и очень отчетливо говорил, как говорил, когда начинал работу: «Ну, начали». И начинал маневрировать. Выпрастывал из-под одеяла ноги, отталкивал к стенке жену поудобнее усаживался, и выглядывая за спинку кровати, маневрировал. Причем, маневрировал здорово – и за себя, и за диспетчера.
– Шестьдесят пятый, Бабин! – это диспетчер.
– Слушаю, шестьдесят пятый! – это Бабин.
– На седьмой путь контейнеры! – это опять диспетчер.
– Понял. На седьмой путь контейнеры, – говорил он в кулак.
Радиосвязь была четкой. Николай улыбался и ехал на седьмой путь, облокотившись на ту же кроватную спинку, из-за которой выглядывал. Потом диспетчер командовал ехать по двадцать первому пути на контейнерную базу, и Бабин ехал на контейнерную. Ехал, отвечал на команды, возвращался, опять ехал. В общем, каждую ночь от отрабатывал очень аккуратно часа по два, два с половиной. После маневров – под одеяло и спокойненько досыпал остаток ночи. А утром – как стеклышко. Причем, когда Николай приходил с настоящей ночной смены и ложился отдыхать днем, ничего подобного с ним не случалось. Поэтому жена, так и не привыкшая к ночным выходкам мужа, решила, что он лунатик. Она боялась, что когда-нибудь случится авария, и потому во время маневрирования всегда сидела рядышком с мужем, словно помощник машиниста. Но муж работал безаварийно. А она все боялась. При авариях же обычно в окошко выпрыгивают. Утром жена со слезами рассказывала Николаю о его работе. Тот не верил и кипятился:
– Да не может быть! Надь, ведь я же должен помнить-то! Хоть кусочек. Я же не помню, Надь!
Надежда в ответ плакала и упрашивала Николая сходить к врачу. Николай не шел.
– Чего ради? Засмеют ведь. Меня же перед работой всегда проверяют. Заметили бы, наверное.
– Ты же там не спишь! Как ты этого то не поймешь?!
– Все, – твёрдо говорил Николай и уходил на работу. Как-то после особенно изнурительной ночи жена не выдержала. Проводив Николая в день, она пошла к свекрови и все ей рассказала. О всех своих двухгодичных железнодорожных курсах. Свекровь, конечно, разволновалась.
– Ну что же ты, Надя, а? Раньше надо было. Эк затянулась болезнь-то. Подумать только. Эх вы, чучелы огородные.
– Я поначалу думала, что пройдет. А потом – стыдно ведь, мам.
Разговор шел на кухне, где сосед свекрови, некто Анатолий Пуков, чинил водопроводный кран. Когда женщины закончили разговор, условившись, что уговорят «лунатика» сходить к психиатру, Пуков громко усмехнулся:
– К психиатру хотите, значит? Валяйте. Только упрячут Колюху вашего месяцев на шесть и справочку выдадут потом, махонькую такую справочку со словом «псих». И не видеть тебе, Надюшенька, денежек, которые мужик тебе носит. Шиш.
И он показал ей шиш. Женщины, конечно, испугались и задумались.
– Вот что, – заговорщицки прошептал Анатолий и сунул свою тощую конопатую физиономию меж голов испуганных женщин. Обеих же приобнял. – У нас в армии тоже лунатик был. Тот, всё по казарме строевым шагом наяривал. В трусах, блин, но в сапогах. Шарахнется лбом о стенку и в обратную сторону поворачивает. Чутья у него никакого не было. Все время то с синяком, то с шишкой ходил. Бился – страсть как. Но у нас старшина был. Невзоров. Мастак – на все пять. Он и вылечил. Лунатиков, оказывается, испугом лечить надо. Только напугать надо вовремя. Если его на крыше пугнешь или на проволоке, они, бывает, ходят по проволоке-то, тогда, считай, хана. Упадет вдребезги. Надо момент выждать.
– Ты уж, Анатолий, давай покороче. Не пугай уж. Он ведь сын мой да муж вон ее, – свекровь показала на Надежду. Та кивнула и объяснила:
– Он по проволоке не ходит. Он на кровати сидит. Спокойный.
– Вот это и надо. Так я и не дорассказал. Невзоров выждал момент и вылил на лунатика ведро воды. Полное, блин. Тот проснулся – и все. Больше лунатить перестал наглухо. Позаикался, правда, месяца три – и все. Зато человек.
– Где же нам Невзорова-то твоего взять? – забеспокоилась свекровь.
– Зачем он нужен? – Пуков, казалось, обиделся. – Это же просто. Как синхрофазотрон. Я сам уже шестерых вылечил. Не вру. – он чиркнул пальцем по горлу.
Женщины, не испугались, но приумолкли.
– Тазик есть? – спросил Пуков.
– Эмалированный или…
– Цинковый, простой, – перебил «лекарь».
– Есть. Только он не чистый. Я полы из него мою.
– Плевать, – сказал Пуков. – И молоток приготовь.
Тут встряла свекровь.
– Ты что удумал? Анатолий, смотри…, сын он мне, понял? – грозно предупредила она.
Электрик поднял ладони вверх и произнёс: «П-с-с-с, девочки, без паники».
– Во сколько лечить начинаем? – как главврач, строго спросил он.
– Часов в двенадцать. Ночи. Я как занавески раздвину, ты и заходи. Дверь открою.
– Ладно. Но чем позже – тем дороже, – поставил условие «лекарь» и скоро ушел.
Когда Надежда возвратилась от свекрови, Николай был дома и смотрел телевизор. Жена села рядом. Показывали про летчиков. Комментатор в конце сказал очень, красивую фразу: «Тот, кто хоть раз ощутил полёт, обязательно захочет ещё и ещё раз ощутить это незабываемое чувство».
Николай вспомнил крышу, вспомнил полет, чувство этого полета и почему-то разозлился и выключил телевизор.
– Захочет, не захочет. Полет! – бубнил он. – Еще раз. На-кося, – он протянул в сторону телевизора кукиш.
Надежда, следившая за мужем, тихо порадовалась:
«Это даже к лучшему, что вспомнил, уложить бы теперь пораньше.»
Легли как обычно. И, как обычно, к двенадцати, Николай произнес: «Ну, начали!»
Надежда раздвинула занавески и зажгла свечу. Вошел Пуков. Он недолго постоял на пороге и, когда глаза привыкли к полутьме, тихо скомандовал:
– Инструмент.
Надежда вручила ему оцинкованный тазик и молоток. Лекарь, крадучись, подошел к машинисту, у которого работа только-только начиналась. Поднял над головой лунатика таз и, размахнувшись, треснул по нему молотком. Николай встрепенулся, завертел головой, остановил взгляд на Пукове и с криком: «Куда в кабину лезешь?!» – блызнул лекаря в лоб.
Анатолий Пуков упал и с хорошей скоростью заскользил к серванту. Если комната была бы, например, как кинотеатр, Пуков, надо думать, ехал бы через весь кинотеатр. Но сервант погасил скорость лекаря, и он остановился. Малиновым звоном отозвался хрусталь, и глухо шлепнулась какая-то керамическая посудина. А оглушенный машинист упорно и зло допрашивал диспетчера:
– Диспетчер! Что случилось? Сход, что ли? Диспетчер, але, сход что ли? Диспетчер! – крикнул он.
Диспетчер не отвечал. Николай подул в кулак, радиосвязь не работала. Он тяжело вздохнул и устремил свой мутный-мутный взор на ополоумевшую жену. Тихо спросил:
– Сход, что ли, а, Надь? – Он уже почти проснулся.
У жены сами по себе текли слезы.
– Нет схода, Коля, – всхлипывая, сказала она, – все вагоны на месте. Видишь, состав стоит.
Николай оглядел комнату, но кроме стонущего Пукова никакого состава не заметил.
– А этот что здесь? Чего ты здесь делаешь, мормышка обсосанная?
– Ничего!, – Пуков встал и, потирая виски, сел за стол у окошка. Надежда включила свет и загасила свечку.
– Ну, язви тя! Никто еще так не реагировал. Скольких уже вылечил, а этот. Тьфу! «В кабину не лезь», – передразнил он машиниста. – Нужен мне твой тепловоз, как попу гармошка, понял?! В кабину, видишь ли, к нему полезли, – он обиженно взмахнул руками. – Чего у тебя брать-то там? Колесо запасное?
– Не положено посторонним, – профессионально ответствовал Николай, словно и впрямь сидел в кабине своего тепловоза. – По инструкции не положено. Всё!!! – громко отрезал он и треснул кулаком по столешнице..
Пуков выбежал из кабины, простите, из квартиры, громко хлопнув дверью. Николай достал из холодильника бутылку молока и, не отрываясь, выпил. Потом закурил, сел за стол и спросил:
– Чего это он?
– Тебя, дурака полуношного, лечил. Хватит. Сколько можно маневрировать-то. Два года уж. – Она заплакала взахлеб.
Николай сел рядом с женой, обнял и стал ласково успокаивать.
Эту ночь спали спокойно. Может, лечение помогло. А, может, на станции вагонов не было или обеденный перерыв. Во всяком случае, давно так спокойно не спали. Очень давно. Всю ночь.
Даёшь Мацесту…
– Ничего у вас, товарищ Шаврин, страшного нет. Так сказать – никаких патологий, не обнаружено. – Невропатолог толчком пальца поправил большие очки. – А гипертония ваша, по всей видимости, невротического характера. На курорт бы вам съездить, а? Были когда-нибудь на курорте? В Мацесте, например?
– Нет, – сказал Генка, – в Мацесте я не был. В Москве был. Проездом. А вот когда я был в Тамбове, – воодушевился гипертоник, – так там в одном ресторане, на вокзале, мне принесли котлету…, – и он подробнейшим образом рассказал о той котлете всё что знал. Как разведчик о своём задании.
Доктор терпеливо выслушал его и улыбнулся.
– В Тамбове – это здорово. Ну, а в Мацесту, значит, судьба не закидывала.
– Не закидывала.
– Прекрасно, – доктор похлопал Генку по плечу. И опять ткнул пальцем очки. – Вот вам направление, в регистратуре поставьте еще одну печать – и вперед. Даешь Мацесту! – призывно сказал он и пожал Генке руку.
Генка, конечно, обрадовался. Приехал в совхоз и понес справку в профком. Даже домой не зашел. «Декабрь месяц – это тебе не лето, съездить можно. Зойка против не будет, – думал он. – Приду домой и скажу, что больной я и край как надо в Мацесту».
Зоя стала Генкиной женой полгода назад и пока что ему не перечила. Поэтому-то он сразу и пошел в профком.
Дверь к секретарю была распахнута, и Генка прямым ходом «дунул» к столу и вручил секретарше справку. Тамара Васильевна подняла брови и громко прочла: «Нуждается в санаторно-курортном лечении. Невропатолог Угрюмов».
Помолчала, вглядываясь в счастливую Генкину физиономию, и погладила волосатую бородавку под подбородком.
– А ведь каждому встречному поперечному такой справки не выпишут, – вдруг заключила она, – Сейчас все болезни от нервов. У тебя тоже нервы или по блату?
Генку слегка покоробило от «блата», но он не обиделся.
– Какой там блат?! Просто мировой мужик этот невропатолог. Мацесту, говорит, даешь! – засмеялся Генка и резко выставил перед секретаршей большой палец.
Та вздрогнула, смутилась, отвела в сторону взгляд и произнесла: «Нервы, нервы, нервы». Будто пропела. Потом молчком, даже с опаской обошла Генку и юркнула к председателю.
Генка хмыкнул. «От – ты! Сейчас всю деревню обзвонит, стерва такая», – с досадой подумал он.
Минут через пять председатель вызвал гипертоника к себе. А секретарша к тому времени уже сидела за своим столом. Молчала.
– Не завидно? – проходя мимо нее, спросил Генка.
– Не завидно, не завидно, – отмахнулась та. – Иди с богом. Вот беда.
– Беда, – в тон повторил Генка. – Это не беда. Вот у тебя действительно горе – бородавка-то, а?
– Иди, иди! – оскорбилась секретарша. – Зато тут все нормально, – она похлопала ладошкой свой лоб. – Иди давай.
– Во! – Генка ткнул пальцем в висок. – У меня же гипертония.
– Ко-о-онечно гипертония. Дуй скорей к председателю.
Генка только головой покачал.
– До чего же вы, бабы, бестолковые, удивляюсь, язвы.
В профкоме Генка просидел долго. Занятый, издерганный председатель то сам куда-то звонил, то ему кто-то. Наконец, закончив, он еще раз прочитал Генкину справку и, вытирая взмокшую красную лысину, опять взялся за телефон.
– Да нет, – гудел он в трубку, – не надо нам в Дарасун, нет. Людмила Дмитриевна, нам только в Мацесту. Можно подумать, что мы каждый день южные путевки требуем. Разв пять лет… Да. Невропатолог. Токарь. Лет? Сколько тебе лет? – спросил он у Генки, прикрывая трубку ладонью.
– Двадцать четыре, скоро двадцать пять. Через месяц.
– Двадцать пять. Да, Шаврин, Шэ, шэ, «школа». Правильно. Ну, спасибочки. Вот, брат, как получается. Каждый день так. Уж худеть начал, – он провел руками по щекам, словно погладил школьный глобус. – Значит так, через пару деньков заходи. Будет тебе путевка, – председатель вдруг подмигнул и погрозил Генке пальцем. – У-у-ух, нервный, смотри мне.
– Да не нервный я, – начал было Генка, но председатель остановил. – Ладно, шучу. Значит, через пару деньков.
– Спасибо, – сказал Генка и выскочил на улицу. Зашел в магазин, побродил у прилавков, потом вынул мелочь и протянул продавцу.
– Отсчитай-ка. На две пачки «Беломору».
Продавец деньги взяла, но ответила:
– «Беломора» нет.
– Да вы что? – удивился он, – опять нет?
Тут к продавщице подошла другая, отвела в сторону, что-то нашептала ей на ухо и отошла. Разом все изменилось.
– Подожди, Гена, я сейчас. – Она убежала в подсобку и скоро вернулась с тремя пачками папирос. – На, последние.
– Так денег-то не хватает.
– Ой, – дружески отмахнулась она, – завтра занесёшь. Иль не свои?!
– Лады. – Генка вышел, постоял еще у магазина, обмозговывая: «С чего бы это вдруг раздобрилась? В другой бы раз так пустила б по матушке, а сейчас… Ну-ка, ну-ка…». В Генкину душу стало медленно заползать мутное подозрение. Он заскочил в магазин и, засунув руки в карманы, остановился.
– Та-а-к! – произнес он. – Вам, подружки мои, секретарша ненароком не брякала? Не информировала?
– Ну-у-у, это самое, звонила, – замялась та, что нашептывала, – по делу звонила… Ген.
Генка, шаркая валенками, подошел к прилавку, уперся в него кулаками:
– Запомните раз и навсегда. Гипертония у меня. Усвоили? Давление! – твердо повторил он. – И повышается оно от таких, как вы. – Генка вытащил из кармана лишнюю пачку папирос и хлопнул ею о прилавок. Женщины вздрогнули, а Генка развернулся и зашагал прочь.
– И правда, псих, – донеслось до него, когда двери уже закрывались. Но «псих» возвращаться не стал.
Дома он без разговоров разделся и плюхнулся на диван. Жена протирала сервант и даже не обернулась.
– Зой! Включи телевизор, – попросил Генка.
– Я уже включала, Гена, – виновато сказала она, не глядя на мужа.
– Ну, включала, ну и что? – невесело спросил он.
– Скачет все.
– Ну, бабы! – Генка встал и подозвал Зойку. – Иди сюда. Что здесь написано?
– Частота кадров, – промолвила Зоя.
– Ну, верти, верти.
Зоя несмело повернула ручку.
– Не скачет больше?
– Не скачет.
Генка отвел руку в сторону, и в сей же момент с телевизора полетел радужная стеклянная ваза с полиэтиленовыми тюльпанами. Кувшин грохнулся на пол и раскололся. Зойка сдавленно ойкнула и побежала на кухню за веником.
– Вот же падла! – Генка стоял над осколками. Что за невезуха такая!?
Жена суетливо, но ловко заметала вокруг него мелкие стекляшки. Генка же столбом, стоял на одном месте и наблюдал.
– Может мне отойти? – сощурился он.
– Ну что ты, Гена, стой, если хочешь.
– Та-а-к, – и стал отстукивать ногой какой-то недобрый ритм. – И вазу тебе, конечно, не жалко, хоть и свадебная? К счастью, да, Зоечка?
– Конечно, Ген.
– Ну что ты будешь делать!? – Он сел на диван, хлопнул себя по ляжкам. – Кто к тебе приходил? – сквозь зубы спросил он. – Кто?
– Любка, – тут же ответила жена, – забежала знаешь… я и не поняла ничего.
– Ну вот что. Садись и слушай. Да брось ты этот веник несчастный.
Веник вывалился из Зойкиных рук, а сама она села рядышком с мужем.
– Если у Любахи твоей труха в голове, ты же себя с ней не равняй. Гипертония у меня. Невротического характера. Если бы я был полудурком, меня бы в психбольницу положили, а не на курорт отправляли. Без конвоя же поеду, значит, не чокнутый. Сроду ведь чокнутым не был. Справку-то мне невропатолог выписывал, а не психиатр. Это – разные вещи, понятно?
– Да, – ответила Зойка и вдруг заплакала, причитая: – Это все Любка. Прискакала как бешеная и начала: «Ты, говорит, милого своего не беспокой, смотри. Ему нервный врач справку на лечение выписал. Во всем соглашайся, говорит, а то, не дай бог. Они ведь и буйные бывают».
Генка взорвался.
– Ох и дуры, ох и дуры же! Мамочки родные! С кем живу?!
Теперь весь поселок знал, что Генка Шаврин едет лечиться от нервов. Генка психовал, объяснял, но никто упорно не хотел его понимать. Нет, все соглашались: правильно, мол, верим тебе – гипертония, конечно. Езжай, лечись. Но Генка-то видел их глаза и понимал: беспокоить бояться. Психов же нельзя беспокоить, кто его знает, что у них на уме? Долбанет чем-нибудь по темечку – и будь здоров. Справка есть. В конце концов он на все разговоры махнул рукой.
– Деревня есть деревня, – говорил он Зойке. – Когда еще образование до них дойдет! Корову от быка отличают – и хорош. С ними и впрямь чёкнешься.
На курорт Генку провожала жена. Он мог бы и машину попросить у директора, но не стал. Уверен был, что не откажет, тоже ведь психом считает. «Одним миром мазаны, – решил он, – деревня».
Только в вагоне, в купе, он облегченно вздохнул. Попутчики, командированные в Москву парни, оказались инженерами-электронщиками. Когда Генка освоился и рассказал им историю со справкой, инженеры долго смеялись.
– Ох и влип ты, Геннадий Петрович. А что если и после курорта не поймут?
– Поймут, – уверенно отвечал Генка, – подумают, что вылечился. Это же не тяп-ляп, а курорт. Деревня, боже мой.
Настроение у курортника было отличное. Вокруг него в тесной компании сидели понимающие, умные люди. Они даже не зло подтрунивали над Генкой, по-разному обыгрывая концовку его злоключений. Генка это понимал и не обращал внимания. Скоро компания принялась играть в подкидного. При этом долговязый, с рыжими усами, Сашка, торжественно произнес:
– Готовься, Геннадий. Начинается серьезная проверка на твою… Понял? И на нашу, конечно, умственную полноценность. Готов к испытанию?
– Так точно! – по-военному отчеканил Генка, а долговязый Сашка быстро раскидал карты.
Генка пять раз подряд остался в дураках. Когда шестая партия подходила к концу, он понял, что из дураков ему не выбраться долго. Бросил большой веер атласных карт на стол и поднял руки. Три инженера рассмеялись. А у Генки вдруг задергалось левое веко, будто он им подмигивал. Генка надавил на глаз пальцем, отпустил, но тик не прекратился.
– Пойду-ка умоюсь, – он взял полотенце и пошел в туалет. Генкин тезка собрал карты и задумчиво проговорил:
– Что-то здесь не то.
– Да брось ты! – прикрикнул на него Сашка. – Что, у тебя никогда глаз не дергался?
– Дергался, – согласился тот, – но это другое дело.
– На всякий случай давайте-ка с ним полегче, – предложил третий, – и без хохмочек. Чем черт не шутит. У меня двое детей все-таки. Народу верить надо. Народ зря не скажет.
– Ну вот, все в порядке, – отворив дверь, сказал Генка и уселся на полку. – Раздавай.
Молча и очень серьезно сыграли четыре раза, и все четыре раза Генка не проиграл. Не проиграл он и пятую.
– Ну что, товарищи инженеры, – победно спросил курортник. – Почти на равных идем? А?

