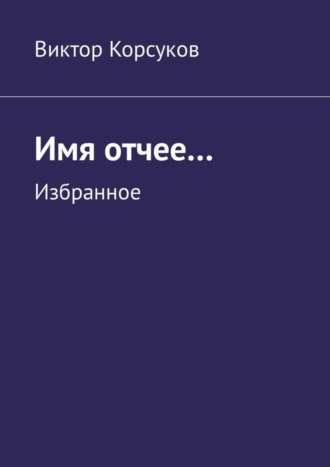
Полная версия
Имя отчее… Избранное
– Тухлое ваше дело, братва. Ты тут Испанию вспомнил. Э-э-э, милок, в Испанию можно было по суше дуть, ни одного моря на пути, одни речки. Речку, вишь, и переплыть можно. А тут океан. Не, братва, боевая задача отменяется.
Мы опустили свои головушки и очень расстроились – помочь Кубе хотелось. Дед Максим немного подождал, погладил рыжие небольшие усы и раскурил свою зверскую самокрутку. Пару раз затянулся. Мы молчали.
– Вот что, – строго сказал дед, – нюни распускать каждый может. Нечего. Раз решили помочь – помогайте. Мы придвинулись ближе.
– Как?
– Как, как? Знамо как. Напишите американцам письмо. Нет, – тут же поправил себя дед, – не американцам. Они здесь ни при чем. Президенту. Во, кому. Точно. «Так, мол, и так. Прочь, мол, а то приплывем…» Ну, ваше дело, как написать. Грамотные.
Мы, придерживая беретки, помчались сочинять письмо. Сначала с пылу да по привычке накарябали:
«Товарищ президент», но быстро сообразили, что не товарищ он нам. И долго не могли тронуться с этого места. Ни «господин», ни «сэр» не подходило. Признавать его господином казалось оскорбительным лично для нас, а называть «сэром» – смешно. Бабахнули сразу:
«Президент! Если ты думаешь, что Куба не победит, то ошибаешься. Куба победит. Лучше убери от острова свои кровавые руки. Мы – за Кубу и будем ей помогать. Весь мир тоже будет ей помогать, не беспокойся.» И закончили крупными печатными буквами: «КУБА – ДА! ЯНКИ – НЕТ!» Правда, мы плохо понимали, что значит «янки». Но в то время этот лозунг не сходил с газетных страниц, и мы решили, что «ЯНКИ – НЕТ!» – это очень здорово. «Проймет, – думали, – президента, проймет».
Дед Максим текст заявления одобрил, но посоветовал обращаться к американскому президенту на «Вы».
– Пусть он хоть и президент, – серьезно объяснял он, – с кем не бывает, а взрослый все ж человек. Может, даже не прочитает вашу писульку. Обидится. Пацаны, мол, а на «ты». Выбросит к чертям собачьим письмо, и все. А в остальном все правильно.
Мы верили деду Максиму, как себе. Послание переписали, запечатали в обыкновенный конверт и отправили в «США. Президенту США». После ходили строем по улице и распевали: «Куба, любовь моя, остров зари багровой…»
А дед Максим сидел на лавочке возле своего дома и хитро-хитро улыбался, поглаживая усы.
И еще, что я помню и уж конечно не забуду, так это кашу. Дед Максим варил ее раза три в год. По каким-то своим военным датам. И на Девятое мая. Особенно отчетливо помню Девятое мая. Помню потому, что еще накануне на избе сельсовета по углам вывешивались знамена, а над входом плакат: «Слава народу-победителю!» В сам праздник, часам к десяти, собирались фронтовики. Блестели ордена и колокольчиками звенели медали. А вот дед в этот праздник варил кашу. И мы с ним. Нет, солдатского котелка не было, это только в кино бывает. Была обыкновенная алюминиевая кастрюля. И крупу особенную дед не хранил и не покупал, варил из той, какая на данный момент имелась. Наверное, на фронте так и бывало. Перловка, значит перловую, пшенка, значит пшенную. Но зато настоящую, солдатскую, фронтовую. Каша заправлялась постным маслом. Мы ели, пили квас, вели разговор. Разговаривали больше меж собой. Дед молчал, думал о чем-то своем и поглаживал гладкие бока кружки, в которой пузырилась крутая бражка. А на его пиджаке серебрилась на полосатой колодке звезда. И хотя кроме ордена Славы у деда были и другие награды, и «За отвагу», за города, но прикреплял он почему-то только один этот орден. Видать, самым памятным был. Мы не спрашивали, знали, что бесполезное это дело – спрашивать деда о войне. Когда мы все же осмеливались и просили рассказать о фронте, дед сердился и наговаривал нам горькие и обидные слова.
– Шантрапа! – дед не кричал, говорил отрывисто, будто командовал. Глаза становились узкими и злыми. – Войну им подавай. Век бы ее не помнить, сукины дети, так нет, заноют: «Про войну, про войну». Молокососы! Нечему тут радоваться, в рассказах-то. А то ведь как расскажу – год спать не будете. Шантрапа! Ышь, войну им подавай. Что, интересно, как человек человека убивает, да? Тоже мне, разговор нашли.
При этом он так раскуривал свою самокрутку, что самосад в ней трещал и искрил, словно полешки в печке. Докуривал и мирно уже говорил:
– Вы на старика не обижайтесь. Историю лучше учите. Там все написано. А по настоящему-то… война – это страшно. Лучше не надо. Ну ее. Вот так. Я, например, до сих пор спать не могу. Всё воюю, мать её в оглоблю …войну эту. И ребят своих помню… из взвода мово… всех она забрала…, война эта. И всё! – грозил он нам пальцем, – А о войне больше-ша! Мы дружно кивали: «Понятно, мол».
А после каши дед шел к фронтовикам. Я и сейчас нет-нет да и вспомню деда Максима и его кашу. И его страшные, но не услышанные рассказы, от которых ночами не спишь. Помню трактор, на котором он работал, тяжелый, с железными колесами – «Универсал». Отрывочно помню, а помню.
Пескарь
Давно это было и словно вчера.
Еще не старый в то время учитель физики, Гарай Шарипович, носил кальсоны. Об этом знала вся школа, потому что из-под штанин учителя очень часто выскакивали и весело плясали белые тесёмочки. Гарай Шарипович быстро проходил по коридору, глядел под ноги, но тесемочек не замечал. Может быть, оттого, что на фронте он потерял правый глаз, да и одним-то видел плохо, носил очки. О предательских тесемочках ему нашептывал кто-нибудь из учителей. Тогда Гарай Шарипович сильно краснел и спешил в лаборантскую наводить порядок с блажными кальсонами. Но очень скоро две весёлые змейки вновь выползали из-под широких черных штанин. Гарай – так его звали все ученики – был смертельно предан своему предмету. Не прерви его звонок, он бы говорил, наверное, целый день. Так во всяком случае казалось.
Один раз Васька Деев сочинил стих и на перемене написал его на доске. Не ахти какое произведение. Обычная дразнилка, только чуток переиначенная.
Гарай Шарипович отреагировал неожиданно. Как будто это совсем не о нем. Словно стихотворение и не стихотворение вовсе, а решение какой-то физической задачи, и он, Гарай, нашел в ней ошибку. Он очень серьезно, несколько раз прочел написанное и недоуменно проговорил:
– При чем здесь тесемки? Тесемки какие-то. Волк. Непонятно. У вас что, литература была? Нет? Ну ладно.
Он взял тряпку и стер «феноменальный» Васькин стих. Весь класс на минуту обалдел, а Гарай стал объяснять новый материал.
Вообще, над Гараем измывались и куражились открыто. Он до того увлекался уроком, что совершенно ничего не замечал.
– И вот он самый, всемогущий ток, – любовно говорил он, – по закону великого Ома, течет по пути наименьшего сопротивления.
– Да ну? – хором удивлялись ученики.
– Да-да! – восклицал Гарай. – Именно так, – и улыбался, довольный. – А вы не верили.
– Ом – не дурак, – многозначительно говорил Павлуха Рябов.
– Ну вот еще! – Гарай обиженно хмурил брови. – Конечно, не дурак. Совсем не дурак.
Класс весело и откровенно гудел. Пределом же доблести считалось тихонько встать и незаметно подставить кулак к пустой глазнице учителя. Он и этого не замечал.,
Однажды классная руководительница привела в класс новенького. Худой, остролицый парень чем-то смахивал на пескаря. Его тут же и окрестили – Пескарь.
Пескарь молча сел туда, куда ему указала учительница, и затих. Прозвенел звонок, и в класс влетел взъерошенный Гарай со своими тесемками и с ходу начал говорить о каком-то великом открытии, сделанном нашими учеными. Не помню точно, что это было за открытие, помню только, что поймали наконец неведомую ранее элементарную частицу.
– Поймали, голубушку. Так ей. – Гарай радостно потирал руки и беспрестанно улыбался. Вот он встал посреди класса и о чем-то задумался, изредка поправляя очки. Павлуха, крадучись, подошел сзади и подставил кулак к его правому глазу. В тот же момент раздался глухой, сильный хлопок по затылку. Павлуха покачнулся, втянул голову в плечи. За его спиной стоял Пескарь с пустыми обложками от учебника физики. Класс притих, и лишь листочки развалившегося учебника, будто осенние листья, шуршали и опускались на пол. Гарай Шарипович строго глянул на новенького и выгнал его из класса.
– Ты смотри, – покачал он головой, – первый день, и так хулиганить.
Павлуха же сел за парту, колотнул крышкой и прошептал:
– Ну, Пескарь. Изметелю гада. Как пацана. И изметелил. Пескарь не дрался. Он неуклюже отмахивался, а когда у него из носа пошла кровь, Павлуху оттащили. Пескарь долго отмывался у колонки, а все пошли в класс. Потом возвратился Пескарь. Взял свою сумку и, не обращая внимания на учительницу, ушел. После уроков шумной ватагой шли на свою улицу.
– Зря ты так Пескаря. Он и драться-то не умеет. Сразу краска пошла, – сказал Васька, на что Павлуха, презрительно цвыркнув сквозь зубы, проговорил:
– В гробу я его видал, Пескаря этого. Рыпаться больше не будет. Пескарь.
Об учителе физики не говорили, какие-то «веревочки» связали слова, и о Гарае молчали. А Пескарь в школу пришел. Мы думали, что он насовсем тогда. А он пришел. Ни с кем не разговаривал, тихо отсиживал уроки и так же тихо, будто украдкой, уходил.
А еще я помню коляску. Она появилась неожиданно, из-за угла. Павлуха, Васька и я о чем-то спорили, а тут мигом примолкли. Сначала-то послышался металлический, сводящий в оскомину скулы, скрежет. Потом показался красный от натуги Пескарь. Он, словно бурлак, тяжело упираясь в податливый дорожный гравий, тащил за собой коляску. Дорогу собирались асфальтировать, и потому гравий был рассыпан широко, до асфальтового тротуара. Подшипниковые колеса, понятное дело, забивались, не крутились, а ползли по гравийке-то… И скрежетали.
На коляске, откинувшись на спинку и пристегнутый к ней же широким ремнем, спал пьяный безногий. Увидев одноклассников, Пескарь остановился. Еще больше покраснел, зло закусил губы и, ухватившись за бечеву обеими руками, поволок коляску к тротуару. Хорошо помню, как скользили по камешкам ноги Пескаря и как подрагивало тело безногого. Одна рука его плетью повисла побоку и, покачиваясь, то и дело касалась земли.
Первым опомнился Васька. Он кинулся следом, но Пескарь кратко и озлобленно процедил: «Отвали». Васька, правда, тоже рассердился. Он замахнулся на Пескаря и в тон ему заявил: «Сам отвали, фраер зачуханный. Не тебя тащить собираюсь». И стал рядом с Пескарем. И потащили. А Павлуха, сунув руки за пояс, ушел домой. Я тоже ушел.
Потом Васька рассказывал, что это был отец Пескаря. Он говорил так:
– Ноги у него на войне оторвало, сначало-то до лодыжек, потом гангрена пошла. Ну, и прям по коленки отрезали. Чтоб дальше не пошла. Он раньше совсем не бухал, а сейчас вот совсем забухал. Лётчиком был…, – тихо сказал он и отвернулся потихонечку шмыгая носом. Васькин отец тоже был лётчиком.
Васька задумался.
– Коляска больно неудобная, – тихо сказал он. – Колеса другие надо.
Как-то я зашел за кладовки, где обычно пацанва собиралась, и глазам своим не поверил: Павлуха с Васькой делали коляску. Достали где – то четыре пузатеньких колеса от самоката, смастерили станину, а теперь делали сидушку. Сообразили же черти, и как станину сделать, и как сидушку приладить. Все продумали. Малость осталось, совсем малость. Но не успели. Помер отец Пескаря.
Весь класс был на похоронах. Гарай Шарипович тоже был. Павлухи вот не было. Уже после похорон я нашел его там же, за кладовкой. Павлуха делал коляску. Глаза его блестели совсем не по-доброму, словно накатило что-то на парня. Он никого не подпускал, грозил молотком и упорно делал коляску. Маленькую, мягкую и удобную.
До сих пор не пойму, что происходило с Павлухой, о чем он думал тогда. Бог его знает, о чем, но думал же. Может быть о войне…, да о войне точно, его батя тоже весь израненный был.
Потом все прошло, поутихло, помаленьку забылось.
А Гараю уже никто кулак к глазу не подставлял. И с Пескарем разговаривали. Серегой его звали. И фамилия – Зыков.
Гарай, Гарай,Ты штаны не продавай.А то волк придетИ тесемки отгрызет…Родня
«Здравствуйте, уважаемые работники МВД!
Не знаю к кому обратиться, но думаю, у вас есть специальный отдел по этому делу. А дело в том, что у моего отца, Карнаухова Ивана Сергеевича (он умер в 1969 году), было когда-то шесть братьев и пять сестер. То есть, одиннадцать человек семья. Я у родителей был один. Поэтому, зная, что имею такую обширную родню, мне обидно, что никого не знаю. Ни с кем не знаком. Знаю, что братья у отца, кто погиб на войне, кто умер. Дети у них, конечно, были и есть сейчас. Хочу найти братьев и сестер. Сестер маловероятно, ведь они под другими фамилиями. А вот братьев можно. Сообщаю имена отцовских братьев и место, где они все родились и жили когда-то…»
Георгий Карнаухов, здоровый кудрявый мужчина, описал все подробности, которые знал, и поставил точку. Отнес конверт на почту. Заказным отправил в Москву. Георгий стал терпеливо ждать, считал дни, недели, месяцы.
Георгий Николаевич написал письмо неспроста. Он был обижен на свою жену, тещу, тестя – главного бухгалтера крестьянского фермерского хозяйства «Звезда». Раньше совхоз «Звезда». Так вот тесть из «звезды» никуда и не уходил, хотя на пенсию было уже давно пора. Да и жители деревни к длинной приставке к «Звезде» так и не привыкли и потому хозяйство так и называли – «совхоз». Ну ладно. И вот порой глядя на своих «родственничков» на Георгия нападал такой «псих», что порой он не мог с собой сладить. Например, когда теща в какой-то своей обиде брякнула: «Обули, одели, дом поставили, а он теперь кочевряжится», Георгий разделся до цветастых трусов и все как есть запихал в печку.
Еще ему не нравилось, что приходилось возить тестя на его «жигулёнке». Тесть сам написал доверенность на зятя и теперь, как взбрендит, особенно по воскресеньям, ночь-в-полночь, в любое время – вези его. А куда? А хоть куда. Может, порыбачить. С комфортом, в костюме и при галстуке. Или просто так, покататься. Сядет, закинет локоть за окошечко и всю дорогу ни слова. «Головы не повернет, гад. Как кол проглотил» – рассказывал зять. Сам тесть водить машину не умел. Интересный тесть. Наверное, в такие минуты представлял он себя министром финансов. А приедет – все: другой человек, корм свиньям наладит и еще напевает: «Все бегут, бегут, бегут, а он им светит… – и носится с ведрами: – … а он горит».
Короче, затосковал Георгий без единокровной родни. Долго ли, скоро ли, а письмо из МВД все же пришло. Георгий очень волновался. Когда нес конверт в нагрудном кармане, сердцем его чувствовал. Читал письмо почему-то за банькой. Уселся на низенькую поленницу и читал. Сердце стучало слышно и гулко.
«Ваш брат, Карнаухов Валентин Емельянович, 1982 года рождения, проживает в Республике Казахстан в городе…» ну, и так далее. Сообщили также, где проживают родители брата.
«Эк куда закинуло брательника, – весело, с волнением размышлял Георгий, – далеко от родителей ускакал, – и усмехнулся, – за границу.»
Ему было легко и весело. Брат, три сестры и тетка. Сразу сколько родни. Внутри щемило и екало новое, незнакомое чувство. Георгий сунул письмо в карман и пошел к дому. Во дворе росла раскидистая берёза. Георгий умостился на маленькой сидушке детской качели и стал раскачиваться. Выбежали детишки. Заорали: «Папка, папка катается!». Запрыгали рядом.
Георгий слыл отцом строгим, и подобное легкомыслие дети видели, пожалуй, впервые. А отец раскачивался, весело «ухал» и «эхал». Потом завел тестев «жигулёнок» и прокатил детей километров за десять от деревни. Там покувыркались по поляне, подурачились вдоволь и покатили назад.
Когда подрулил к дому, то с удивлением обнаружил распахнутые ворота, хотя точно помнил, что их закрывал. Легонько въехал во двор и неожиданно запел любимую песню тестя: «Все бегут, бегут, бегут… а он горит…».
Теща с тестем сидели за столиком у крыльца и молча наблюдали за буйными выходками зятя.
– Перепил, – предположил тесть.
– Да вроде нет. У него харя красная, когда выпьет-то, – заметила сметливая теща.
Вышла жена. Она загнала возбужденную ребятню в дом.
– Чего раздухарился-то? – строго спросила она мужа.
– А я не тень, чтобы тенью ходить, – загадкой ответил Георгий.
Жена вылупила глаза. Георгию самому понравился загадочный ответ и он для пущей важности громко повторил:
– Да, да, родичи вы мои разлюбезные, не тень.
– Ты сядь-ка, – тесть ерзнул по скамейке так, что чуть не сшиб свою жену. Та сверкнула глазами, но промолчала. Георгий сел.
– Ну сел, – вопрошающе сказал он.
– Ну сел, и посиди, успокойся, – тесть беспокойно забарабанил пальцами по столу. Георгий сощурился.
– В честь чего торжественные сборы?
– По пути зашли, – с вызовом ответила теща.
– Ни хрена себе, по пути, – тоже с вызовом произнес Георгий.
Его дом стоял последним, на самом краю деревни, а за горой уже был «совхозный» свинарник. – К свинехам прогуливаетесь. По пути, хэх! – усмехнулся он.
– К дочери пришли, – воскликнула теща, – да на зятя придурошного посмотреть.
– Потише! – рявкнул Георгий. – Родня!
Он полез во внутренний карман пиджака. Теща с тестем на всякий случай отодвинулись. Георгий же достал безобидный конверт с официальным штемпелем и шлепнул им перед тестем. Тот достал очки и долго, сосредоточенно читал.
– Что ж, – в никуда сказал он, – хорошее дело. И город хороший. Хоть и в Казахстане уже. Смоленск – еще лучше. Я там был в войну. Хорошие места.
Георгий ревниво взял письмо.
– Сами знаем, что хорошие. Разберемся. Тетя Аня Карнаухова напишет, как там у них.
«Тетя Аня» он произнес с особым смаком.
– А кем брат-то работает? Что-то не прочитал.
– Заместитель генерального директора крупного объединения. А что?
– Ничего, – помолчали, – Ну ладно, – вставая, сказал тесть. – От души поздравляю тебя с нашедшейся родней. – Он протянул Георгию растопыренную пятерню. Тот пожал толстую, совсем не бухгалтерскую руку. Теща руки не подала и, как-то обиженно поджав губы, словно собираясь заплакать, молвила:
– Поздравляю, что ж. Поздравляю.
Они встали, не торопясь пошли в обратную от свинарника сторону. Домой. Георгий глядел им вслед, пока они не скрылись за соседским забором. Он остыл, и ему стало немного грустно. «Что надулся, – думал он, – ну нашел родню и нашел. Что здесь такого-то? Чего выставляться-то? Про заместителя генерального директора трепанул. Дубина.» Он плюнул под ноги и опять пошел к качелям. Только теперь не раскачивался, а просто сидел.
Через несколько дней (он специально ждал момента, чтоб успокоиться) Георгий написал брату письмо. И вновь ждал ответа. Ответ пришел быстро. Георгий даже не ожидал, что так быстро может идти письмо из Казахстана. Из письма узнал, что брат работает на вокзале на автопогрузчике. Но это Георгия не огорчило, хотя в душе и надеялся, что пусть хоть и не зам. генерального директора, а хотя бы начальник… отдела кадров, например. Или даже главный бухгалтер бы. «Ну, да ладно, на автопогрузчике, так на автопогрузчике, человеком бы был», – размышлял Георгий по ходу письма. Ошарашила же Георгия концовка. Брат писал просто. По-свойски. По-братски. И вдруг стал давить на психику. Но давил так нахально, откровенно, неумело и оттого очень больно. Будто принимал брата за крупного авторитетного дурака.
«Жорик, – писал он в конце. – Здесь у меня неприятность на работе вышла. Поехал я, понимаешь, на рыбалку. „Ниву“ у друга взял. У нас здесь все проще. Ты – мне, я – тебе. Хорошо живем. Поехал я, значит. Порыбачили. Ну, чуток поддал. Да не в поддатии дело. Я в этом состоянии вообще за баранкой зверь. По ниточке проеду. А тут вдруг прямо на скорости фары выключились. И поворот как раз. Я-то ни шиша не вижу. Ночь. Ну и ухнул в рельсу, что вдоль дороги ставят. В отбойник, – объяснил он, – Ну и вдребезги… машина. Сам кое-как очухался. Жора, об одном прошу. Мы же ведь братья. А братья – это кулак один должен быть. Чтоб друг без друга – ни-ни! Жора! Надо хотя бы тыщ сто пятьдесят-сто восемьдесят. Иначе, не видать тебе брата долго. Сяду ведь. Ты ж Сибиряк. У вас там платят, я знаю. Сделай, брат. Выручай, братан, больше некому…».
Георгия покачнуло, и взор его мигом угас. «Двести тысяч почти, – думал он, – сдурел брателла …б… ть. В первом же письме. Что у меня эти тысячи, как у дурака махорки что ли? Халявщик, точно. Нашел, блин, родню.»
Он вошел в дом. Уставился в поставленную перед ним тарелку со щами. Поскреб ложкой по дну и бросил.
– Что в письме-то? – поинтересовалась жена.
– Брат, вот, к себе зовет, – соврал Георгий. – Его самого возить. На персоналку. Как батю твоего по воскресеньям.
Он встал из-за стола и вышел во двор, сел за столик. «Надо тетке написать, – решил он. Пусть хоть расскажет, что за братик у меня».
– Так он что, правда, заместитель генерального директора? – жена подошла так незаметно, что Георгий немного испугался.
– Тьфу ты, – вздрогнул он, – заикой ведь сделаешь, – он нежно взял жену за талию и усадил рядом. Приобнял, – Правда, правда, только не заместитель уже. Генеральный уж. Хватит в заместителях ходить, – глядя в землю врал он…
– Так ты чо смурной-то?, – вдруг всхлипнула жена, – У тебя дети ведь. Ладно я…, ты уж обо мне и не думаешь, – Муж усмехнулся. Он и не ожидал, что жена так отреагирует, —
– Ну что ты… Просто жалко брата-то. Он ведь тож один…, без родни… А так – ну куда я от вас? Дети ведь проклянут потом. Эх ты, дурочка… Иди, что-то они они там не поделили…, – Пусть в гости приезжает, – сказала жена и быстро вошла в дом.
Георгий сел на крыльцо и долго думал о брате, о тесте, о жене… Вообще. О родне думал.
Махмуд
– Все говорят: «Дурак дураком Махмуд». А я что, виноват что ли, если у меня дырка в голове. Не веришь? На, смотри, на, на…
Махмуд снимает тюбетейку и наклоняет к нам совершенно лысую голову. С правой стороны на ладонь от уха ясно виден небольшой провал, затянутый тонкой блестящей кожей.
– Видишь, прыгает? Это кровь так прыгает, внутри. Вот, – объясняет Махмуд и легонько проводит пальцем по пульсирующей впадинке.
– У – у – у! – дурашливо удивляется Валерка и подталкивает Махмуда в бок. – Это ты, наверно, в косяк головой упирался, когда тебя в военкомат тащили. Да?
– Нет, – серьезно машет головой Махмуд, – это на войне.
– На войне?! А что ты там делал?
– Ну, что, что… Стрелял, вот. «Ура» кричал. Сильно «Ура» кричал.
Мы сидим у арыка под старым корявым тутовником, пьем пиво и подзадориваем Махмуда.
– Война-то, Махмуд, давным-давно кончилась, а ты до сих пор «Ура» кричишь. Несерьезно. Песню про Катюшу поешь. Катюша – это твоя жена, что ли?
– Какая жена? – пугается Махмуд. – Не жена вовсе, ты что? Так все пели: «Выходила на берег Катюша…» – Так и пели, да, да… так, – Махмуд хмурит брови и повторяет: – Пели.
Валерка смеется:
– Значит, не жена?
– Н-е-е-т, ты что… – отмахивается Махмуд и перескакивает на другую тему. – А я и гранаты по танку кидал. Один раз. Промазал тогда.
– Да ну! – оживляется Валерка и сует Махмуду пустую бутылку. – Покажи-ка салагам. Не врешь? – и подмигивает мне.
– Давай. – Махмуд злится, берет бутылку, несколько раз подкидывает ее на ладони. Потом плюхается на живот и ползет. Метра через три он останавливается, на мгновенье затихает, делает из-за спины бросок и сразу опускает лицо в траву. Бутылка падает совсем рядом и, кувыркаясь, скатывается в арык.
Мы валимся на траву и хохочем, а рядом уже покашливает Махмуд. Валерка протягивает ему бутылку с пивом.
– На, пей. Молодец! Верим.
Махмуд улыбается, стряхивает с себя пыль и садится рядом.
– Ну, вот. Всё помню. Не кончилась война эта …, джаляп…, – матерится он по узбекски, – никогда…
…Редкий в наших краях летний ливень заливает лобовые стекла, и «дворники» едва успевают разгонять воду. В кабине жарища, двигатель ревет, будто вдруг взбунтовались все его лошадиные силы. Сейчас будет поворот на кишлак и сразу же начнется грязный, нудный и разбитый «тягун». Если б не ливень была бы просто пылища.
Впереди нас идет тягач Рахима, самый тяжелый. У него на прицепе громадная и неуклюжая дизель-электростанция да еще разное барахло, покрытое тёмным от дождя брезентом. На нашем тягаче бочки с бензином, маслом, соляркой и походная кухня сзади. По кухне из-под гусениц бьет липкая грязь.
Валерка сидит рядом и крепко держится за поручень. Мы молчим. Молчанье для Валерки очень тяжкое испытание, и потому он и сейчас шевелит губами, может, даже поет, мне не слышно. Вдруг он наваливается на горячий капот и, хлопнув меня по плечу, тычет пальцем в окно. Сквозь размазанный по стеклу дождь вижу стоящий рахимовский дизель.
– Чего он встал? – ору я.
– Не знаю! – тоже орет Валерка и, открыв верхний люк, высовывается из кабины. Потом быстро ныряет внутрь, кричит: «Назад давай, назад!!!» – и выскакивает из кабины. Я потихоньку начинаю сдавать и через открытую дверцу вижу, как моя грязная кухня выкатывается из колеи и делает поперечный разворот. Все. Дальше назад нельзя.

