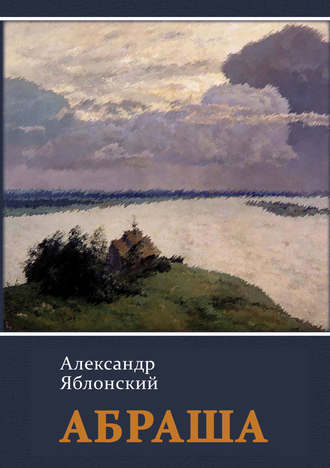
Полная версия
Абраша
Родители приезжали на дачу, как правило, на субботу и воскресенье. Они привозили полные сетки продуктов, запах душного пыльного города, суету и неистребимое желание наладить по-своему дачный быт, активизировать воспитательную работу с детьми и организовать правильный досуг всех обитателей дома. Папа проверял, заготовлены ли дрова на неделю. Всегда оказывалось, что дров – предостаточно, так как баба Вера, зная его беспокойный нрав, по пятницам к вечеру пилила с дядей Колей – хозяином дома – эти дрова, затем колола и аккуратно их складывала. Однако полная поленница не охлаждала папин пыл, он долго засучивал рукава, плевал на ладони и начинал выполнять свой мужской долг. Минут через семь его звали попить чайку, проверить проводку на кухне или закрепить защелку на туалете – «зеленом домике». Он повторял, как заклинание: «Ну, нарасхват, ну, нарасхват, ничего, к вечеру закончу», и исчезал в заданном направлении. К вечеру оказывалось, что баба Вера тихонько зачистила место рубки дров, поставила на место топор, закрепила защелку, а проводка оставалась в том же состоянии – дотрагиваться до «ляктричества» она опасалась. Папа же давно играл в преферанс, судачил о последствиях Суэцкого кризиса и возможном обострении отношений с правительством Ги Молле: «он же ярый англофил, а нам крайне невыгодно это сближение…». Мама сначала пыталась проверить, как ее дети – Ира и младшая Машенька – продвигаются в овладении алфавитом и устным счетом, но затем решала заняться организацией домашнего детского театра, вокального ансамбля или кукольного представления. Соседская Катя до сих пор верила в эти планы, и каждый раз с энтузиазмом откликалась на энергичные призывы Ириной мамы собраться и обсудить перспективы очередного грандиозного проекта.
Где работал папа, Ира толком не знала. Зато она точно знала, что ее мама – певица. Она даже иногда выступала по радио. Правда, это бывало редко и очень рано – в половине седьмого или половине восьмого утра. Ира еще спала и о маминых выступлениях узнавала из уст самой мамы. Пару раз она слышала сама – это было во время детской передачи в десять утра. Мама, как правило, пела песни советских композиторов для детей. Особенно Ире запомнилась песня – или песни, очень похожие одна на другую – с красивым названием: «Музыка Старокадомского, стихи Агнии Барто». Ире очень нравилось слово «Агния». Мама часто уезжала на гастроли от какого-то «Бюро пропаганды». Что это такое и как это может быть, Ира не понимала. У них дома было бюро, за которым папа иногда делал какие-то расчеты после преферанса. Ире прикасаться к этому маленькому бегемотику из красного дерева не разрешали, потому что бюро было «работы Чиппендейла». Как этот, видимо, давно умерший Чиппендейл мог посылать маму на гастроли, оставалось долгие годы загадкой. Когда мама уезжала, исчезал куда-то и папа, и Ира с Машуней вместе с бабой Верой жили весело, дружно и уютно.
…Ира вскочила и, шлепая по чистому, выскобленному бабой Верой полу, прямо в одних трусах помчалась в «зеленый домик». Там можно было посидеть и помечтать о том, какой будет ее взрослая жизнь, за кого она выйдет замуж, как будет лечить больных кошек и собак или, может, всё же будет сниматься в кино, играя роли умных красивых девочек, какое счастливое время на даче и как она пойдет осенью в школу, в первый класс.
* * *Иоанн свидетельствовал: «Сказал им Пилат: возьмите Его вы и по закону вашему судите. И сказали ему Иудеи: нам не разрешено казнить никого» (Ин. 18, 31). И далее: снова «Говорит им Пилат: возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины» (Ин. 19, 6)… Свидетельство Иоанна дорого стоит, ибо он, как это ни звучит парадоксально, «более историк, нежели Лука» – это отмечал, кажется, еще Епископ Кассиан (Безобразов). Да и Ренан толковал об этом: для него историческая точность Иоанна Богослова превосходила синоптические Евангелия. Итак, «возлюбленный ученик» Иисуса подтверждает истину: казнить иудеи не могли. Во время господства римлян права Синедриона были ограничены; он не мог выносить смертные приговоры. Судить – могли и должны были: нарушившего закон Торы мог судить только Синедрион. Римляне вмешивались лишь в том случае, если речь шла о римском гражданине или дело затрагивало интересы Империи. Судить Синедрион мог, а казнить – нет. И приговаривать к смерти не могли, однако, если же в исключительном случае приговаривали к смерти, то через побиение камнями. Распять не могли, это точно – не иудейский вид казни, но побить камнями могли. Редко случалось, но случалось. В Мишне сказано, что Синедрион, приговаривающий к смерти через побиение камнями раз в семь лет, называется кровожадным, а рабби Элиазар бен Азариа поправлял – «раз в 70 лет». Иудеи, возможно, могли сами судить и даже – в редких исключениях – казнить еврея, не прибегая к помощи римского правосудия или к санкции Прокуратора, а точнее, Префекта, коим был Пилат. В «Деяниях» говорится, что люди Израилевы арестовывали апостолов и даже казнили одного проповедника без санкций Рима. Впрочем, для лжепророка могли сделать исключение. В любом случае, почему Иисуса осудил Синедрион, хотя приговорить его к смерти Синедрион не мог, а привести неправый приговор в исполнение просили римлян?! Нет ни логики, ни исторической правды. «…Ответили ему Иудеи: у нас есть Закон, и по Закону Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19, 7). При чем здесь Рим? Это – внутреннее дело Иудеев. Рим во все эти распри не вмешивался. Брезгливо отворачиваясь от темных верований Востока, он оставался выше чуждых ему коллизий детей Израилевых. И уж ни при какой погоде не стал бы выполнять требования первосвященников, потерявших к тому времени свою реальную власть, и безоружной толпы он – представитель древнего рода Понтиев по прозвищу Pilatus – от латинского Pilum, то есть «метательное копье», «дротик» – был Пилат ранее, скорее всего, центурионом, а возможно, и старшим центурием когорты копьеметателей, – то есть обладал воинским опытом, врожденной и приобретенной жесткостью, решительностью – он – Понтий Пилат, пятый Префект Иудеи – никогда не пошел бы на поводу у сборища людей, «вооруженных» тфилинами? – Чушь. Нет, не еврейской толпы боялся Пилат Понтийский… Одно бесспорно: «И пока еще Он говорил, пришел Иуда, один из Двенадцати, и с ним большая толпа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных». (Мф. 26, 47). То же у Марка, (к «Первосвященникам и старейшинам» добавлено еще и «книжников»). (Мк. 14, 43). Лука умалчивает, кто «брал» Спасителя – просто: «вот толпа» (Лк. 22, 47). Однако Иоанн, опять – таки, уточняет, а вернее, корректирует: «Итак, Иуда, взяв когорту, а от первосвященников и фарисеев – служителей, приходит туда с фонарями и факелами и оружием…» (Ин. 18, 3). И далее еще раз подчеркивает: «Итак, когорта и трибун и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели его сперва к Анне…» (Ин. 18, 12–13). Что же бесспорно, так это то, что иудеи только арестовали Учителя, или же, скорее всего, лишь присутствовали при этом, как утверждает Иоанн Богослов. Всё же дальнейшее настолько расплывчато, спорно и, чаще, нереально в том историческом контексте, что никакого повода для обвинений иудейства в юридическом обосновании или оформлении казни Иисуса быть не могло: иудеи не имели права приговорить Иисуса к смерти (вопрос: нужна ли была им его смерть?), не могли привести приговор в исполнение, а если бы и осмелились нарушить «табу», то воспользовались бы традиционным способом – лапидацией, т. е. «побиением камнями», удушением или сожжением; не было у них рычагов воздействия на Имперский Рим для претворения в жизнь своих претензий. И кричать «распни Его», они тоже не могли. Либо этот крик был организован провокаторами из римлян, а толпа лишь подхватила этот призыв, либо это – более поздняя вставка, когда казнь через распятие стала общим местом в описании последних дней Спасителя. Толпа могла кричать «убей Его», «побей (камнями) Его», «повесь», но не «распни»: в момент массового психоза срабатывает подсознание, а в подсознании иудея не могло быть этого слова, чуждого его тысячелетней культуре. Что-то здесь не так…
Однако не это главное. А главное: почему в одну ночь было нарушено всё, что можно было нарушить?!
* * *«Как в кино» – почему-то подумалось ему, и он закричал. Крик застрял в груди. Длинный еще раз ударил старика по лицу. Она кинулась к ним. Полы расстегнутой шубы листьями бананового дерева накрыли объектив, и он мгновение ничего не видел. Она летела к ним. Он беззвучно кричал и пытался поспеть за ней, схватить за руку, за полу шубы, за шарф, остановить, но ноги врастали в асфальт, в жидкую снежную кашицу. Длинный отскочил, она кинулась к упавшему старику, но из тени вынырнул маленький крепыш. Он легко, как бы шутя, ударил ее кулаком в спину, она остановилась, обернулась, удивленно развела руками, как будто неожиданно встретила старого знакомого, и стала садиться на землю. Его взгляд поймал лежащую на земле узкую короткую железную трубу. Он потянулся к ней: «Надо успеть, надо» и опять подумал – не к месту и не вовремя: «Как в кино, а раньше думал, в кино всё придумано». И еще успел: «Я должен проснуться». Рука дотянулась до трубы. Он услышал, как через секунду хрустнет череп низкорослого, и проснулся.
* * *Сколько помнилось, он всегда был сдержан, скрытен, всячески подавлял в себе, почти всегда успешно, «женские сантименты» и очень гордился этим. В детстве часто думал o себе почему-то в третьем лице: «Какой он сильный духом мальчик, другой бы расплакался на его месте, а он – ничего, сжал губы и молчит. Настоящий мужчина, а не какая-нибудь красна девица»… Он гордился собой и стеснялся этой гордости, гнал от себя дурацкие мысли, потому что неприлично так думать о самом себе, но они непроизвольно лезли в голову – правильные были мысли, хоть и нескромные.
Прозрачная старушка из полуподвальной квартиры, где жила семья дворника, и где этому «Божьему одуванчику» оставили маленькую комнатку, видимо, в память о том, что ее родители когда-то владели всем этим многоэтажным доходным домом, так вот, эта старушка – «привидение» – как-то назвала его «Коленькой-Николенькой», и это непривычно ласковое имя так поразило его, что ночью, забившись под одеяло и свернувшись в комочек, вспомнив и это нежное слово, и выражение ясных глаз, окутанных лабиринтом извилистых глубоких морщинок, и интонацию неожиданно низкого, чуть хриплого, прокуренного голоса, он плакал так беззвучно-сладко и безнадежно, как не плакал никогда в жизни ни до того солнечного январского дня, ни после. Впрочем, он вообще почти никогда не плакал, потому что не признавал сантиментов, как и его папа.
Папа его не баловал. Он вообще был немногословен, сдержан в движениях, эмоциях, особенно в похвалах. В институте его отца уважали и побаивались не только студенты, но и коллеги – преподаватели и даже профессора. Профессора, наверное, были все с седыми бородками клинышком, в ермолках и с сучковатыми палками в жилистых руках. Во всяком случае, так он себе их представлял, и, когда увидел на папином пятидесятилетии двух профессоров, очень удивился, разочаровался и расстроился: один был совершенно лысый, маленький и пузатенький, c бегающими глазками и влажными суетливыми в движениях ладонями, постоянно облизывающий губки – какой-то слюнявый и скользкий, а второй – мрачный, высокий, с торчащими во все стороны густыми черными волосами и синей невыбриваемой щетиной, доходившей до самых глаз; «типичный Карабас-Барабас, если бороду отпустит», – подумалось тогда. Причем «Карабас-Барабас» пил коньяк рюмку за рюмкой, почти не закусывая, и не пьянел, что было поразительно. Значительно позже он подозревал, что именно этот «Барабас» и написал донос на папу, но, как оказалось, ошибался.
Папа был доцентом, и мама постоянно «пилила» его, что давно уже пора сесть за докторскую: «даже такие бездари, как Павлушкин или Кочемасова, уже давно «украшают», в кавычках, профессуру, а ты – самый яркий еще со студенчества всё торчишь в доцентах», – на что папа отвечал неизменно тихо, но твердо: «отстань, не пили»… Однако один раз папа, отвечая на мамины призывы, добавил: «отстань, не пили… у нас сейчас лучше не высовываться». Эта фраза запомнилась на всю жизнь. То, что его отец действительно «выдающийся ум», он слышал не только из маминых уст. Так говорили все папины сослуживцы, особенно тогда, когда его поблизости не было, так как папа эти нежности не любил и всегда повторял: «не верю я им…».
Наказывали его редко. Пару раз папа его выпорол, однако оба раза за дело – это ему было абсолютно ясно. Он не был драчуном, но когда ему один раз заехали в дворовой свалке по носу, а другой – подло подставили ножку, и он упал на глазах всего двора лицом в лужу, в этих случаях он не смог себя сдержать и отколошматил обидчиков, не помня себя от обиды, боли и стыда. Один из тех, кому он пустил кровянку, был сыном человека, которого все очень боялись, причем родители больше, чем дети. Этот Шишкин-папаша работал в «Большом доме», никто не знал, кем, но слова «Большой дом» завораживали сами по себе, как завораживает питон свою возможную жертву, даже если и не думает задушить ее в своих объятиях. Позже он узнал, что этот страшный папаша был простым завхозом, а может, и просто дворником, но… в «Большом доме». Страх, внушаемый Шишкиным-отцом и тем учреждением, в котором он служил – пусть даже дворником, – запомнился и со временем наполнился притягательной силой: хорошо, когда тебя боятся, хорошо принадлежать к такому всесильному, наводящему ужас клану, быть в нем своим…
Его семье Шишкин-старший ничего плохого не делал, как, наверное, никому во дворе. Запомнился он старым спившимся человеком, от которого всегда пахло… То ли мышами, то ли дерьмом.
* * *…Понимаю, что «не царское», то бишь не научное это дело, но ничего не могу с собой поделать. И студентам не скажешь, с коллегами не поделишься, даже моей очаровательной и умненькой – слишком умненькой – аспирантке – я Вам о ней неоднократно с гордость рассказывал – не заикнешься, хотя она бы меня поняла. Только Вам, мой дорогой Сигизмунд Натанович, могу признаться: с той поры, как стал руководителем диссертации Ир. Всеволод., т. е. погрузился в Смутное время, повешенный мальчик не дает мне спать, иногда читаю лекцию или семинар веду, в трамвае трясусь или ужинаю, – не поверите, вижу этого несчастного Ворёнка. За что? Он был так мал и худ, а веревка – специальная, «фирменная» для «вора» – была так непомерно толста – она плелась из мочал, – что он не мог быть даже задушен моментально: узел не затягивался вокруг его тонкой шеи, и висел он долго – несколько часов, коченея на холоде… Что он чувствовал – беззащитный, маленький, одинокий. Страшно, больно, холодно… «За что!»… Народ ходил и смотрел на этого четырехлетнего мальчика, мучительно умиравшего на виселице у Серпуховских ворот… Что он сделал плохого этим людям? Что он мог сделать? – Своим существованием напоминать «победителям» Смуты – Романовым, прежде всего, да и всей элите от Голицына, Лыкова, Черкасского до Мстиславского и Трубецкого об их роли в организации и разжигании этой Смуты? Или они вымещали на трех-(или четырех-?) летнем младенце взаимное озлобление? Возможно, в крови младенца они топили осознание своей греховности и страх перед расплатой? – Хотя вряд ли: это возможно у людей совестливых… Или же таким образом снималась потенциальная угроза провозглашенному и уже полтора года царствовавшему Михаилу? – Бред! Даже до избрания Романова среди претендентов на престол Ивашка был самый незаметный, самый безнадежный. Ни Марина, ни Заруцкий не имели фактически никакой опоры. Но, что бы ни было, откуда такая злобная, уникальная даже для этого века, жестокость к ребенку, чья вина была лишь в том, что он был, как говорится, «плодом любви». Поразительно, но Марина, лишь терпевшая своего первого мужа – Дмитрия, обладавшего несомненными достоинствами, искренне полюбила своего второго Димитрия – «Тушинского вора» – личность ничтожную; во всяком случае, она была единственной, кто искренне оплакивал его гибель (как свидетельствуют очевидцы: «…царица, бывшая на последних месяцах беременности, выбежала из замка (в Калуге, где содержалась в то время), рвала на себе волосы, просила убить ее, нанесла себе несколько ножевых ран, оказавшихся неопасными…»).
Кстати, несколько свидетелей, никак между собой не связанных, говорят, что была метель, «снег бил мальчику в лицо», однако по всем официальным данным он был казнен в середине июля 1614 года. Могла ли быть метель в середине июля, бывало ли такое летом? Во время страшного неурожая 1600–1603 гг. летом были заморозки, но вот метель?.. – Вам не попадались ли данные о подобных погодных феноменах? Или это был, действительно, «знак Божий» (звучит нелепо в устах убежденного атеиста)?
…Пишу это, а перед глазами палач, который несет плачущего мальчика к виселице, прижимая к себе, прикрывая от снега его обнаженную головку, и успокаивает…
* * *Алена всегда приходила с улыбкой на лице и сюрпризом, скрываемым в спортивной синей сумке. Сюрприз имел свой неповторимый вкус. Иногда это была буженина собственного изготовления, иногда пирожки с мясом и грибами, в которых тесто было пергаментно прозрачно, а начинка – сочна и обильна.
Третьего дня, а вернее, неделю назад, она удивила Абрашу фаршированной рыбой, приготовленной по рецепту Ариадны Феликсовны – самого авторитетного кулинара в их поселке.
Обычно она появлялась неожиданно, около одиннадцати вечера. В это время, ознакомившись с прогнозом погоды на завтра, Абраша выключал маленький переносной телевизор, стоявший на холодильнике «Днепр» в кухне, совершал вечерний туалет и настороженно прислушивался к звукам на улице. Иногда он даже выходил на крыльцо и пытался проникнуть взглядом в пропитанную сажей вату ночи, окутывавшую его сруб. Он ждал ее всегда. Но приходила она редко и всегда неожиданно. Вот и сегодня, он уж и помылся, и разделся, то есть снял ватник, который, казалось, прирастал к его телу за день, выпростал ноги из солдатских галифе, стащил протертые боты, доставшиеся ему в наследство от деда Фрола – местного сторожа, завхоза и председателя правления, его, Абраши, единственного когда-то собутыльника, угоревшего прошлой зимой в бане, где он уснул, находясь в сильном подпитии, – и надел фланелевую в красно-синюю клетку рубашку – «ковбойку», выцветшие лиловые шаровары, войлочные тапочки, и решил было для лучшего сна, не торопясь, выпить стаканчик, чтобы завтра с утра начать, как следует, не просыхая. Он вынул непочатую «Московскую» и заветное «Мартовское», открытую банку «Бычков в томате», раскрыл было Фаррара на заложенной странице, как раздался стук – знакомый, долгожданный, условный: «Вы-ходи-ланаберегКатю-ша».
– Ну вот, Абрань, и я.
– Вижу, вижу, заходи, не стесняйся.
– Да куда ж мне стесняться.
Она торопливо разделась, но тут же, спохватившись, накинула абрашин ватник и выбежала во двор. Заскрипела ручка колодца. Через минуту она внесла полное ведро воды – Алена удивительным образом умела носить полные до краев ведра, никогда не расплескав ни капли, – и взгромоздила его на печь. Раньше Абрашу коробила эта простота, эта обыденность, которые предшествовали самому интимному, самому таинственному, самому сокровенному и возвышенному, что было у него – здесь уместно отметить, что Абраша был по природе своей человеком застенчивым, замкнутым и щепетильным в вопросах личной жизни, которая, кстати говоря, была у него не богата событиями. Однако со временем он привык к этим ведрам воды, к тазику, заранее устанавливаемому в углу кухни у печи. Видя эти приготовления, он посмеивался, поскребывая свою трехдневную щетину, и приговаривал: «Чистота – залог здоровья».
Алена с шиком раскрыла свою синюю сумку-«самобранку» и извлекла завернутую в фольгу тарелку – в ней оказалась селедка «под шубой», – майонезную банку печеночного паштета со шкварками и холодный кусок телятины.
– А какой сегодня праздник, мать моя?
– Грибы твои накрылись медным тазом, и ты пролетел, как фанера над Парижем.
– А с чего ты так радуешься?
– Так тебя вижу.
– Ну, ладно тебе, лапшу мне вешать.
– А тебе лапша к лицу – ишь, как узорно свисает… Ну, ладно, расцеловался… Ну… Ну подожди, перекуси, пока свежее. Только сейчас сготовила. Настя всё ворчит – ты его, охламона, кормишь, кормишь, а он тебя к венцу не зовет.
– А ты что, хочешь в ЗАГС со мной?
– Я что, с дуба рухнула?.. Ну перестань, ну покушай… Совсем исхудал. Ребра у тебя на спине тоненькие, как гнутые спицы, все – наперечет. Господи, за что тебе все мученья!
– Ладно, не кудахтай. Выпьешь?
– Это ты выпей. И закуси. Тебе когда на дежурство?
– В следующую неделю.
– Ну, тогда можно и выпить, благословясь.
– За что выпьем?
– За то, чтобы хорошо всё было.
– Это значит за тебя. Хорошо только тогда, когда ты рядом.
– Не надо, Абрань, а то я слезливая в последнее время стала.
Они выпили. Впрочем, пил он, а она на него смотрела и радостно улыбалась. Поговорили о погоде, о грибах, о политике: будет ли после Андропова лучше или хуже, может, перестанут хватать днем в банях или магазинах и стоило ли самолет с несчастными сбивать. Абраша сказал: «Что взять с людоедов», но Алена засомневалась, а вдруг шпионы там были. Потом скомандовала: «Всё, иди ложись, я сейчас».
Он лег и слушал, как струйка воды звенит по дну таза, звон сменился всплесками, затем что-то долго шуршало, финальным аккордом прозвучал скрежет, извлеченный дном пустого ведра о кирпич печи, и она нырнула к нему под одеяло.
– Согрей меня!
– Так натоплено.
– А ты согрей.
Такой диалог происходил каждый раз. Она прижималась к нему, и они лежали, молча и неподвижно. За окном чуть завывало. Голые ветки жалобно постукивали в окно. Так собака стучит хвостом по деревянным опорам крыльца, просясь в дом.
– Почему Бог наказал меня, и не могу я понести от тебя?
– Так это он не тебя, а меня наказал.
– Нет, у тебя всё в порядке. Это – моя беда.
– Ничего. Мы эту беду поправим.
– Думаешь?
– Постараемся.
– Ну, давай, старайся.
И он старался. Старались они оба, и радостные были эти старанья, и светлыми были минуты забытья, и жадными пробуждения, и бездонными пропасти, в которые проваливались они в судорожных, неразрывных объятьях.
Когда она засыпала, он смотрел, облокотившись на руку, – Алена спала только на правом боку – на ее чуть вздернутый нос, на светлые волосы, серебрившиеся в слабом лучике лунного света, пробивавшегося сквозь подмерзшее стекло окна, на губы, чуть шевелящиеся во сне, на ее руку, сжимавшую тонкими, длинными пальцами одеяло под самым подбородком, на ее маленькое прозрачное ухо и на свою кисть, совсем недавно такую сильную и гибкую и внезапно исхудавшую, изнеможенную и думал: «Хорошо. Не зря я жил. Не так, как хотелось, но жил».
Он лег на спину, прислушался к ее ровному дыханию и успокоенно стал перемещаться в свой мир – мир своих фантазий, сомнений, мыслей. А мысли у Абраши были странные.
* * *– Глянь-ка, наш Захар опять гулять пошел.
– Так он теперь по три разу в день ходит.
– Родион его выгуливает.
– Да, повезло старику. Где он его нашел?
– Где, где – в Вологде – где-где-где… на улице, где. Здрасте, Захар Матвеевич. Никак опять пошли пройтиться.
– Здорово, девоньки!
– Ничего себе, девонек нашел!
– Каков парень, таковы и девахи.
– Как ваш Родик поживает?
– Таки ничего, спасибочки, радует меня, радует.
– Ну, бывайте. Здоровьица вам, Захар Матвеевич, храни вас Господь.
– Зай гизунд, девочки-припевочки.
– … Хороший он мужик. Тихий, незлобивый. Несчастный только. Один да один.
– Сейчас-то он светится.
– Еще бы, такого дружка нашел. Раньше, помнишь, во дворе, как встретит, не оторвать было. Замудохает, бывало, разговорами.
– Ведь он молчал целыми днями в своей квартирке. Не со стенами же говорить.
– Так и я о чем! А теперь он с Родиком беседы ведет. Сама слышала. Рассказывает ему о политике, о прогнозе погоды, о нас с тобой сплетничает, старый хрен. Одно не пойму, это хорошо собаке человеческое имя давать? Ну, назвал бы Диком или Джеком – всё не по-нашему. Или Шариком – Тузиком.
– Сама ты Шарик – Тузик!
– Не знаю, не знаю. По-моему, это грех собаке имя человеческое давать. Особенно близкого.
– Какое наше дело. Ему хорошо, собаке хорошо, и – слава Богу. А Родионом его сына звали, земля ему пухом. Хороший парень был, добрый, воспитанный. Теперь этот Родик стал ему роднее всех людей.
– Да… неисповедимы пути Его…
* * *Ира лучше всех в классе играла в баскетбол. Высокая, подвижная и очень прыгучая, она почти всегда подбирала мяч под кольцом, перехватывала в воздухе, владела дриблингом и приносила больше всех очков. Поэтому она была звездой класса, в нее влюблялись и одноклассники и даже старшеклассники, которые обычно на мелочь пузатую внимания не обращали. Однако она была неприступна и ни с кем даже не целовалась. Вернее, один раз попробовала – с Никодимовым из параллельного 8-го «Б», но ей не понравилось: от Никодимова пахло пóтом и жареным луком, целуясь, он сопел, а нацеловавшись, стал хихикать, как придурошный, и прыгать на одной ноге с проезжей части на тротуар и обратно.






