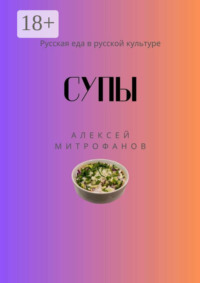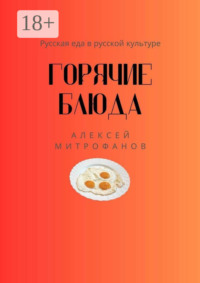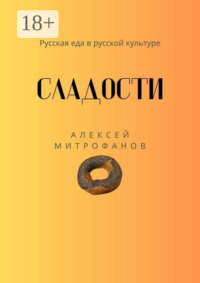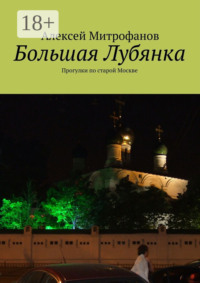Полная версия
Быт русской провинции
Александр Ильин, историк, 1909 год.
Историк С. Д. Шереметев писал о Зарайске: «Солнце уже было высоко и сильно пригревало, когда мы вышли из Зарайского собора и спустились к Осетру. Здесь, за мостом, начинается Веневский тракт. О Зарайском мосте говорится в Зарайских платежных книгах XVI века: «Да у Николы через реку Осетр мост, а мостовщины забирают на протопопа с братиею. Да на реке осетре мост водяной, а збирают с того мосту с иногородца с места по три деньги, а с тутошняго Николы чудотворца с торгового человека с места по две деньги, и збирают тот мост таможенные целовальники на протопопа с братиею. Да в реке рыбные ловли и бобровые гоны сверху от речки от Носовки вниз по реке Осетру до устья реки Осетра верст на тридцать и больше, а владеет теми рыбными ловлями и бобровыми гоны Никольский протопоп с братиею».
Вид с противоположного берега Осетра на город очень хорош, и чем дальше удаляешься по направлению к Веневу, тем он становится лучше. За речкою Изнанкою начинается большак, обсаженный еще уцелевшими старыми ветлами. Широко расстилаются поля по обеим сторонам дороги. Кое-где островком покажется роща и мелькнет вдали крест сельского храма… Оглянешься еще раз – и древний Зарайск с своим Кремлем кажется вам сказочным городом; скоро он исчезнет совсем – и перед вами одна большая дорога с однообразною вереницею нагнувшихся ив».
Краевед Юрий Шамурин восхищается Великим Новгородом: «Ростов, небольшой уездный город, поддерживает «европейскую репутацию» Ярославской губернии… В городе тихо, мирно, много зелени. Нет беспробудного пьянства столицы, нет озлобленных лиц и ругани. Какая-то монастырская или древнерусская степенность царит в городе.
Совершенно неуловимые черты сближают древние памятники ярославских городов с их теперешней жизнью. Остатки старины стоят на площадях и улицах, как прочный фундамент той жизни, что шумит теперь вокруг них. Здесь не чувствуется разрыва между прошлым и настоящим, и это впечатление глубокой почвенности жизни и культуры придает памятникам старины особое серьезное значение, выдвигает их как нужную и важную сторону жизни. В русских городах крайне редко приходится чувствовать эту связь истории и современности, и нигде не чувствуется она так сильно, очевидно и упорно, как в Ростове».
А краевед И. Золотницкий – о Царском Селе: «Царское Село – один из самых благоустроенных уездных городов. Прямые, широкие и довольно чистые улицы, красивые и чистые постройки, отсутствие режущих глаз бедных кварталов и слободок с полуразвалившимися домиками – все это производит приятное впечатление на людей, привыкших видеть в уездном городе бедное, скучное и грязное захолустье».
Господин Золотницкий слукавил – Царское село в первую очередь императорская резиденция, а вовсе не уездный город. Но главное – стиль.
Классика жанра – братья А. и Г. Лукомские, архитектурный и исторический путеводитель по городу Костроме: «На фоне черного неба, когда покровом жутким ночь окружит все стены зданий, ярко освещенных огнем фонаря, они покажутся еще живее, еще фееричнее. Выглядывают тогда из-подлобья темные окна домов, а те, которые озарены извнутри светом, позволят нам увидеть иную жизнь, ту, что за стенами, за геранью и за занавеской кружевной, у лампады, на мебели старинной, и у рододендрона широколистого.
Так сладостно бывает вечером, бродя по улицам пустынным, уйти в миры чужие, облететь мечтою все эти маленькие домики, увидеть весь уют патриархального уклада, мир предрассудков и ограниченного счастья всех этих маленьких людей, ушедших целиком в жизнь своего родного провинциального городка.
И церкви с куполами, усыпанными крупными, яркими звездочками, увенчанные пирамидами, шпицами и вазами, вытянутыми, сплюснутыми, перевитыми, задекорированными гирляндами и лентами, с затейливым узором оконных наличников, карнизов, с бусами кокошников и порталов, с клеймами резного камня, изображающими то зверя лютого, то птицу-неясыть, то льва геральдического, окрашенные пестрыми колерами в шашку, или в лимонный цвет, на котором, как на парчу, положено кружево белых украшений, – полны той особенной сказочной прелести, которая бывает под хрустальным кровом колпака или пресс-бюара, в засушенных цветах весны, давно минувшей… Над старинными стенами свешиваются низко и ласково, покрытые инеем, отяжелевшие ветви деревьев; придавая фантастический вид всему окружающему, возвышаются покрытые шапками снега стройные ели; выглядывают из-за крыш лохматые кедры, или, рисующие на темном небе, как иней на стекле узор из страусовых перьев, березы.
Насупились в конусообразные верхушки башней монастыря, покрытые снегом и охраняющие златоверхие храмы, что за высокими стенами».
Что это? Научный труд или же поэтические экзерсисы? Произведение высоколобых ученых или же беллетристов-романтиков? И далее: «А быт тридцатых-сороковых годов, каким-то чудом сохранившийся до наших дней? Каланча с сонным пожарным, гауптвахта с арестованными офицерами, а полосатые будки часовых и столбы перед постоялыми дворами, – неужели все это, столь пригодное для декорации гоголевской и даже грибоедовской пьесы не чудо, не феерия, а действительность?
А прелесть крепкого аромата бакалейных лавочек, терпкий запах близ «кожевенных линий», или в «табачных рядах», или воркование голубей под сводами «мучных» или «льняных» линий? во всем этом также выражается провинциальная жизнь.
А чугунные решетки, украшенные гирляндами из черных цветов, вырастающие как бы из снега, а иконы, восьмиугольные, круглые, – под сводами гостиных дворов? А этот скрип клеенкой обитых трактирных дверей, из которых валит пар и вкусный запах, а обитые стеклярусом карусели с пегими, рыжими и вороными лошадками, удивленно смотрящими блестящими глазами и, на радость детворе, кружащимися под звуки инструмента из бутылок, до половины налитых водою? А танцы под громыхания духового оркестра в белоколонном зале Дворянского Собрания, где встретить можно еще типы давнишних времен: дам в желтых парчовых нарядах, в платках ярко-узорчатых, с белыми страусовыми перьями в пудреных волосах, или мужчин в костюмах времен очаковских и покорения Крыма».
Воздействие русской провинции непредсказуемо.
А провинциальные города, между тем, становятся сами героями литературы – наряду с томными барышнями и бравыми офицерами.
«Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полукольце леса, – лес – как туча за ним; он обнял город, продвинулся к смирной Оке и отразился в ней, отемнив и бесконечно углубляя светлую воду… Сад раскинулся на горе, через вершины яблонь, слив и груш, в росе, тяжелой как ртуть, мне виден весь город, с его пестрыми церквами, желтой недавно окрашенной тюрьмой и желтым казначейством».
Это – рассказ А. М. Горького «Губин». А город Мямлин – он в действительности Муром. Стоит он в окружении знаменитых муромских лесов и ничего особо страшного нет в этом окружении.
А вот И. Василенко, о Белгороде: «Я хожу по улицам Градобельска и считаю церкви. За три дня насчитал тридцать шесть. А жителей в городе не больше сорока тысяч. Интересно, чем они занимаются? Неужели только тем, что ходят по церквам? Чаще всех тут бросаются в глаза попы и монахи. Ими хоть пруд пруди. И очень много учащихся. В таком маленьком городке есть и мужская гимназия, и две женские, и духовная семинария, и реальное училище, и учительская семинария, и женское епархиальное училище. А возглавляются они старейшим в России учительским институтом. Чтобы стать его воспитанником, я и приехал в этот уездный городок с уютными полутораэтажными домами и огромными раскидистыми тополями по обеим сторонам немощеных улиц…
До вечера я бродил по городу. Прожив здесь четыре месяца, я так и не удосужился осмотреть его весь. Добрел я и до той окраинной улицы, где стоял длинный закопченный сарай. По тяжелому запаху было нетрудно догадаться, что это и был салотопенный завод».
Градобельск – Белгород. Мямлин – Муром. Герои – прототипы. Все как у людей.
Даже если города не укрываются под псевдонимами, они нередко предстают живыми персонажами. Поэт Мариенгоф писал о Нижнем Новгороде: «Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередке города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом – пьяные монопольки под зелеными вывесками.
Чего больше? Ох, монополек!
Пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!»
А другой поэт, К. А. Доводчиков поднапрягся и выдал стихотворение под названием «Панорама Ярославля»:
Много чего есть на «святой Руси».
Ярче же прочих описал провинциальный город Федор Сологуб: «Плывем на пароходе по Волге, видим – Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся.
– Стук, стук!
– Кто тут?
– Кострома дома?
– Дома.
– Что делает?
– Спит.
Дело было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на каменном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке.
Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, – нечего бояться Костромского губернатора, – он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась.
– Кто тут был?
Кто тут был, того и след простыл, Костромушка».
Это – воплощение и квинтэссенция мифа о провинциальном русском городе. Сонном, ленивом, степенном, благодушном, беззлобном, терпимом, хлебосольном, монархолюбивом. А впрочем, только ли о мифе речь? Может быть, она действительно такая – русская провинция эпохи Сологуба?
Что ж, не теряя больше времени, приступим к детальнейшему рассмотрению этого феномена.
Этот город, как плебей,Пародируя столицы,Полон чопорных затей.В нем свои есть львы и львицы,Есть приюты для детей,В нем есть клаб, театр, собранье,Магазины – наказаньеДля расчетливых мужей.Есть притонов штук десяток,Полицейский есть причет,Маскарады есть для Святок,А для масленой – народ…Мой дом – моя крепость
Логично было бы разбить эту главу на четкие подглавки – дом дворянина, дом мещанина, дом крестьянина, дом офицера, дом священника. Но нет у нас такой возможности – ведь в избранный нами период истории русской провинции перемешались и сословия, и достатки. Бывший крепостной крестьянин, поднявшийся на торговле пенькой или дегтем, отстраивает четырехэтажные хоромы, а дворянин потомственный снимает у него угол под лестницей.
Тем не менее, какие-то закономерности все же присутствуют. В частности, самый богатый дом, за редким исключением – дом губернатора. Не удивительно, ведь губернатор – это главный и полномочный представительство самого государства. А государство уж никак не даст себе позволить в этом плане ударить в грязь лицом. В частности, дом, выстроенный для ростовского градоначальника, вообще вошел в поэзию:
А вот и другая постройка: «От восточных кремлевских ворот на восток же простирается длинная Московская улица, застроенная сплошь каменными домами под одну крышу. При начале этой улицы недалеко от кремля вы встречаете прекрасную площадь с красивым садиком в середине и обставленную кругом великолепными постройками… Здесь вы видите длинный двухэтажный дом, имеющий 20 окон на площадь и в нижнем этаже столько же лавок. Этот красивый дом, покрашенный светло-голубою, здешней медною краской, крытый белой черепицей, и в бельэтаже которого находится квартира начальника губернии, имеет прекрасную наружность: изящного рисунка балкон с навесом, в окнах жалюзи и характер архитектуры чрезвычайно грациозный».
Это – воспоминания об Астрахани. Подобный дом – на самом деле исключение из правила. Губернатор – и лавки! Экое некомильфо! Впрочем, как раз в Астрахани это самое соседство никого не удивляло и не принижало статус губернатора. Город волжский, каспийский, заполненный множество торговых подворий, включая персидское. Город-порт, город-купец, город живущий именно торговлей и, вследствие своей многонациональности и, соответственно, отсутствия общего современного бога, поклоняется он древнеримскому Меркурию. А значит, помещения для торговли вполне уместны в доме первого лица, тем более, если его архитектура отличается «чрезвычайной грациозностью».
Иной раз возведение резиденции для губернатора было делом и хлопотным, и даже курьезным. Вот, например, в центре Уфы в конце позапрошлого века решили возвести новую Троицкую церковь. Но дальше фундамента дело не двинулось – поскольку эта церковь вышла бы на «неблизком расстоянии от домов жительских, то прихожане признали постройку эту делом для себя невыгодным… Деньги, оставшиеся от закупки материалов, в 1808 году отобраны были начальством».
В конце концов на том фундаменте начали возводить обычный дом. Его почти что завершили, но затем забросили, он долго стоял недостроенный, без крыши и был, в конце концов, куплен казной. Журнал присутствия уфимского губернского правления об этом сообщал: «По недостатку в г. Уфе удобных домов для размещения начальника губернии в 1859 г. с Высочайшего разрешения приобретен в казну покупкою для этой надобности выстроенный дом коллежской советницей Жуковской с находящимся при нем деревянным флигелем за 12 тыс. рублей».
Правда, покупку эту все-таки нельзя было назвать удачной. В том же «присутственном журнале» говорилось: «В старом доме в продолжении всей зимы была необыкновенная сырость, вероятно, от того, что стены много лет стояли без покрышки, сырость впиталась в них и с началом оттопки дома выступила наружу».
Больше того, городской губернатор «при осмотре заметил, что дом этот состоит только в парадных и приемных комнатах, а для домашней семейной жизни помещения нет, посему приказал изменить расположение комнат… При этом необходимо было переделывать уже сделанное и делать вновь против первоначального проекта, именно, закладывать двери и окна, пробивать таковые вновь в стенах, делать пристройки, прибавлять потолки, устраивать лестницы и переделывать печи».
В конце концов дом все же привели в приемлемое состояние. И не только приемлемое – он стал одним из красивейших зданий города Уфы.
А во Владимире была другая, грустная история. Там губернаторская резиденция тоже обращала на себя внимание – роскошный особняк-дворец с великолепной колоннадой в стиле классицизм и садом-цветником с видом на реку Клязьму – по всеобщему признанию лучший вид во всем Владимире. Выстроить его распорядился губернатор (и по совместительству поэт) Иван Михайлович Долгоруков. До этого он проживал в другом дворце, ничуть не хуже. Но когда у Долгорукова скончалась жена, он не мог больше оставаться в старой резиденции, где все напоминало об усопшей – и выстроил резиденцию новую, разумеется, на казенные деньги. Там он обжился, залечил душевные раны – и женился повторно. Собственно, ради новой супруги сад-цветник и разбили.
Днем в этих домах решались важные проблемы, по вечерам же закатывались дорогие балы. Не потому что губернаторы все были сплошь весельчаки – им это вменялось в обязанность и даже выделялись на подобные мероприятия специальные деньги. Считалось, что такое «неформальное общение» с элитой города улучшит взаимоотношения начальника губернии (обычно – человека пришлого, чужого) с влиятельными старожилами.
А вот тверской губернатор А. Сомов на том экономил. Один из современников писал: «Он давал гласным обед с дешевеньким вином, не тратя лишних ни своих денег, ни казенных, отпускаемых губернатору на „представительство“. В три года раз он давал такой же обед тверскому дворянству… и, так как был очень скуп, то этими двумя обедами считал свои обязанности по „представительству“ выполненными. Над этой слабостью его местное общество посмеивалось, но вообще было очень довольно своим губернатором».
Сомов, между прочим, сильно рисковал – ведь присвоение денег, выделенных на «приветливое гостеприимство» было чистейшей воды казнокрадством.
Кстати, руководителям Тверской губернии, в сравнении с коллегами, неплохо подфартило. Ведь их резиденция располагалась ни где-нибудь, а в бывшем царском путевом дворце. Несмотря на смену пользователя, дворец все так же числился в ведении Министерство двора, и этим самым министерством для его обслуживания выделялось десять тысяч рублей в год – прямая экономия для губернаторского кошелька.
Кстати, по традиции именно в доме губернатора устраивали представления новых начальников губерний. Проходило это строго и официально. Вот, например, как представляли жителям Самары нового губернатора В. В. Якунина: «В общем зале губернаторского дома собираются в мундирах старшие служащие всех ведомств, предводители дворянства, представители земств и города. Губернатор, тоже в мундире, выходит из внутренних комнат, говорит, обыкновенно, краткую речь и обходит по очереди всех собравшихся, которых ему представляет вице-губернатор. Окончив обход, губернатор просит всех помочь ему в трудном деле управления губернией, кланяется и уходит к себе».
А спустя несколько дней – ясное дело, бал. Да, впрочем, что за чудо – бал? В русской провинции тем балом никого не удивишь. Главный редактор «Костромских губернских ведомостей» фон Крузе примечал: «В настоящую зиму Кострома веселится более, нежели когда-нибудь. Для истинного и общественного веселья нужны не великолепные залы, не пышные и роскошные балы, но радушные хозяева и веселые гости; в тех и других здесь нет недостатка. Если общество костромское немногочисленно, то к чести его должно сказать, что в нем заметны единодушие и приязнь, а это главное в небольшом городе. Здесь все слито в одно; нет слоев в обществе, нет интриг и зависти, как нет гордости и церемонности; везде согласие и простота, оттого и все приятно. Бывают премилые частные вечера, где гости, ожидаемые и встречаемые радушными хозяевами, веселятся от души до поздней ночи, без натянутости, и не привозят домой скуки».
Дворянство же по большей части проживало скромно, занимаясь делами общественными и проживающие свою личную жизнь. Вот, к примеру, одно из событий, произошедшее в дворянском доме города Череповца – рождение будущего баталиста В. В. Верещагина. Здесь появился на свет знаменитый художник В. В. Верещагин. Сам он об этом писал: «14 октября 1842 года в день папашина рождения вечером, когда во всех комнатах играли в карты, я явился на свет – подали шипучки и поздравили предводителя и предводительшу с Василием Васильевичем номер два. Это достопамятное для меня событие случилось в г. Череповце».
Отец художника действительно был здешним предводителем дворянства. Впрочем, он не слишком выделялся из общей массы черепан: «Отец был не блестящ, с довольно мещанским умом и нравственностью, не блестящ, но и не глуп». Соответствующим образом он проводил свои досуги: «Среднего роста, с брюшком, или, как мы, смеясь, называли, с „наросточком“, он был красивой симпатичной наружности. Голос имел мягкий и пел довольно приятно… Был он большой домосед, и любимое занятие его составляло читать лежа на диване и время от времени дремать».
Тем не менее, у лежебоки-предводителя был весьма солидный кабинет: «обставлен старинной мебелью красного дерева. Чрезвычайно пузатые кресла и стулья покрыты черной волосяной материей. Задняя стена кабинета чуть ли не вся заставлена широчайшим книжным шкафом со стеклом, с выдвижными дверцами. На верхних полках помещаются бесконечные ряды непереплетенных „Отечественных записок“ и „Библиотеки для чтения“. На средней красуется „Путешествие Дюмон-Дюрвиля“ в толстых кожаных желтых переплетах, а пониже тянется длинный ряд какого-то энциклопедического словаря в сафьяновых переплетах. По стенам, оклеенным старинными зелеными обоями, развешены сабли, удочки и мухобойки. Кафельная печь, разрисованная синими кувшинчиками, помещается в углу и занимает порядочную долю комнаты. Среди же самого кабинета стоит большой письменный стол на выгнутых ножках. На нем аккуратно разложены приходно-расходные книги, тетради, разные письменные принадлежности и вазочка карельской березы с табаком».
Это не удивительно. Художник вспоминал: «От жизни в зажиточном петербургском доме у папаши моего осталась привычка покупать вещи в лучших магазинах: его чернильница, перочинные ножи, бритвы, ружья – все вещи мне хорошо знакомые – были очень добротны».
Мать же была личностью не менее симпатичной: «Как говорят, в молодости красавица, высокая стройная брюнетка. Она осталась после матери ребенком и воспитание получила под надзором старика отца, умного и набожного. Характера была открытого; горе ли, радость, все равно, не могла скрыть, должна была непременно с кем-либо поделиться… Зная отлично французский язык, почитывала иногда повести и романы; была хорошая рукодельница и часто вышивала шерстью по канве, русским швом по полотну, плела кружева, но всего более любила она принимать гостей и угощать их, хлебосолка была».
Впрочем, предавалась она и иным досугам: «В белой ночной кофточке, откинувшись назад, сидела в креслах мамаша и, покуривая тоненькую папироску, как бы любовалась собою в зеркало. Позади за креслом любимая ее горничная Варюша причесывала ее голову. Чесание это продолжалось обыкновенно чуть не до полудня. Вот Варюша отделила тоненькую прядь черных волос, быстро наматывает себе на указательный палец, старательно снимает колечко и затем прикалывает его шпилькой барыне на висок».
«Василий Васильевич номер два» тоже получился сибаритом. Один из современников писал: «Две просторные комнаты, занятые им на антресолях Кокуевской гостиницы, представляют целый музей: кокошники, вообще головные и всякие другие женские уборы, предметы старины самые разнообразные, тут и иконы, и пуговицы, и монеты, и оружие, и рукописи – все это приобретается художником с большим знанием дела и все поступает в громадное собрание бытовых предметов всех стран света, куда только приводит его любознательность».
Впрочем, не исключено, что главным здесь было не сибаритство, а профессиональный интерес – многие живописцы создавали такие коллекции.
Но главным, конечно, была не коллекция и не семья, а работа. И уже сын художника писал о последних секундах пребывания Верещагина дома: «Рано утром 28 февраля отец встал, напился чаю, позавтракал, простился с каждым из служащих в усадьбе, а потом прощался с матерью… Отец был, по-видимому, крайне взволнован и только молча прижимал нас к себе, нежно гладил по голове… Потом отец крепко обнял каждого из нас, быстро поднялся, и мы слышали, как хлопнула дверь парадного входа… Вдруг мы услышали быстрые шаги отца… Отец стоял на пороге, лицо его выражало страшное волнение, а глаза, в которых явно блестели слезы, он быстро переводил с одного из нас на другого. Продолжалось это не более одной или двух секунд, после чего он резко повернулся и вышел. То были последние мгновения, в течение которых мы его видели».
Впрочем, оставим грусть, и перейдем к более распространенному типажу провинциальной недвижимости – дому городского обывателя среднего уровня достатка.
* * *
«Краткая молитва – одевание – умывание (мылом или розовой водой), посещение заутрени или молитвы дома, занятие хозяйственными делами (а для хозяина и исполнение своих обязанностей вне дома). Если при этом оказывается свободное время, хозяин занимался чтением, хозяйка – шитьем. В десять часов – посещение обедни, в полдень – обед, потом – отдых и снова дела до шести часов, когда слушали вечерню».
Вот формула, выведенная историком Н. Костомаровым применительно к городу Мурому. И хотя Муром – центр не губернский, а уездный, формула эта работала практически во всех более-менее зажиточных провинциальных городах России. А Муром – зажиточный город, купеческий, не даром стоит на Оке – второй по значению реки европейской России.
Семейства побогаче, разумеется, имели собственные дома. Кто деревянные, а кто кирпичные. Выбор материала не был напрямую связан с материальным положением – каменный, конечно же, дороже и престижнее, но деревянный здоровее, в нем и дышится иначе. А перед домом, в обязательном порядке – сад.
В таком вполне солидном доме в тихой части Тулы провел свое детство писатель В. В. Вересаев. Он вспоминал об этих временах: «Тихая Верхне-Дворянская улица… Одноэтажные особнячки, и вокруг них – сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гонят пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаках пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине – город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящем солнцем кресты колоколен».