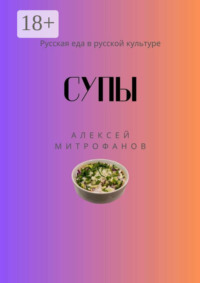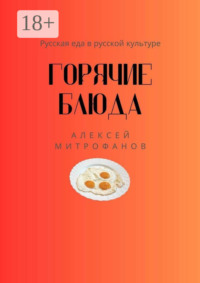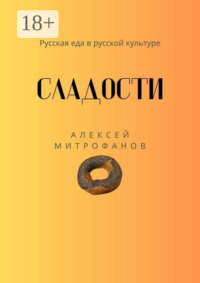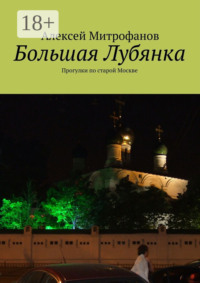Полная версия
Быт русской провинции

Быт русской провинции
Алексей Митрофанов
© Алексей Митрофанов, 2018
ISBN 978-5-4490-8985-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Название книги – «Быт русской провинции XIX века» – конечно, условно. Как, впрочем, и сама провинция. Имеются в виду, конечно, не деревни – города. Города крупные, но не столичные. Большей частью – губернские. Однако, не без исключений. Иной уездный городок с легкостью давал фору собственной губернской столице. А, к примеру, Иваново-Вознесенск (ныне – Иваново) и вовсе числился заштатным городом, входящим в Шуйский уезд. Тем не мене, гремел на всю Россию – как-никак текстильная столица. А про существование Шуи вообще мало кто знал. Или Царское Село (ныне Пушкин). Формально числился уездным городом Санкт-Петербургской губернии, а на деле – царская резиденция, покруче Владимира или Саратова.
И мы решили отказаться от формального подхода (например, брать исключительно губернские города, или города с определенной численностью населения, или еще какие), а, не взирая на статусы и статистические изыскания, воссоздать дух русской провинции, ее вкус, ароматы и звуки.
Отважившись на этот шаг, мы пошли дальше – и отказались от формальных рамок девятнадцатого века. Иначе нам пришлось бы согласиться с тем, что Россия 1801 года и 1899 года имела схожий вкус и звуки тоже схожие. А это, разумеется, не так. Немного поразмыслив, мы решили ограничиться периодом между крестьянской реформой 1861 года и началом Первой мировой войны. То есть, с одной стороны, оставить за рамками помещичье самодурство с крепостными театрами и роговыми оркестрами, а с другой – эшелоны с ранеными, членов царской фамилии, щиплющих корпию и вездесущий запах карболки и йода. Но и здесь рамки не строгие. Какие-то черты из жизни дореформенной провинции никак не изменились из-за упомянутой реформы. А некоторые предвестники необратимой трагедии возникли еще до 1914 года – терроризм народовольцев, Кровавое воскресенье, декабрьские восстания.
Черты мы решили забрать, а вот от предвестников отказаться. Поскольку наша главная задача, как уже сообщалось – провинциальные вкус, ароматы и звуки. А они в русской провинции были особенные, настраивали на неспешный, безмятежный, сокровенный лад и не располагали к политической борьбе.
Однако, эта книга – не вымышленная сусальная сказка, которая бы идеализировала быт Владимира и Костромы. Такие там разыгрывались страсти и страстишки, что, как говорится, хоть святых выноси. Острые впечатления вам гарантированы. Но и щемящий дух безвозвратно ушедшей русской провинциальной жизни – гарантирован тоже.
О чем, собственно речь?
Попытки постичь и осмыслить жизнь русской провинции начали предприниматься в первой половине девятнадцатого века. Конечно, многочисленные путешественники, да и сами провинциалы и раньше присматривались к городам и писали о них. Но касалось это большей части скучных статистических подробностей. А сколько в городе торговых лавок? Есть ли кремль? В каком он состоянии? Тучны ли монастырские доходы? Много ли тут вдовствующих баб?
Не удивительно – ведь путешествовали в основном купцы и офицеры (разумеется, солдаты тоже путешествовали, но, по причине почти что тотальной безграмотности, от описаний воздерживались). Вот и получались у них то военные донесения, то маркетинговые исследования потенциального рынка, а чаще сплетения того и другого.
А в девятнадцатом веке в России возникли писатели. То есть, литераторы, старающиеся не ради красного словца и прославления власть имущих («Императрикс Екатерина, о! поехала в Царское Село» – пусть и пародия на Тредиаковского, но больно уж хорошая и точная пародия), а ради развлечения читателей и чтобы через это заработать. Во всем своем многообразии в стране начался литературный процесс.
Писатель – субъект любопытный, а значит и склонный к перемещению мест. А что ни место – то картина. Которую, разумеется, следует обрисовать словами, проанализировать и вывести в конце концов мораль, а как же без морали?
Вот, например, Иван Аксаков – о прекрасном городе на Волге, Ярославле: «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, с старинными прекрасными церквами, башнями и воротами; город с физиономией. Калуга не имеет никакой физиономии или физиономию чисто казенную, Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения, прежней исторической жизни. Церквей – бездна, и почти не одной – новой архитектуры; почти все пятиглавые, с оградами, с зеленым двором или садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри внутри города, с каменными стенами и башнями, и вы помете, как это скрашивает город, а тут же Которосль (старое название реки Которосли – авт.) и Волга с набережными, с мостами и с перевозами. Что же касается до простого народа, то мужика вы почти и не встретите, т. е. мужика-землепашца, а встречается вам на каждом шагу мужик промышленный, фабрикант, торговец, человек бывалый и обтертый, одевающийся в купеческий долгополый кафтан, с фуражкой, жилетом и галстуком… Роскошь в городе страшная. Мебель, квартиры, одежда – все это старается перещеголять и самый Петербург».
Тут вам и анамнез, и диагноз – разве что курс лечения не обозначен.
Литератор Филипп Диомидович Нефедов препарировал свой родной город Иваново-Вознесенск: «Вознесенский посад, составляющий, так сказать, предместье русского Манчестера… поразительно походит на обыкновенное село: те же чумазые избы и избенки, крытые соломой и тесом, те же кабаки и даже тот же неизменный трактир с чудовищно-пузатым самоваром на вывеске. Потом идут какие-то пустыри и, наконец, только центр, где находятся торговые ряды, весьма, правда, пустынные, и проходит главная улица, напоминает что-то смахивающее на уездный город. Самое Иваново еще больше поражает непривычный глаз жителя столицы: изрытое оврагами, оно состоит из множества кривых и неправильно расположенных улиц, перемежаемых узенькими переулками; постройки большей частью деревянные, целые улицы сплошь состоят из черных изб („черные“ или „курные“ избы – с печью без выводной трубы для дыма). И только местами, рядом с какой-нибудь разваленной хижиной крестьянина, встречается громадная фабрика с пыхтящими паровиками или большой каменный дом богача-фабриканта с штофными драпри на окнах. Прибавьте ко всему этому базарную площадь с торговыми лавками, трактиры и бесчисленное множество кабаков, попадающихся чуть ли не на каждом шагу, и перед нами налицо весь русский Манчестер с его внешней стороны».
Александр Островский писал о Торжке: «Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Замечательнее других – вид с левого берега, с бульвара, на противоположную сторону, на старый город, который возвышается кругом городской площади в виде амфитеатра. Хорош также вид с правой стороны, с старинного земляного вала; впрочем, лезть туда найдется немного охотников. Собственно старый город был на правом берегу – там и соборы, и гостиный двор, и площадь, а левый берег обстроился и украсился только благодаря петербургскому шоссе».
Тарас Шевченко – об Астрахани: «Астрахань – это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанной рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутум. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия…»
Михаил Дмитриев – поэт и автор мемуаров «Мелочи из запаса моей памяти» – о Муроме: «Муром так напоминает собою то старое время, когда от набегов, своих и чужих, строились на местах гористых, почти неприступных, что, проезжая его, мне всегда мечтается, что живу во времена наших удельных князей; он всегда возбуждает во мне какое-то странное чувство этой тревожной старины, спокойной на своей горе, за своею широкою рекою, за своими непроходимыми лесами и песками! Муром, с своим длинным и крутым спуском к самой Оке, чрезвычайно живописен, особенно с середины реки, а самое плавание по Оке на пароме составляет какое-то приятное разнообразие с скушной и утомительной дорогой. За ним пойдут на шестьдесят верст глубокие сыпучие пески, окруженные сосновым лесом, по которым закладывают в карету по осьми и по двадцати лошадей, но и те едва смогут вывести: ноги уходят в песок дальше щиколотки, как в воду. Зато эта пустыня, эта окрестная тишина, имеют в себе что-то романтическое, как будто читаешь роман Купера. Нынче знаменитый муромский лес так вырублен по обеим сторонам дороги, что между двух сторон с полверсты пространства. Но когда я начал ездить по этой дороге, она вся была в лесу, а по обеим сторонам узкого пути, в некоторых местах, застланных хворостом, было болото, так что разбойники могли нападать из лесу, почти невидимо, а ускакать было некуда! Об этой узкой дорогие в дремучем лесу, с которой только и видно было вверху небо, было в старину даже особое выражение „в небо дыра“!»
И во всем этом – стремление подобрать к городу бирочку и поставить его с этой бирочкой на полочку на полочку своих литературных достижений.
Однако же со временем любовь к подобным бирочкам пошла на спад, а чувства начали преобладать над разумом. Писатели (да и не только писатели, а впрочем понятие «писатели» тоже со временем стало размытым) научились любоваться русской провинцией, восхищаться, очаровываться ею, петь ее. Главное – впечатление. Самое сильное впечатление – первое.
«Я вышел на палубу и остановился в изумлении: пароход, чуть пошевеливая колесами, пробирался посреди бесчисленного множества плотов и барок, составлявших почти одну сплошную массу во всю ширину реки. Мы были в Рыбинске, но я не видел еще города, а только огоньки в окнах его домов, сверкающие в темноте, на высоком правом берегу Волги.
Я проснулся очень рано и тотчас же пошел в город. Богатые каменные дома, тянущиеся стройным рядом по высокому берегу, прекрасная, устланная камнем набережная с хорошенькими перилами, отличный тротуар вдоль набережной – все показывало, что жители Рыбинска люди не бедные. Город еще спал, только в открытых окнах трактиров половые постукивали чашками. С высокой набережной открывался прекрасный и очень оригинальный вид на широкую реку, на бесчисленные суда, на противоположный берег, застроенный складочными магазинами, амбарами и сараями. Рыбинская пристань тянется на несколько верст, а суда располагаются у берега правильными отделениями, смотря по тому, с каким они грузом и куда идут».
Это педагог К. Д. Ушинский.
«К 2 часам увидали мы с последнего перевала Екатеринбург. Широко раскинутый, как и все сибирские города, он производил своими зелеными крышами и шестью стройными церквами весьма приятное впечатление, которое остается и по въезде в него. Особенно хороша та часть города, где разливается, наподобие большого озера, р. Исеть, протекающая весь город. Здесь виден островок с различными увеселительными местами, который летом должен иметь прелестный вид, как и вообще вся окрестность… Екатеринбург один из лучших сибирских городов, виденных нами; ряды красивых домов, базар и прекрасные церкви имеют почти величественный вид. К сожалению, улицы его находятся в ужасном состоянии… Это были не просто испорченные мостовые, но все улицы и площади были покрыты сплошной массой грязи. Эта масса походила на асфальт, который, казалось, должен отвердеть с минуты на минуту, но не твердел, и извозчики развозили своих пассажиров, забрасывая их грязью, в которую колеса уходили по ступицу. Несмотря на то, что под руками имеются отличные ломки гранита, горожане привезли лишь несколько тротуарных плит и камней для исправления улицы, но не принимались за дело, как бы не надеясь достигнуть желанной цели. А между тем придется же приняться за это и даже с энергией, потому что необходима не только поправка, но нужно сделать все заново. Или почва, на которой построен город, содержит в себе много золота, и хотят сделать эти сокровища более недоступными?»
Это знаменитый Альфред Брем – пусть немец, но объехавший большую часть Сибири и вполне вписавшийся в русскую литературно-градоведческую традицию. Радостные, печальные – главное: эмоции.
А писательница В. Дмитриева рассказывала о своем визите в Сочи в 1903 году: «В 1903 году я в первый раз приехала в Сочи. Был великолепный июньский вечер, когда пароход „Черномор“ остановился на рейде. Солнце пурпурное опускалось в море лазурное, весь берег утопал в золотом сиянии, вечерний бриз навевал оттуда запахи роз и магнолии… Вдоль всего городя тянулись три главные улицы: Московская, Приморская и Подгорная, застроенные небольшими, по большей части одноэтажными домами, сверху донизу увитыми розами и глициниями. Их розовые, лиловые, белые, красные каскады струились вдоль стен, скрывая совершенно фасады домов, и город казался сплошным сараем».
В то время курорт еще только налаживался, ездили туда мало и с опаской, и непонятно, по большому счету, было, чем он станет – курортом ли, или простым уездным городом. Наблюдения Валентины Иовны представляли для современников большую ценность.
Публицист Николай Лейкин рассказывал о знакомстве своем с русским городом Вологдой: «Пролетка петербургского типа, но без верха прыгала по длинной широкой улице с мостовой из крупного булыжника. Улица, как бульвар, была обсажена березами с белыми стволами. Длинной чередой тянулись деревянные дома, некоторые вновь построенные и украшенные резьбой, а два-три из них даже с зеркальными стеклами. Чувствовался достаток владельцев, домовитость, видно было, что все это строилось для себя, а не для сдачи внаем. Дома чередовались с садиками, но опять-таки засаженными исключительно березами. Редко где выглядывали из-за массивного тесового забора тополь или рябина. Виднелась вывеска агента страхового общества, вывеска конторщика транспортных кладей… Вологда… имеет много садов, бульваров и утопает в зелени. Насаждения эти состоят только из берез и поэтому Вологду можно назвать березовым городом. Здесь не вымерзают, как я узнал, и другие породы деревьев, но у вологжан уж такая страсть к березам. Повсюду виднеются белые стволы. Бульвар березовый, сады березовые, около церквей в оградах березы. В городе по улицам, по площадям, по пустырям ведутся новые насаждения, и они состоят из березок. Загородное гулянье, состоящее из клуба местного пожарного общества, находится в березовой роще».
А Ефим Бабецкий, тоже публицист – с Ростовом-на-Дону: «Когда свежий человек попадает в Ростов-на-Дону, энергическая физиономия вечно занятого, всегда куда-то спешащего ростовского жителя сейчас бросается ему в глаза. Тихой с «размерцем», плавной и покачивающейся походки… вы тут не заметите. Даже дамы и те двигаются по ростовским панелям быстро и порывисто, точно им тоже некогда. Указанная особенность – черта, прирожденная всякому портовому городу с преобладающим торговым населением…
В Ростове, очевидно, все люди деловые. В этом, конечно, очень много хорошего, в особенности принимая во внимание китайскую, кажется, поговорку о том, что труд – лучшая охрана добродетели, – но все же эта попадающаяся на каждом шагу фигура с классическим кошельком – начинает вас тяготить».
В том же ключе – первые впечатления Бориса Зайцева о Ярославле: «Ярославль начинается с извозчика, который вас везет. Говор на „о“, с сокращением гласных („понима-ть“, „зна-ть“) сразу дает круглое и крепкое впечатление русского. Очень здорового, симпатичного и способного народа, живущего тут. Это потом оправдывается повсюду: недаром ярославцы издавна слывут людьми прочными, жизненными и сметливыми».
Удивительно все. Пролетка петербургского типа – ну надо же! Извозчик с говором на «о» – вот это да! Деловые люди, интересно-интересно. Улица, обсаженная березами с белыми стволами – повод для очередного восторга. Были бы вместо них липы с черными стволами – восторгали бы не меньше.
Особая история – когда на город смотрит человек, который в нем провел большую часть своей насыщенной событиями жизни. Вырос в провинции, уехал в столицы за счастьем – и счастье наше. Вернулся на родину совершенно другим человеком, столичной штучкой. И что же увидел? Да то же, что и уроженец столицы. Вот, например, заметки Михаила Нестерова: «Вот уже прошла неделя, как я в Уфе, которая, несмотря на все усилия цивилизации, все та же немудреная, занесенная снегом, полуазиатская… По ней нетрудно представить себе сибирские города и городки. Начиная с обывателей, закутанных с ног до головы, ездящих гуськом в кошевках, и кончая сильными сорокаградусными морозами, яркими звездами, которые в морозные ночи будто играют на небе; им словно тоже холодно, и они прячутся…»
Начало описательное, статистическое то и дело пробивалось, никуда не спряталось. Но, как правило, сопровождалось передачей настроения, даже если автор не имел ровным счетом никакого отношения к миру искусств. И вот мы читаем в серьезном отчете Николая Андреевича Ермакова «Астрахань и Астраханская губерния. Описание края и общественной и частной жизни во время одиннадцатимесячного пребывания в нем»: «Вообще город выстроен весь по плану, и… его смело бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда расстилаются перед зрителем картины, хотя не обширные, но красивые, в которых над пестрыми массами крытых черепицею домов резко и гордо возвышаются 34 храма, большею частью огромные, оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый кремль с колоссальною грандиозною громадою своего пятиглавого собора венчает пейзаж, по местам освеженный… зеленью и озаренный яркими лучами здешнего знойного солнца».
Сосчитать скрупулезно количество храмов – и приплести под конец озарение солнцем – это ли не курьез? Нет, не курьез – очарование русской провинции свое берет, кого угодно сделает поэтом.
Дмитрий Иванович Архангельский, художник, вспоминал: «Захолустный Симбирск с конца XVIII века и до половины XIX постепенно отстраивался и украшался, и невольно, конечно, отразил в своих сооружениях классический стиль, господствовавший тогда в русской архитектуре. Свои мечты о прекрасном зодчие воплотили в удивительные здания, напоминавшие греческие храмы, окруженные колоннами, имевшие торжественные портики с античными украшениями. Среди нашей серенькой природы, среди зелени березок и лип эти колоннады были неожиданны и празднично-нарядны. К ним мы привыкли и сроднились с ними».
Архангельский вырос в Симбирске, покинул свой город, но, вскормленный чуть не в буквальном смысле слова здешними пейзажами и здешней атмосферой, до конца своей жизни воспевал в своих работах родной Симбирск.
А вот взгляд на тот же город, но со стороны: «Симбирск так далеко и высоко забрался на гору, что с пристани его совсем не видно, и в город приходится подыматься по довольно крутому, изогнутому змеей Петропавловскому спуску. Лежа на горе между Волгой и Свиягой, которая пробегает своими верховьями совсем рядом со старейшей своей сестрой, Симбирск совсем заснул на высоком своем пьедестале с крупными обрывами к обеим рекам. Это старое дворянское гнездо, с славой и весельем в прошлом, с преданиями жизни прежних помещиков и важных бояр, центр в былые дни провинциального блеска, всего модного и изящного, старый барин среди волжских городов, обедневший, заснувший и полузабытый нынче, когда вся аристократия его испарилась… Пожары разогнали дворянство, а прежний блеск, ослепительные празднества, прославленные балы – все осталось как милое предание хорошей старины, во всех этих больших зданиях и губернского дворца, и дворянского собрания, и частных помещичьих домов. Душный, среди облаков пыли спит город со своим Венцом, очевидно, бывшим кремлем, где от прежних крепостей, палисад и стен и следа не осталось. Венец – высший пункт города, и вид с него на Волгу прекрасен».
Это – путешественник В. Сидоров, работа под названием «По России». Похоже, что великолепие русской провинции видится со стороны несколько ярче.
Впрочем, встречались и странные вещи. Константин Константинович Случевский, которого в свое время называли королем русской поэзии, отозвался о Череповце – старинном и уютном городе на берегу речки Шексны – неожиданно сухо: «Череповец, задолго до образования города, был богатейшей волостью на Шексне, с пристанью и удобным местом для нагрузки и перегрузки. Это сделало его известным, и патриархи московские присвоили из Новгородской митрополии в свое личное управление, ради доходов обители, Воскресенский монастырь в Череповце. Череповец, равно как и Кириллов, обязаны своим бытием, как города, императору Александру I; но Череповец, как торговый попутный центр, обозначился уже давно. Историческими воспоминаниями Череповец небогат, необходимо, однако, упомянуть о находящейся в 25 верстах от него Выксенской пустыни, в которой была пострижена последняя супруга Иоанна Грозного, Мария Нагая; отсюда она и была вызвана самозванцем в Москву. Герб Череповецкого уезда имеет классического для Новгородской губернии медведя; из 11 уездов ее только три не имеют этого „лесного помещика“ своим геральдическим украшением».
Ни образов, ни настроений, совсем как статья в Википедии – даром что стихотворец. Не вдохновил его Череповец.
В подобном стиле Федор Пастернацкий – терапевт и курортолог – описывал Сочи: «Город Сочи с его окрестностями является наиболее интересным среди других областей Черноморского побережья по тому широкому климатобальнеологическому значению, какое он, несомненно, займет в самом недалеком будущем. Основанием этому служит самый город, обозначившийся уже как климатическая станция, во-вторых – богатство его окрестностей местами, еще более пригодными для климатолечебных целей, и наконец, близость к этому городу серных источников (по реке Мацесте и реке Агуре), пригодных для эксплуатации их с бальнеологическими целями…
Положительно приходится поражаться быстрому развитию жизни в Сочи: в 1901 году там было еще только два плохоньких извозчика, выезжавших на линейках, теперь их имеется 17, у большинства из них четырехместные коляски-корзинки, такие же, как у ялтинских извозчиков, и у некоторых из них колеса снабжены резиновыми шинами. Словом, приезжая в Сочи, вы теперь попадаете в благоустроенный городок, который уже смело можете назвать курортом: имея прекрасный приморский бульвар, хорошо устроенную водолечебницу доктора Подгурского, 13 или 14 гостиниц, 7 практикующих в городе врачей, 2 клуба, библиотеку, почту и телеграф, хорошие экипажи, оркестр военной музыки, играющий на бульваре два или три раза в неделю, – что же еще желать от родившегося четыре-пять лет назад курорта?»
Но одно дело – врач, а другое – поэт.
Ближе к концу девятнадцатого массовыми делаются увлечения историей и краеведческие практики. В первую очередь это касается столиц, усадеб, археологических захоронений. Но и провинция не остается за рамками. Краеведы познают родимый край. Журнал «Русский турист», орган общества велосипедистов-туристов, в частности, пишет про Ростов-на-Дону: «Город Ростов-на-Дону – это центр торговли юга, сердце промышленности… Город растет с американской скоростью… Главная улица, Садовая – это Невский Ростова. Действительно, улица эта вполне может равняться с нашим петербургским Невским, хотя ширина ее и меньше Невского. Тротуара асфальтовые; кроме того, со стороны, прилегающей к мостовой – аллеи, чего нет в Петербурге. Освещение электрическое, очень хорошее; расстояние между фонарями значительно меньше, чем в Петербурге. Дома каменные, весьма красивой, легкой архитектуры. Особенное внимание заслуживает новый городской дом – дивно красив и массивен. Магазины чисто европейской наружности. Масса фабрик и заводов. Здесь знаменитые табачные фабрики Асмолова и Кушнарева, табак которых курит вся Россия.
Вероятно, скоро наступит время, что купцы Кавказа перестанут ездить в Москву, а все дела свои будут иметь в Ростове».
Живой, в чем-то задорный стиль туристов-велосипедистов разделяют профессиональные историки. Один из них, Александр Ильин, писал все про тот же Ростов-на-Дону: «Ростов-на-Дону, представляя из себя в настоящее время крупный торгово-промышленный центр юго-востока России, обязан своим процветанием исключительно благоприятным географическим условиям, которые и создали его судьбу… Ростов рос и развивался сам собою… Было время, когда в землях приазовья гремел Таганрог, но время это безвозвратно ушло в область преданий. Таганрог теперь живет воспоминаниями о прошлом величии, тогда как Ростов живет настоящим и, прогрессируя из года в год, свое будущее представляет себе в самом привлекательном виде».