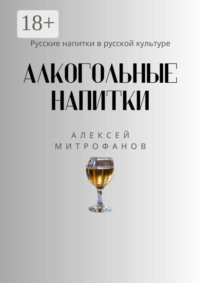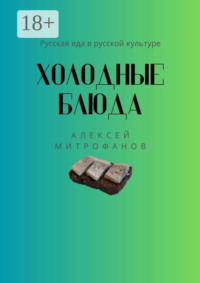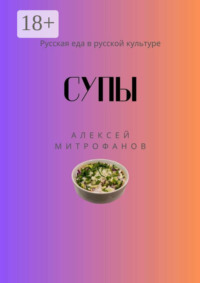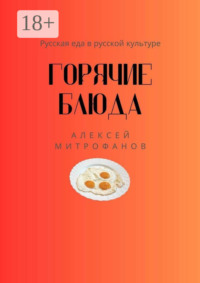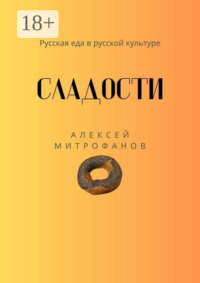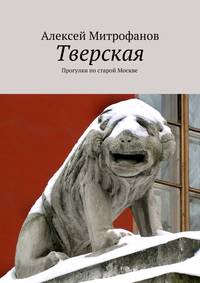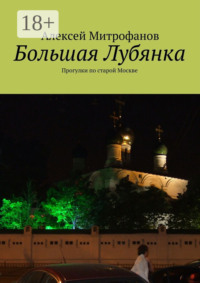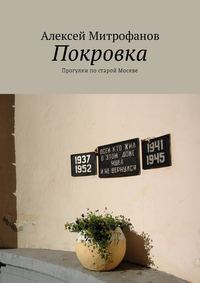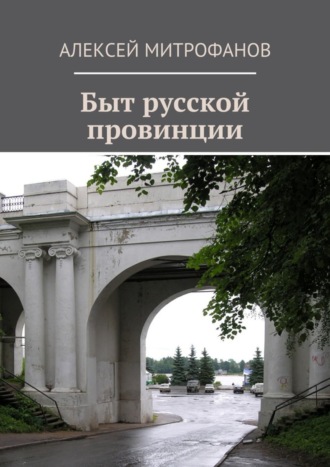
Полная версия
Быт русской провинции
Поразил он и своим подходом к службе. Другие очевидцы вспоминали: «Быстр он был на понимание всего, с чем бы ни пришлось ему встретиться, до такой, степени, что самую запутанную, написанную старым приказным слогом бумагу читал он, близко поднося ее к своим близоруким глазам, настолько скоро, что по движению его носа слева направо и обратно, по мере того, как глаза его пробегали строчки, можно было судить о стремительности процесса усвоения им всего прочитанного. Прочтя бумагу, он брал перо и сразу полагал на бумаге резолюцию, поражавшую проникновенно ясным пониманием того, что необходимого, справедливого и полезного для дела по этой бумаге нужно было сделать».
Здесь же, в здании губернского правления, при Салтыкове оборудована была современнейшая типография. Понятно, что книжное дело было для писателя стихией близкой. И не удивительно, что он воспользовался своими петербургскими знакомствами. Писал, к примеру, В. П. Безобразову, в то время редактировавшему журнал Министерства городских имуществ: «С величайшим удовольствием узнал я, многоуважаемый Владимир Павлович, об открытии Вами типографии и словолитни. По этому случаю у меня к Вам следующая всепокорнейшая просьба. Здешняя губернская типография имеет нужду в шрифте, и потому было бы весьма желательно, если бы Вы согласились исполнить заказ типографии и выслать полный шрифт с тем, чтобы типография выплатила вам сумму по третям… Если это дело для Вас возможное, то благоволите прислать ко мне: образцы шрифтов, в чем заключается полный шрифт, т. е. обыкновенный с подлежащим количеством петита, цицеро, латинских букв и т. д.»
Шрифты были получены. Дело с типографией пошло.
Салтыков Щедрин вновь оказался в городе Рязани в 1867 году. На этот раз он заступил в должность руководителя казенной палаты, располагавшейся все в том же доме. И снова поражал своих сотрудников: «Салтыков занимался в палате делом очень усердно, скоро и внимательно. Обладал быстрым соображением и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им сочиненные, представляли в некотором роде литературную редкость».
Но в основном рязанцев поражало следующие: «При нем не брали взяток, или так называемых благодарностей… не пороли чиновников и не сажали их под арест».
Такого странного начальника жителям города еще не доводилось видеть.
А в перервы между этими назначениями были и другие, в том числе, должность вице-губернатора Твери (1860 – 1862 годы). Поначалу нового чиновника встретили настороженно. Одной из причин для того послужил как раз поиск жилища. Некто А. А. Головачев писал в одном из писем: «У нас на каждом шагу делаются гадости, а вежливый нос (Павел Трофимович Баранов, губернатор – АМ.) смотрит на все с телячьим взглядом. Салтыкова, поступившего на место Иванова, я еще не видел, но разные штуки его сильно не нравятся мне с первого раза. Например, посылать за полицмейстером для отыскания ему квартиры и принимать частного пристава в лакейской; это такие выходки, от которых воняет за несколько комнат».
Поначалу Салтыкову-Щедрину дали весьма нелестное прозвание. Другой житель Твери писал: «По уездам предписано сделать выборы предводителей по представлению Носа вежливого… Эта выходка Носа вежливого окончательно доказывает его лакейскую душу. Скрежет зубовный вступил уже недели две с половиною в должность, и, как слышно, дает чувствовать себя».
«Скрежет зубовный» и есть Михаил Евграфович.
Впрочем, в скором времени жители города, что называется, сменили гнев на милость. А в официальной справке, данной Салтыкову-Щедрину значились такие его качества: «Вице-Губернатор Салтыков сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных».
Но несмотря на это Салтыков-Щедрин катастрофически не уживался со своими сослуживцами – как низшыми, так и высшими. Был, что называется, не того поля ягодой.
Относилось это и к другому литератору, И. С. Аксакову. Он исправлял должность товарища председателя уголовной палаты в Калуге и признавался: «До сих пор ни с кем, кроме Унковских, не познакомился и решительно так же чужд Калуге, ее жителям, ее интересам, как какому-нибудь Моршанску».
Саму же службу он описывал в стихах:
Еще один писатель, А. Ф. Писемский служил в городе Костроме губернским секретарем палаты государственных имуществ. Впечатления свои описывал впоследствие в романе «Люди сороковых годов»: «Вихров затем принялся читать бумаги от губернатора: одною из них ему предписывалось произвести дознание о буйствах и грубостях, учиненных арестантами местного острога смотрителю, а другою – поручалось отправиться в село Учню и сломать там раскольничью моленную. Вихров на первых порах и не понял – какого роду было последнее поручение.
– А скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда село Учня? – спросил он исправника.
– Верст сорок, – отвечал тот.
– Мне завтра надо будет ехать туда, – продолжал Вихров.
– В таком уж случае, – начал исправник несколько, меланхолическим голосом, – позвольте мне предложить вам экипаж мой; почтовые лошади вас туда не повезут, потому что тракт этот торговый.
– Но я возьму обывательских, – возразил Вихров.
Исправник на это грустно усмехнулся.
– Здесь об обывательских лошадях и помину нет; мои лошади такие же казенные».
В том же романе – харакерное письмо героя к двоюродной сестре: «Пишу к вам это письмо, кузина, из дикого, но на прелестнейшем месте стоящего, села Учни. Я здесь со страшным делом: я по поручению начальства ломаю и рушу раскольничью моленную и через несколько часов около пяти тысяч человек оставлю без храма, – и эти добряки слушаются меня, не вздернут меня на воздух, не разорвут на кусочки; но они знают, кажется, хорошо по опыту, что этого им не простят. Вы, с вашей женскою наивностью, может быть, спросите, для чего же это делают? Для пользы, сударыня, государства, – для того, чтобы все было ровно, гладко, однообразно; а того не ведают, что только неровные горы, разнообразные леса и извилистые реки и придают красоту земле и что они даже лучше всяких крепостей защищают страну от неприятеля. Есть же за океаном государство, где что ни город – то своя секта и толк, а между тем оно посильнее и помогучее всего, что есть в Европе. Вы далее, может быть, спросите меня, зачем же я мешаю себя в это дело?.. Во-первых, я не сам пришел, а меня прислали на него; а потом мне все-таки кажется, что я это дело сделаю почестней и понежней других и не оскорблю до такой степени заинтересованных в нем лиц. А, наконец, и третье, – каюсь, что очень уж оно любопытно. Я ставлю теперь перед вами вопрос прямо: что такое в России раскол? Политическая партия? Нет! Религиозное какое-нибудь по духу убеждение?.. Нет!.. Секта, прикрывающая какие-нибудь порочные страсти? Нет! Что же это такое? А так себе, только склад русского ума и русского сердца, – нами самими придуманное понимание христианства, а не выученное от греков. Тем-то он мне и дорог, что он весь – цельный наш, ни от кого не взятый, и потому он так и разнообразен. Около городов он немножко поблаговоспитанней и попов еще своих хоть повыдумал; а чем глуше, тем дичее: без попов, без брака и даже без правительства. Как хотите, это что-то очень народное, совсем по-американски. Спорить о том, какая религия лучше, вероятно, нынче никто не станет. Надобно только, чтоб религия была народная. Испанцам нужен католицизм, а англичанин непременно желает, чтобы церковь его правительства слушалась».
Не удивительно, что вскоре Писемский покинул службу. Покинул не без сожаления. Писал: «принужден с моей семьей жить в захолустной деревнюшке в тесном холодном флигелишке; положим мне ничто: зачем не был подлецом чиновником, но чем же семья виновата?»
Но со своей совестью поделать ничего не мог.
Люди такого плана, разумеется, не приживались в мире госчиновников. Вот, например, как описывал некий калужский обыватель Гусев своего брата-чиновника: «Старший брат Коля учился в Уездном училище, где и кончил курс. Поступил на службу в Палату Гражданского Суда чиновником. Жалования он в то время получал, кажется, 10 р. В молодости имел характер веселый, живой, большой танцор. Он очень много читал и тем значительно развил себя. К службе, как видно, способен был, но, кажется, ленив, а особенно не сдержан на язык к старым начальникам, но в высшей степени справедлив и честен, что, конечно, не нравилось старшим, у которых взятки были на первом плане, а особенно в суде. Почерк он имел прекрасный, грамотно и хорошо составлял (а не переписывал) бумаги. За справедливость и честность его считали неуживчивым, а собственно, его боялись. Поэтому он, переходя с место на место, в конце концов совершенно бросил службу и занялся быть ходатаем по делам меньшей братии».
* * *
Гораздо проще было деятелям выборным. Особенно, если они из купечества, и при состоянии, гарантирующим независимость. Взять хотя бы уже упомянутого Андрея Александровича Титова, гласного думы Ростова Великого. Его речи в думе уникальны – и в отношении ораторского искусства, и в отношении гражданской позиции. Он, например, выступал перед гласными:
– Основание к учреждению родильного отделения, полагаю, для всех понятно: это – человеколюбие. Вероятно, до всех доходили рассказы ростовских врачей о том, что им нередко приходится бывать у бедных рожениц в таких помещениях, где зимою от холода, сырости, угара и разных испарений не только нет возможности поправиться больному, но очень легко и здоровому заболеть, и потому все высказанное мною заявление сделано с единственною целью – насколько возможно, избавить матерей от подобной участи, а детей спасти от преждевременной смерти.
Иной раз предложения Титова были вовсе неожиданными. К примеру, когда накопилась недоимка с горожан, лечившихся в земской больнице, но не расплатившихся, и дума размышляла, как бы эти деньги получить, он выступил с таким неординарным предложением:
– Городская дума заплатит всю недоимку… и кроме этого обяжется на будущее время уплачивать ежегодно за лечение несостоятельных мещан, не доводя управу ни до какого судебного процесса… Это будет по моему мнению… гораздо лучше и полезнее, чем вести долгий процесс, сорить деньги и все таки не быть уверенным, придется ли получить, или нет эту недоимку. Затем, господа гласные, я обращаюсь к нравственной стороне этого дела: те мещане, с которых следовало бы получить деньги, давно уже умерли, или ровно ничего не имеют, а потому приходится получить с людей, ни в чем не повинных, отнимать у них последнее жалкое имущество, продавать их бедные лачуги!
Любопытно, что такое неожиданное предложение было принято двадцатью семью голосами против двух – настолько мощной была сила убеждения Титова.
При всем при том, без стихотворных опусов он свою жизнь не мыслил. Мог, к примеру, шутки ради состряпать посвящение своему знакомому, некому Оскару Якимовичу Виверту:
Впрочем, на Андрея Александровича редко обижались. Чаще преподносили ему книги с трепетными посвящениями: «Многоуважаемому Андрею Александровичу Титову, энергичному и талантливому труженику родной археографии, всегда готовому содействовать другим, дань признательности от редактора издания». А иногда посвящения сочиняли в стихах:
Или:
Похоже, автор этой эпиграммы не особенно преувеличивал. Андрей Александрович и вправду был деятелем «микеланджеловского» типа, то есть сочетал в себе множество самых разнообразных талантов.
* * *
Великолепным был Милюта-Шевелюта – так звали с детства будущего городского голову Череповца Ивана Андреевича Милютина. Этим прозвищем он был обязан своему незаурядному умению «шевелиться» во время незамысловатых игр. А вскоре Шевелюта стал играть в другие игры – взрослые и очень даже интересные.
Можно безо всякого сомнения сказать, что Иван Андреевич был самым знаменитым из уездных городских голов. Свидетельств тому множество. Вот, например, цитата из одного детективного романа, изданного в Петербурге в 1911 году:
«– Если с умом взяться, – говорил отец, – то свой город можно будет так выдвинуть – страсть. Вся Россия ахнет!.. Дескать, не было ни гроша, да вдруг алтын.
– Как же это, тятенька?
– А как Милютин в Череповце… Ну-ка, как он город свой возвеличил! Ни одному губернскому не уступит.
– Так ведь Милютин-то один на всю Россию…
– Не уж русская земля клином сошлась, и только и есть в ней, что Милютин Череповецкий?»
Именно так и написано – Милютин Череповецкий. Почти как про святого.
Заслуги Милютина были для всех очевидны. Журналист Ф. Арсеньев писал: «Несколько лет тому назад я знал Череповец за весьма скромный городок с невозмутимою тишинною на улицах и совершенно провинциальною простотою нравов населения, занятого мелочными житейскими делишками. Теперь Череповец стал бойким оживленным городом, и оживление это началось с того времени, как широко развернулась коммерческая деятельность И. А. Малютина. В настоящее время здесь множество учебных заведений, хороший механический завод, док для постройки судов и барж и постоянный прилив сюда разных культурных людей».
Это – лишь на поверхностный взгляд. Сами же черепане охотно продолжали тот список. Адрес, поднесенный городскому голове в честь 25-летия несения им этой должности выглядил довольно впечатляюще: «Сегодня представляется нам случай во всеуслышание напомнить себе вкратце то, что сделано под управлением и руководством Вашим и отчасти на личные средства Ваши для родного города в последние 25 лет. Это напоминание небесполезно как для нас самих, так и для будущего нашего поколения. Так, например, на том месте, где была ветхая пожарная изба, стоит теперь вот это здание, в котором мы собрались праздновать сегодняшний день и в котором помещаются: Городская Управа, Банк, Общество Взаимного Страхования, библиотека, Мещанская Управа и Полицейское Управление. На площади, где был кабак и старая тюрьма, теперь Женская Гимназия и Городское трехклассное училище, а там, где был полуразвалившийся домик, занимаемый городским магистратом и съезжей, теперь высится здание Окружного Суда. Затем, где стояли 30 лет каменные стены с полусгнившим деревянным куполом, ныне красуется храм Благовещения, с которого началось благоустройство города. Далее воинские казармы, избавившие обывателей от постойной повинности, на главной площади новый просторный гостиный двор. По некоторым улицам явились каменные мостовые и почти по всем тротуары. Подгородные поля окружены земляным валом… В городской лесной даче произведена осушка болот и устроена прямая дорога, через что дача с 27 приблизилась к городу на 14 верст… Рядом с доком тянется земляная дамба с мостом, перекинутым через реку Ягорбу, что значительно придвинуло к городу Шексну».
Да уж, список и впрямь впечатляющий. Плюс к тому же старания по улучшению водной Мариинской системы, связывающей реку Волгу со столицей и проходящей мимо города Череповца. А что касается учебных заведений, то в этом плане господин Милютин сделал просто напросто немыслимое. Публицист А. Субботин писал: «Лежит знаменитый город Череповец, – или проще говоря, северные Афины… В городе около 800 учащихся, или по одному на пять жителей – пропорция такая, какую встретишь только где-нибудь в Цюрихском кантоне. В Череповце имеется реальное училище, женская гимназия, учительская семинария, сельскохозяйственная школа и др. Кроме того, в городе находится окружной суд, так что интеллигенции хоть отбавляй. Сюда посылают учиться из разных мест Новгородской и смежных с нею губерний. Оканчивающие в здешнем ремесленном училище и в техническом отделении реального училища разбираются нарасхват на места механиков, мастеров, на пароходные верфи, на заводы и пр. Такою культурною ролью город во многом обязан состоящему 30 лет городским головою Ивану Андреевичу Милютину, довольно известному в общественных и петербургских сферах; Иван Андреевич также самородок в своем роде и видный деятель Поволжья».
А началось все в 1853 году, когда двадцатичетырехлетний, но вполне преуспевающий предприниматель принят был на службу в городскую ратушу. Спустя два года он стал первым бургомистром города Череповца. А в 1861 году он становится городским головой.
Главные качества для городского головы – энергичность, непоседливость и хорошо подвешенный язык. У Ивана Андреевича со всем этим был, что называется, полный порядок. Чего стоило хотя бы его выступление на открытии женского профессионального училища:
– Пускай дает нам этот новый питомник: добрых, честных, толковых, разумно-трудолюбивых, бережливых, хороших пособниц своим матерям и своим сосемейникам; а потом, по совершеннолетии, пусть дети эти будут хорошими хозяйками, женами и матерями и, не мудрствующими лукаво, истинными христианками, добрыми гражданками. Затем, конечный, результат такого воспитания должен выразиться для них в улучшении довольства семьи, в благоустройстве ее и хозяйства: а) в жилье – вместо путешествующих по стенам, по случаю нечистоты, тараканов и присутствия дурного запаха, будет опрятно и свежо, по крайней мере будет так, как у некоторых крестьян Архангельской губернии, или у наших малороссов, где чуть не каждую неделю белят свои мазанки даже снаружи; мы уже не говорим о норвежцах, у которых и дворик, и домик, и садик, и огород идеально благоустроены, и все это явилось благодаря толковому трудолюбию, строгой честности и доброй нравственности.
Речи, с которыми череповецкий голова выступал перед горожанами поражали подчас неожиданными аргументами. Вот, например, как он высказывался в пользу общества страхования от пожара:
– Общество взаимного от огня страхования – это благодетельное учреждение, основанное чисто по научению Спасителя. Тут вы видете: каждый обыватель несет в общую городскую казну по ценности своего дома известную частичку денег, как в прежние Апостольские времена несли на общую трапезу хлебы, и от них вкушали все имущие и неимущие. При взаимном страховании вместо вкушения хлебов в случае несчастья, если дом сгорит (что Боже упаси!), будут получать из казны деньги, чтобы иметь на первый раз и кусок хлеба, и хижину для прекрытия себя и детей от мокра и холода. Если же пройдет все благополучно, тогда у каждого через десять лет из рубля сделается два, и эти деньги всегда можно будет, разделив с общего согласия, взять назад.
Возразить на эти доводы было, конечно же, нечего. Еще бы – ведь тут и библейская мудрость и совсем приземленный, но столь милый сердцу доход.
Впрочем, без родного брата, без Василия Андреевича ничего у городского головы не вышло бы. В Череповце об этом говорили: «Иван Андреевич прожекты пишет, а Василий Андреевич деньги добывает». Действительно, почти все управление милютинскими капиталами взял на себя младший брат Василий. Один из современников об этом вспоминал: «По справедливости можно сказать, что не будь такого брата, при разнородности и разбросанности своих дел – от „хладных финских до пламенной Колхиды“ – едва ли Иван Андреевич мог уделить время на посторонние дела и тем достигнуть всего сделанного».
Всего лишь раз Иван Андреевич дал слабину – когда в 1889 году решил оставить пост городского головы. Но черепане его просто-напросто не отпустили, и Милютину пришлось остаться в должности.
Естественно, Милютин был фигурой легендарной. Про него ходило множество историй – как достоверных, так и вымышленных. Якобы Иван Андреевич собственнолично приезжал на тройке в одну окрестную деревню за тамошним кузнецом – так высоко ценил его квалификацию. С другой стороны, приезжая в Петербург, он останавливался не в гостинице, а во дворце у самого царя, да и питался там не в ресторанчиках, а сидя с государем за одним столом.
Впрочем, доподлинно известно, что Иван Андреевич Милютин переписывался со знаменитым Витте. Он, например, послал тому в 1905 году довольно трогательное послание: «Уполномоченному Статс-Секретарю Сергею Юльевичу Витте.
Находясь на Старорусских водах, не могу не выразить глубокой патриотической радости ввиду торжества высшей мудрости, которою теперь только проникнулся государь, посылая Вас как мужа разума и опыта на совершение великого дела. Я верю, что Ваша поездка в Америку будет началом светлой эры исстрадавшейся России за последние два года. Да пошлет Господь Бог Вам здоровья и благословит высшею мудростью. Остальное все нужное содержится в Вашей недюжинной личности.
Незименный почитатель, старейший городской Голова в России Иван Милютин».
Витте ответил кратко: «Сердечно благодарю за доброе слово. Здравствуйте. Витте».
Видимо, у государственного мужа Витте дел было поболее, чем у городского головы Череповца.
Иван Андреевич скончался в 1907 году. Горе черепан было обильным и, конечно, искренним.
Один сельский учитель прочитал свои стихи:
Но град осиротелый, разумеется, и сетовал, и плакал.
Планировалось сделать в честь Милютина целый мемориал – роскошный и внушительный. А спустя несколько лет секретарь городского головы напишет: «Теперь уже Иван Андреевич отошел к Праведному Судии, и дума до сих пор ни в одном из своих заседаний, после его смерти, не обмолвились не одним словом об увековечении памяти о нем в грядущих поколениях осязательным наглядным образом».
Что ж, этого и следовало ожидать.
* * *
Милютин был, конечно, не один такой. Подстать ему – тверской городской голова Алексей Федорович Головинский. Отнюдь не тверской уроженец – он родился в столице, в семье крепостных княгини А. Голицыной. Грамоте обучился лишь к пятнадцати годам (впрочем, подобное умение для крепостного было редкостью и в зрелом возрасте). После чего Алексей начал совершенствоваться в новом навыке, и был даже привлечен к занятиям в конторе – поначалу просто мальчиком на побегушках, а в скором времени – бухгалтером и даже старшим конторщиком. Затем Алексей Федорович был назначен управляющим целой (череповецкой) вотчины Голицыных, а в 1840 году крепостная карьера тридцатилетнего юноши счастливо прерывается – ему даруют долгожданную вольную.
Став свободным человеком, Головинский женится, записывается в купцы (вторая гильдия, а по прошествии нескольких лет и первая) и переезжает в Тверь, где продолжает заниматься своим бизнесом. Но не меньшее внимание он придает, как говорили два десятилетия назад, общественной работе. В 1850 году Алексей Федорович становится почетным членом Тверского губернского попечителя детских приютов, в 1855 становится потомственным почетным гражданином, в 1857 году избирается первым бургомистром, спустя год входит в должность директора Тверского губернского комитета попечительского общества о тюрьмах и избирается членом-корреспондентом Тверского губернского статистического комитета, а в 1863 году он добирается и до вершин своей общественной карьеры – его избирают городским головой.
Существует мудрое неписаное правило – при прочих равных старый госчиновник лучше нового, хотя бы потому, что все, что ему надо, он уже украл, а новый станет воровать с жадностью голодранца. В какой-то степени это относится и к лидерам общественного самоуправления. И в этом смысле жителям Твери не было смысла опасаться назначения нового головы – он к тому времени был человек довольно обеспеченный и, мало что не покушался на городскую казну, так еще и жертвовал огромнейшие суммы из своих собственных средств. Притом еще до назначения Вот, к примеру, одна из заметок опубликованных в «Тверских губернских ведомостях»: «Купец А. Ф. Головинский изъявляет готовность установить за свой счет 300 фонарных столбов, на что пожертвовал 1 тыс. рублей».
Вот, например, заметка из «Ведомостей», касающаяся открытия в Твери женской гимназии: «Открытию гимназии заметно способствовали неутомимая деятельность, энергия и значительные пожертвования А. Ф. Головинского». Он принес в дар новому учреждению пять тысяч рублей серебром.
Кроме того – 2000 рублей на погорельцев, 6000 на библиотеку, и так далее, так далее, так далее.
Став головой, Алексей Федорович не прекратил свою благотворительную деятельность. Он, например, пожертвовал шесть тысяч все та ту же женскую гимназию – «на обучение в этой гимназии дочерей честных и беднейших граждан, оказавших обществу какие-либо заслуги».
Крупнейшая же жертва господина Головинского связана с возведением в Затьмачье земляного вала. Каждую весну этот район страдал от наводнения – разливались воды сразу же двух рек – Волги и Тьмаки. Требовалось строительство оградительного вала, но городской бюджет такими средствами не был богат. Зато они оказались у купца Головинского, который на собственные десять тысяч рублей этот вал и построил.
Вот как описывали «Ведомости» первое крупное испытание, доставшееся валу в 1867 году: «Лед срывал дерн, оголял песок вала, вал разрушался и давал течь. Архитектор Нефедов и полицмейстер Губченко руководили работами 70 рабочих по укреплению слабых мест.
А вода между тем не убывала, как бы издевалась, она то опускалась, то поднималась на вершок или два. И работающие, и жители не видели конца борьбы. К ночи в субботу на Светлое Христово Воскресенье были приведены солдаты Капорского полка. Всю ночь солдаты простояли на валу, ожидая работы, здесь они и встретили светлый праздник… Когда отошла обедня, увидели, что вода убыла на несколько четвертей, к полудню вода упала еще больше, вал был безопасен, Затьмачье спасено. Я думаю, нечего и говорить, какие чувства были в сердцах бедных затьмацких жителей, когда они видели, что они спасены от воды и от непроходимой грязи, что не только не потерпели никаких убытков, но и могли провести святые дни страданий Господа в храме Божьем и молитве, могли встретить драгоценнейший для русского праздник Святого Христова воскресенья вместе со своими православными братьями в церкви, а не на чердаках, страдая от холода и голода… Решили прежде всего отблагодарить Бога, пособившего так счастливо окончить это дело. Благодарственное молебствование было назначено на… 17 апреля. По окончании молебствования в Соборе, после поздравления начальника губернии, за болезнью еще не выезжавшего никуда, г. вице-губернатор кн. Оболенский, другие власти города, виновник всего дела г. Головинский с почтеннейшим купечеством, архитектор Нефедьев и др. отправились за Тьмаку на вал. Сюда из церкви Покрова… были вынесены хоругви и иконы».