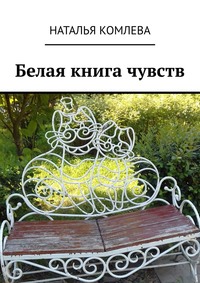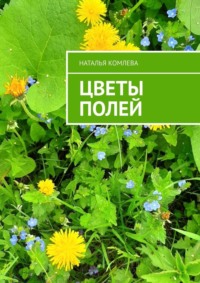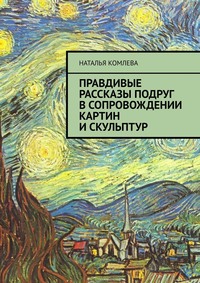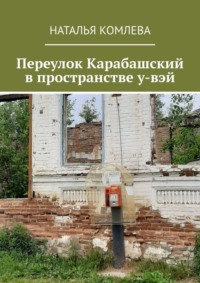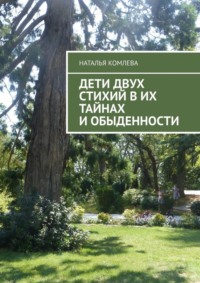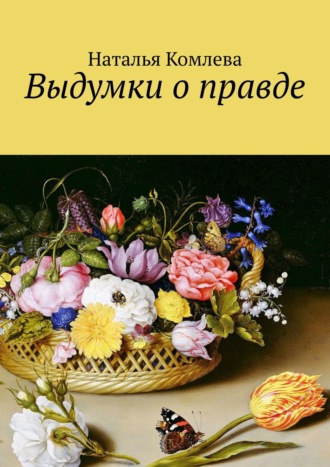
Полная версия
Выдумки о правде
– Мужичок, прикурить дай?
Анатолий обернулся. Классический зачин для уличной драки. Но белый день, оживлённая улица… Протянул зажигалку.
Парень, прикуривая, сказал:
– Катись отсюда. У Анны спросишь, кто да что. Тут не светись.
И отошёл, поддёргивая воротник: начинался ветер.
Анна пила кофе в постели.
– Холодный. Ты холодный, не кофе. Хотя кофе тоже мог быть погорячее. Ты что, газель проверял?
– Анна, твоё настоящее имя не Агата Кристи?
– Нет. Просто это элементарно: ты же не захочешь оказаться на том свете без меня, милый, верно? Поэтому ты пойдёшь и отгонишь конкурентов, которые добывают информацию параллельно с тобой. А Хайнц пусть тоже ворон не ловит, как у вас говорится.
– Хайнц – это кто?
– Мой начальник службы безопасности. Я же не дура – сюда к вам одна ехать, без прикрытия. Эта газель – не прослушка, а защита от прослушки и иной слежки. Ну и ещё там у Хайнца какие-то профессиональные штучки есть. Так, милый, а теперь давай серьёзно. Отзвонись Украинцеву, кто там у него тебя пасёт, – сообщи о нашей вчерашней беседе. О записной книжке Демидова. Да скажи, что Анна сидит в архиве и ищет подробные карты Нижнего Тагила, современные и старинные, а потом за тем же самым вернётся в Екатеринбург. И ищет она, где в старину было Зюзельское болото и где теперь есть болото или болота с таким же названием.
– А зачем тебе, якобы, Зюзельское болото?
– В каком сказе Бажова и в какой связи упоминается это место?
– В сказе про Синюшкин колодец.
– Так, верно. И что в этом колодце было?
– Богатства разные: золотые самородки, драгоценные камни. А причём здесь эта Синюшка, болото и сам Бажов?
– Потому, что там золото Полоза и спрятано. Теперь вспомни ещё: какой ключик был к этой Синюшке, какие пёрышки у Ильи, основного персонажа сказа, остались от бабки? Правильно: чёрненькое, беленькое и рыженькое. Стало быть, идти до этого колодца надо одну ночь и один день – и летом, точнее, в сухое время года, когда солнце не только светит, но и сильней всего греет. В июле, скажем. Вот тебе значение пёрышек. А шёл Илья от какого-то завода. От какого? Павел Петрович всё время про те заводы писал, что вокруг Екатеринбурга были. Но в его годы и нижнетагильский завод на полную мощность работал. Там он и собирал материалы для своих сказов: в Тагиле и Екатеринбурге, в их окрестностях. Да и куда Илья шёл, в каком направлении? Не на юг ли? По рыженькому-то пёрышку. Значит, от какого-то завода на юг, «через Зюзельско болотце», в июле месяце надо пройти полные сутки. Причём стартовать ночью, то есть по прямой хорошей дороге, иначе ночью не пройти, а уже днём зайти в лес и пробираться тропами через это самое Зюзельско болотце. Ночью по болоту, понятное дело, не ходят. Логично?
– Да, вроде логика есть. Так ты думаешь, это демидовское, не иное чьё-нибудь золото, там спрятано? Бажов ведь писал про «бар Турчаниновых да Саломирсковых».
– Угу. Про них. А Синюшку написал лесной ведьмой, духом, какие у вас в России возле кладов приставлены. Стало быть, Синюшка – персонаж старинный, не времён «Турчаниновых и Саломирсковых». И колодец тоже не Турчаниновы вырыли, и клад не они туда положили – задолго до них это было, раз Илье про этот колодец намёк через бабкины пёрышки был дан, а не через материны. Смотри: Илья, Турчаниновы – это какой век и какой период века? Верно, девятнадцатый, первая половина. Считаем поколение в двадцать лет – самое малое. Значит, шестьдесят лет назад ильина бабка, будучи молодой девицей, про Синюшкин колодец проведала. Попадаем на конец восемнадцатого века, время смены поколений в демидовском роду: от креативных промышленников к прожигателям накопленного. Акинфиевичи, Никитичи, Григорьевичи, – внуки Никиты – уже практически производством не занимались, за редким исключением, и на Урале бывали наездами, если вообще бывали. Не они Полозовы богатства копили. Значит, бабка узнала о том, что было в дни её молодости относительно недавним делом. Потому и такая точность в расчётах: ровно одни сутки пути, а не обычное у вас «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», «доезжай – не доедешь».
– Погоди, а Бажов не мог это просто выдумать?
– Ну отчего же, мог. Если сам не зашифровал в этих сказах что-то, что могло пригодиться не ему самому, так его потомкам после советской власти.
– Анна, не городи ерунды. В его годы советская власть только укреплялась, конца ей не предвиделось, никто не мог знать, что случится на сломе восьмидесятых-девяностых.
– Бажов Толстого читал?
– Ну, читал, наверное, у нас его все читали. Что, думаешь, он про Синюшкин колодец в «Анне Карениной» прочитал?
– У Толстого есть рассказы для детей. Старик был дидактичен. Там есть рассказ про мужика, который сажает яблоньку, а сам уже на ладан дышит от древности. Его спрашивают, зачем он это делает, ведь он уже не съест с этого дерева яблочка. Старик отвечает, что сам он не съест, так его дети и внуки съедят. Вот потому он яблоню и сажает.
– И посадил он её над Синюшкиным колодцем и зарыл там ещё и богатства рода Толстых.
– Так вот, Бажов поступил, как тот старик у Толстого и, конечно, не потому, что рассказ прочитал. Просто этот рассказ его мог в мыслях укрепить.
– И ты думаешь, что Бажов нарочно собирал сказы, чтобы самому или потомкам его добыть демидовские богатства? Анна, ты сама знаешь, что под Екатеринбургом Демидовы практически не светились: оттуда их с успехом, правда, после непростой борьбы, Татищев отогнал, а де Геннин ему помогал в этом.
– Ну, вот потому они там свои богатства и могли спрятать: никто не хватится по тем самым резонам, что ты сейчас привёл.
– Да, но зачем тогда записные книжки Никиты? Если Акинфий, его сын, золото прятал?
– Прятал Акинфий, клал Никита. Подальше от столицы своей, Невьянска, чтобы на след не вышли. Много было охотников, я думаю. Вот старик и заметал следы.
– А ты почему не заметаешь? Почему хочешь, чтобы я всё это прямо вот так, как ты мне рассказываешь, Украинцеву и выложил?
– Think darling, think. Move your mind quickly! Не всё же мне за тебя думать, поработай и сам. Тебе неплохо платят: сама Анна фон Валлен твоя любовница и патронесса. Пушкина помнишь? «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю», и в каком-то там урагане и так далее. Ты, доцент, не понимаешь: когда у тебя всё есть, тебе надо того, чего не бывает. Когда есть всё, и оно тебе досталось просто так, потому что ты родился, не хватает одного: борьбы. Борьбы за гранью возможного. А для меня, как и для Кнурова из «Бесприданницы», невозможного мало. Вот я и расширяю границы. До совсем невозможного. И оказывается, что его для меня практически нет. Это приятное ощущение. Жаль, что вот этого-то именно тебе не приведётся испытать никогда. Я хочу испытать ощущение полной прижатости к стенке – и выскользнуть. Это всё равно – ну, почти – что выйти из комы. Но выходить из комы опасно и неприятно: то ли выйдешь, то ли нет, да ещё не инвалидом ли. Да и выходишь не сам – лежи себе бревном и жди помощи сверху. А в той борьбе, о которой я тебе говорю, ты сам решаешь очень многое. А я – решаю всё. И потом: я так хороша собой, что опасность и азарт придадут моей красоте только ещё больший шарм – а ведь он у меня есть, правда? Ну, иди, иди сюда, посмотри, не меньше ли его стало за утро без тебя…
Глава 8. Верчу, кручу, знать всё хочу
Сыскался ведь человечек-то с кособокой подковкой. И впрямь федьковский оказался – приказчик тумашевский, вот что в Невьянский-то завод приходил. Нашлись люди в Невьянске, приказчику этому друзья-приятели, подпоили его маленько и вызнали, что и вправду был он около пруда прошлой ночью, но дела у него там случились исключительно сердечные. Свидание он там назначил девахе одной из Невьянска, а та и не пришла: мучает, значит, его по их девичьему обыкновению. Ну что ты скажешь! Промах, осечка, значит. Проследили за ним и за зазнобой его – нет, чисто, не врал во хмелю приказчик.
А Хозяин приехал – гневается, блюдо дорогое сыскать требует. Ну, и денег-то ведь жалко, всё-таки золотые, хоть и своего производства, не купленные. Ревизора Беэра, понятно, иным образом удовлетворили, новые золотые вещи поднесли, да ведь всё равно досадно: остуда могла меж Хозяином и петербургским гостем произойти, хоть и приятель тот ревизор любимому сыну хозяйскому. А такая остуда в делах неприятностью обернуться может.
Что делать, где хозяйское золото искать?
Тем временем Акинфий Никитич вернулся, а с ним и Терентий Семёнов, сын Митрофанов. Вызверился Акинфий пуще отца на дознавателей: подавай ему блюдо откуда хошь! Нечего делать, опять к бабке Катерине пришлось идти. Хоть оно волхвование и противно Христу, а деваться некуда – надо узнать, кто вор и где искать его. Гаврила и пошёл.
Бабка Катерина вытащила из потайного шкапчика специально для этого дела изготовленные четыре круга из плотной бумаги, поделённые каждый на двадцать сегментов. В сегментах были написаны разные слова, вроде простые. В одном из кругов: железо, дерево, стекло, сталь, жемчуг и пр., в другом: день, ночь, свинья, сестра и т. д.
Бабка отложила один, и оставила три круга. Взяла острую иглу и прочла заклинание на правдивое гадание:
– Недельное заклинание на покраденное гадание, всю правду скажи на мой вопрос. От первого дня до седьмого. Игла остра, сталь крепка. Аминь. В руках ли вора украденная вещь или он уже спровадил её на сторону?
И ткнула иглой в первый круг, не глядя. Вышло слово «вторник», что означало «вещь хорошо спрятана».
– Да уж понятно, что хорошо спрятана! – сказал Гаврила.
Бабка шикнула на него, сверкнула глазом. Молчи, мол, теперь.
Второй раз произнесла то же заклинание и вопрос задала второму кругу такой:
– Искать ли вещь или оставить?
Ткнула иглой, и вышло слово «вихрь»: «легче было прибрать, чем теперь отыскать».
Гаврила только усмехнулся: и без гаданья это ясно.
И третий раз ткнула бабка, уже в третий круг, и задала вопрос:
– Вор домашний или посторонний?
Тут Гаврила внимательно стал слушать.
Ответ был такой: «Свой, да ещё какой…».
Крепко задумался Гаврила, потом спросил:
– А ещё раз нельзя этот круг потревожить?
В ответ бабка опять сказала заклинание и ткнула иголкой. Получилось слово «здоровье», что означало «тот, кто тебя спросит, нашлась ли пропажа».
Третий раз спросили круг, и опять вышло «здоровье».
– Ну, больше уж нельзя, да и так ясно, – сказала Катерина. – Иди, и кто тебя первый спросит, тот и украл.
Задумчиво покачал головой Гаврила.
– К Хозяину я теперь. Он и спросит, некому больше – так он и украл?
– Ну, тогда к Айлыпу иди, пусть он тебе у своих духов выведывает про покражу.
Пошёл Гаврила ни с чем к Хозяину. Скажу, думает, про бабку, да не к Айлыпу пойду, а к алтайцу в подземелье. Если опять заартачится, Акинфия или Хозяина придётся к нему вести, пусть они управляются.
В хозяйский дом вошёл, а навстречу – Акинфий:
– Ну, нашлась ли пропажа? – строго так спрашивает. – Долго возишься, Гаврила!
Как ни был находчив Гаврила, а растерялся.
– Что молчишь?
– Здесь говорить не хочу, Акинфий Никитич, неравно услышит кто.
Повёл Акинфий Гаврилу в свою горницу, сел, спрашивает:
– Что бабка сказала?
– Ничего она не сказала толкового, Акинфий Никитич, так, мелет всякое, не понять что. К Айлыпу послала, не могу, дескать, сама, не выходит.
– Вот что. Ну, иди к Айлыпу.
– Слушаю, Акинфий Никитич. Только, может, к алтайцу бы заглянуть?
– Алтайца не трогай. Батюшка велел только еду-питьё ему приносить, а разговаривать с ним ни о чём не велел. Понял ты? К Айлыпу иди.
На речке Шайтанке Айлып обитал, за Шуралой. На коне недалече, да вот болота там большие и малые на пути, объезжать долго. Однако долгая ли дорога, короткая ли – всё едино кончается. Добрался Гаврила до айлыпова чума, смотрит – нет никого. Внутри и снаружи ничего не тронуто, кострище тёплое. Мало ли, за травками ушёл или за каким-нибудь зверем охотиться. Сел Гаврила, подождал. В деревьях ветер шумит, ящерка по траве пробежала, увидела человека – раз! – и в норку свою круглую спряталась. Сидит Гаврила, плёточкой цветочные головки сшибает, думает. Акинфий, значит? Быть, конечно, не может, но иной раз и небывалое бывает. Вдруг он? Так зачем? Зачем у собственного приятеля и важного человека петербургского подаренье отцовское красть, на беду нарываться? Да и зачем ему? Разве у него самого золота мало? Разве не оставит ему отец всё, что здесь нажил, окоротив двух других сыновей? И так он их отделил, в Туле оставил. Ведь сказал уж Демидыч, а слово его крепкое. Непонятно… Или врёт бабкино гаданье? Так ведь трижды одно и то же выходило… Непонятно…
Вечереть стало, а Айлыпа всё нет. Прогулялся Гаврила по поляне раз, другой, заглянул в чум, нет ли еды какой: с собой-то не взял, думал быстро управиться. Нет еды человеческой, какие-то, прости Господи, сушёные козявки лесные да вонючее вяленое мясо. Делать нечего – в лес пошёл: ягод, грибов поискать, кореньев съедобных. Июль – всего в лесу довольно. Сыроежек много нашёл, землянику, малину. Там, в малиновых зарослях, Айлыпа и увидел. Лежит тело окровавленное, согнувшись, руки за спиной связаны, ноги спутаны. Ах ты ж, Господи, вот и пошаманили!
Ящерка выбежала, по руке трупа пробежалась. Глядь – чуть шевельнулся палец!
Нагнулся Гаврила, потрогал труп: нет, не мертвец это! Верёвки разрезал, Айлыпа взвалил на себя, на поляну отнёс, из ручья воды достал, раны на голове промыл, перевязал, чем нашлось. Открыл Айлып мутные глаза, губами пошевелил, а слов нет. Торкал, торкал его Гаврила – никак! Напоил Гаврила шамана, как смог, ключевой водой, на коня взвалил, повёз.
Ночь уж была, когда мимо болот ехал. Хорошо, до полной темноты успел. Под утро до бабки Катерины доправился, в окошко тихонько постучал. Катерина отворила – только охнула. В баньку Айлыпа отнесли, занялась им бабка. Гавриле ждать за дверью велела. Когда вышла, сказала:
– Одно только и могла понять: «теря» да «теря».
– Что за теря такая?
– Не потерял ли чего?
Гаврила пожал плечами:
– Вроде в чуме всё цело у него, а там не знаю.
– Может, что тайное потерял да теперь сокрушается. Или кто напал, те у него унесли что? Ладно, Гаврила Семёныч, Бог даст, вылечу я твоего Айлыпа, а нет – на том не взыщи. Жив будет – скажет сам про потерю свою. А ты вот что: не спрашивал ли тебя кто, нашёл ли ты хозяйскую-то пропажу?
– Никто не спрашивал. Никого ещё я не видел, от тебя сразу к Айлыпу поехал. Так я думаю, Катерина: надо нам с тобой пока про Айлыпа-то помалкивать. Мало ли что?
– А что?
– А вот то, что слово-то серебро, а молчание – золото. Поняла? В таких делах чем меньше болтаешь языком, тем лучше. Смотри, Катерина, уговор!
Коня домой отвёл, а сам по тайному ходу к брату Терентию подался. Вышел из люка у Терентия в горенке. Брат ещё спал – заря только занималась. Гаврила сел возле, помедлил немного, потом наклонился к самому уху Терентия и сказал:
– Эй, Ваня, зачем Айлыпа убил?
Брат лежал молча, однако мерное дыхание спящего прекратилось. Вдруг вскочил Терентий:
– Ты зачем меня никонианским именем позвал? Во истинном крещении мне другое имя дали!
Гаврила молча жёстко смотрел на него. Спросил:
– Акинфий велел?
Терентий повесил голову, почесал плечо, отвернулся.
– Не наше с тобой дело! А ты как дознался?
– Ты мне лучше вот что скажи: ты зачем его жизни-то лишил? Золотое блюдо к нему носил, на Акинфия волхвовал? Где блюдо-то, Теря?
– Хозяину скажешь?
– Что ж я, дурак – против Акинфия идти? Да и ты мне брат, не леший башкирский.
– И про лешего знаешь?
– Всё мне ведомо, – важно сказал Гаврила, развивая успех, хотя про лешего сказал просто к слову. – Эй, Ваня, скажи мне всё, как сам ты знаешь, а я тебе помогу.
– Да если я Акинфию скажу про тебя…
Дверь открылась, и вошла хозяйка Терентия, молодая и красивая Глафира. Хотела позвать мужа завтракать. Увидела деверя, поздоровалась, но не удивилась: знала, что у братьев разные дела были, про которые лучше помалкивать, а какие – про то им самим ведомо, и не бабье это дело. Вот и теперь муж мотнул головой: выйди, мол. Глафира молча закрыла дверь.
Гаврила обернулся к брату, ответил:
– Ну и будет с тобой, как с Зюзей, вот что в болоте-то утопили. Зюзя – он зюзя и есть: простофиля. Башкой-то не думает, а под чужие кулаки только её подставляет. Нашёл зюзя на Шуралке золотую породу да в радости к Демидычу и пошёл. Теперь нету того зюзи, а близ Шуралки-реки болотце Зюзино имеется.
– Ладно, Ганя, скажу тебе всё. Только уж и ты меня, смотри, не выдай. Да покумекаем давай, как теперь быть-то.
Глава 9. Загадки и разгадки
Анна не завтракала в гостиничном ресторане – заказывала через портье лично у лучшего шеф-повара города, и еду ей приносили в номер.
Поедая салатик, она поглядывала на Анатолия и, вытирая губы белейшей салфеткой, приносимой вместе с пищей, спросила:
– О чём задумался?
– О Великом Полозе.
– И что придумал?
– То, что, наверное, ты права. Полоз описывается Бажовым не только как великий змей, но и как пожилой человек «в окладистой бороде», довольно грузный. Понятное дело, весь в жёлтом, и кафтан, естественно, «церковной парчи». А при нём самый настоящий живой, земной человек – посредник между Полозом и людьми. И зовут того человека Семёнычем. Без имени. Так не отзвук ли это памяти о братьях Семёновых, особенно о старшем, Гавриле Семёнове сыне Митрофанове по прозванию Украинцев? Полоз и Семёныч – это, видимо, собирательный образ, соответственно, Никиты и Акинфия Демидовых с одной стороны и братьев Семёновых – с другой.
Анна похлопала в ладошки, похвалила:
– Молодец. А откуда ты так хорошо, до деталей, бажовские сказы знаешь? Память, как у компьютера – или профессия? Ты не филолог? По крайней мере, филолога в тебе больше, чем историка.
– Я кандидат филологических наук, и моя диссертация была по Бажову. Кстати, по Тагилу и его окрестностям Бажов никаких сказов не собирал. Он их записывал – или материал для них – около Екатеринбурга, в основном в Сысерти, Полевском, Гумёшках, а также в Камышлове.
– И как же, – спросила Анна, цепко посмотрев на него, – на тебя вышел Украинцев? Старые университетские связи? Дружба факультетов? Или ты тоже на искусствоведении учился?
– Как вышел, не знаю, а я учился на филологическом.
Анна провела языком за щекой, сметая с десны остатки рукколы с пармской ветчиной.
– Угу, – сказала она. – Ну, а что насчёт Синюшки? Вокруг Невьянска, как и вокруг Екатеринбурга, много болот, причём на разные стороны света – на выбор. На Урале вообще много болотистых мест. Впрочем, раз ты такой знаток, скажи мне, может быть, есть другие места, где Полоз прячет золото? Знаменитая красавица Золотой Волос – это, видимо, символ всего уральского золота? Но ведь Полоз её не достал с её башкирским женихом, они скрылись на острове посреди озера Иткуль.
– Да, действительно, у Бажова Полоз прячет золото в разных местах. И на речке Рябиновке, и на острове посреди озера Иткуль, и в деревне Косой Брод, и в других местах, но, я думаю, реальные географические названия – это просто литературная привязка к местности, к реальным месторождениям или золотым жилам, для большего правдоподобия. Искать нам с тобой надо там, где точных названий нет, а есть литературные аналоги, географические описания без названий. Вот что, я думаю, интересно: у Бажова с золотом всё время связаны змеи: Полоз, голубая змейка, «девчонка рыженька», которая потом змеёй-медянкой обернулась в золотой дудке и на обручальном кольце персонажа «змеиные глазки» оставила… Где, дорогая, водятся змеи? Давай подумаем, хоть мы и не герпетологи. Причём, мне кажется, Бажов на специалистов по змеям и не рассчитывал, напротив, он писал для обычных людей с обычными отрывочными знаниями. Итак, где чаще всего водятся змеи?
– В горах и на болотах.
– У нас на Урале – наоборот: на болотах и в горах. Причём, скажу тебе, в некоторых наших горах есть так называемые верховые болота, т.е. расположенные не в долине, а именно на склоне горы. Например, такие болота есть в Весёлых горах около Невьянска.
– Ага, так-так, – сказала Анна, отпивая из чашки, – уже интересно. А в каком направлении от Невьянска эти горы?
– На запад. Не отвлекайся, там и на юге, и на востоке, и на севере болота. И змей, там, наверное, много. Слушай дальше. Иногда посреди болот встречаются озёра. Но островов на них нет. Это просто сердце болота, место, где наибольшая концентрация влаги. Значит, озеро с девицей Золотой Волос – не болотное. Какое же природное озеро находится сравнительно недалеко от Невьянска, а на нём каменный остров в виде островерхой одинокой скалы, причём в середине или около того? На восток от города – озеро Аятское, это, если по прямой, километров двадцать. На юг – вот тебе юг – озеро Таватуй. Это дальше, это километров тридцать пять. Таватуй в старину назывался Большой Таватуй, потому что во времена Демидовых существовал ещё и Малый Таватуй, который потом заболотился и зарос. На нём именно в центре был-таки остров, но каменный он был или нет, я тебе сейчас сказать не могу. Впрочем, судя по бажовскому тексту, озеро должно быть большое.
– Так, зачем ты мне всё это плетёшь? У Бажова же ясно сказано: озеро Иткуль. Потом: какой же Таватуй с Аятским озером? Во-первых, это не совсем природные озёра, в их настоящем виде они оба образовались оттого, что во времена первых Демидовых слились с прудами соответствующих заводов: Верх-Нейвинского и какого-то там ещё, не помню. Причём Аятских озёр вообще было три: Большое, Среднее и Малое. А герой сказа скакал до озера на четырёх лошадях попеременно практически полные сутки. Какие же это тридцать километров? Это если примерно прикинуть скорость средней лошади и то, сколько времени подряд она может рекорды на трассе ставить, получится не тридцать, а около ста тридцати километров. Где-то так от Невьянска до Иткуля и есть. На юг, между прочим.
– Анна, если тебя так тянет на юг, езжай в Ниццу.
– В Ницу? Но ведь Ница – это ваша река? Кстати, ведь есть и озеро с таким названием – не на нём ли тот золотой остров? Или на Урале есть и город Ница?
– Анна, не придуривайся. Я имел в виду французский город, не уральский. Кстати, ты неплохо знаешь Бажова и нашу местную географию. Готовилась к путешествию?
– Не отвлекайся, Аня. Продолжай.
– Какая Аня?
– Такая же почти, как я. Я Анна, ты – Анатолий. У нас три звука имени совпадают, только у меня длинное «н», а у тебя короткое. Анатолий – слишком длинно для меня и официально, Толик – глупо, ты не ребёнок. Поэтому – Аня. Или предпочитаешь, чтобы я не смягчала третий звук?
– Ну, не дурачься, что за глупости! Какая я тебе Аня?
– Хорошая, – тихо сказала Анна и, положив руку ему на шею, привлекла Анатолия к себе и поцеловала.
Учёную беседу они продолжили не скоро.
– Итак, – спросила Анна уже за обедом, – почему ты мне плёл про Таватуй?
– Анна, ну сообрази сама, ты тоже женщина богатая…
– Ну, не преувеличивай!
– Ладно, просто imagine, по Леннону: вот тебе надо постоянно – или пусть однократно – прятать некие сокровища, золото в слитках, самородки там, драгоценные камни, наверное. Ты их где спрячешь: у чёрта на рогах – сутки хорошей скачки, сам весь в мыле, лошадь в мыле, вонь, грязь на физиономии – или протрусишь потихоньку пешочком те же сутки по свежему воздуху – а на коне вообще рукой подать?
– У вас есть пословица: подальше положишь – поближе возьмёшь.
– Так-то оно так, но Иткуль – это чёрт-те где от «ведомства Акинфия Демидова» и его папаши. Там не их владения. По-моему, там в то время вообще одни башкиры жили.
– Я поняла твою точку зрения, darling. А теперь давай посмотрим с другой стороны. Золото Демидовы добывали не только на Урале, верно? И даже более того, начали они копить золото с алтайских курганов, которые в их время назывались буграми. На Алтай их потянуло, правда, не золото, а серебро, которого не было на Урале. А мыслишка чеканить свою монету у них, видимо, довольно рано появилась. Однако золотые клады Демидовым, именно с Алтая и из Южной Сибири, привозили очень богатые: целые листы золота, на которых лежали покойники и их кони, «золотых зверей», посуду, массивные украшения. В представлении простых необразованных людей, которые служили и работали у Демидовых, всё это было неслыханное, сказочное богатство. Золото Полоза. И располагалось оно где-то на юге. Географии тогдашней России простые люди – творцы фольклорных мифов – явно не знали. Где он, тот Алтай, – кстати, в переводе «золотые горы» – Бог его ведает. «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», «доезжай – не доедешь». Может быть, в представлении простолюдинов-мифотворцев из Невьянска озеро Иткуль (башкирское название, а башкирский язык сходен с алтайским, тоже тюркская группа) и было аналогом неведомого и недостижимого Алтая? И доехать до него, в отличие от Алтая, можно, если гнать, как Айлып, сутки, не переставая, на четырёх переменах лошадей. Может, народные сказители где-то там и располагали полумифический Алтай? А чтоб обозначить трудности добычи золота Полоза, поместили его на скалу посреди озера да ещё в тайной пещере? «В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце смерть Кощея на конце иглы»?..