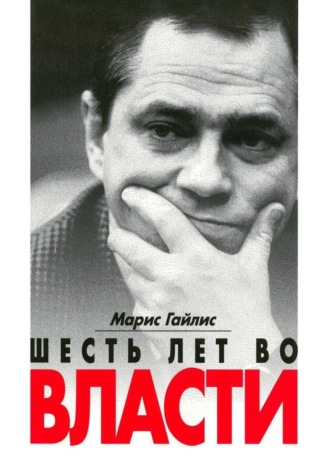
Полная версия
Шесть лет во власти
Спустя две недели мы возвратились в Ригу; нужно было сразу же приниматься за реализацию тех контактов и связей, которые наметились в США. С Институтом Хадсона сложилось постоянное сотрудничество со всеми находящимися в то время еще в составе СССР тремя балтийскими республиками. Значительно позже, осенью 1991 года, когда в Индианаполисе встретились все три балтийских премьера, и я имел счастье также там присутствовать, был торжественно представлен результат работы института: свод рекомендаций, как, по мнению ученых США, должны бы развиваться балтийские страны. Увы, я не могу охарактеризовать, что же в этих рекомендациях было такого особенного, к сожалению, я ничего не запомнил, скорее всего, это были самые элементарные вещи, которые таковыми и представляются с высоты сегодняшнего дня.
Баррикады
Новый 1991-й год Департамент внешнеэкономических связей встречал в полуотремонтированных помещениях. И вот грянули январские события в Вильнюсе, и в Риге начали строить баррикады. Мы вынесли из своих рабочих помещений все документы, не говоря уже о наличных деньгах, спрятали компьютерную технику, сколько ее на тот момент у нас вообще было, т. е. готовились работать в условиях подполья. Во все окна были вставлены сетки, по кабинетам разгуливал патруль, в углах стояли бутылки с «коктейлем Молотова».
Не стыжусь этого: я чувствовал себя действительно гордым, что работаю в здании, которое охраняют так много людей: ежедневно, идя на работу, я должен был проходить сквозь заслон из машин, не раз показывать документы. Сам я, правда, по ночам не дежурил, поскольку считал, что я должен ответственно выполнять собственную работу. Но, когда выдавалось хоть немного свободного времени, то я отправлялся на улицы, где дежурила охрана баррикад, ходил и на Домскую площадь. И неопровержимо одно, что, хотя я непосредственно и не принимал участия в организации защиты Риги, это особенные воспоминания о январе 1991 года, думаю, как и у всех, кем бы мы в то время ни были.
Как сейчас помню: вечером 20 января моя дочь Агнесса отмечала свои именины (они у нее были на следующий день). В Ригу приехал мой коллега г-н Мехис Пильв – директор Департамента внешнеэкономических связей Эстонии. В восемь вечера у нас с ним был назначен ужин в ресторане гостиницы «Ридзене», которая в то время была главным местом представительства Верховного Совета, поскольку ничего иного подходящего тогда еще и не было, если не считать бар Jever. В том же самом зале, где мы ужинали, были не раз упоминавшийся мною бизнесмен Марк Вудлингер с женой. Поев, я по привычке со вкусом закурил сигару. Вдруг раздался непонятный треск, в зале погас свет, тогда же и опознали мы характерные звуки стреляющего автоматического оружия. Сидящие в зале реагировали на это по-разному. Например, супруги Вудлингер оказались под столом и уселись спиной к стене. Я, чувствуя себя бравурно (глупец!), не мог сидеть на месте и вышел на балкон посмотреть, что происходит. Я увидел, как два омоновца, прислонясь спиной к колонне, стреляли по окнам Министерства внутренних дел.
Я знал, что в этот момент в банкетном зале А. Горбуновс обедает с находящимся в Риге с официальным визитом руководителем польского сейма. Там же среди присутствовавших были Имант Даудиш, Сандра Калниете и др. А на первом этаже (там находится баня) ужинали Раймонд Паулс и Лайма Вайкуле. Когда началась стрельба, А. Горбунова увели в один из номеров гостиницы. Руководитель польского сейма отказался прятаться и остался на «поле битвы» до конца. Вообще паника была весьма умеренной; так, Майра Мора плакала, потому что у нее в гардеробе осталась шуба (чуть позже я принес ей эту шубу). Но вдруг началась стрельба уже в вестибюле гостиницы – треск стал сразу совсем иным. Вошло несколько омоновцев, они дали бесцельную автоматную очередь по балконам внутреннего атриума. Им ответили два чекиста, которые охраняли высокого польского гостя. Надо сказать, что, к счастью, с обеих сторон не было никаких попаданий. Омоновцы, очевидно, ответного огня не заметили, потому что через минуту вышли вон и продолжали стрелять по Министерству внутренних дел; сверху из окон мы видели, как они бегут за углы здания. В том, что стрельба была двусторонней, я полностью уверен, потому что на стеклах, которые потом были заменены, отверстия от пуль были с обеих сторон.
Пару раз я позвонил из гостиницы И. Годманису, он сказал, что все мобилизованы и все организовано, но пока еще не все ясно. В гостинице был также г-н Ларс Фреден – консул рижского отделения генерального консульства Швеции в Ленинграде. Мы взяли шампанское, как-то истерично выпили, помню также, что в какой-то момент от волнения у меня на шее повисла одна из официанток. Вообще каким-то странным образом мы больше околачивались на кухне, куда то и дело заходили и уходили люди. Кто-то принес известие, что ранен кинооператор Андрис Слапиньш. В какой-то момент я разговаривал с Сандрой Калниете, потом, поскольку стрельба стихла, решил, что надо пойти в Совет министров, и пошел.
Зашел к И. Годманису. Там шли переговоры относительно того, что же делать. Свою точку зрения отстаивали приехавшие из сельских районов преданные Народному Фронту милиционеры. Они считали, что совершенно непростительно спокойно наблюдать, как было захвачено Министерство внутренних дел (кстати министр Алоиз Вазнис именно в тот день уехал в Москву для каких-то переговоров с Борисом Пуго). Эти милиционеры требовали принять решение о наступлении. Надо сказать, что в здании МВД продолжал находиться заместитель министра внутренних дел Зенон Индриковс, и, как это выяснилось позднее, в чрезвычайно сложной ситуации он вел себя с большим достоинством. Все-таки победил здравый смысл, что идти в контрнаступление нельзя, что нужно действовать как раз наоборот: спрятать наши (защитников Совета министров) автоматы. У милиционеров было отобрано оружие и спрятано в подвале. Сегодня такие действия, разумеется, можно оценивать по-разному. Но, как выяснилось позднее, в тот день советская армия была готова захватить власть, армия только ждала, когда начнется хоть какое-нибудь вооруженное сопротивление, чтобы под предлогом защиты гражданского населения выступить. Командующий военным округом Ф. Кузьмин позвонил И. Годманису и потребовал санкций именно для таких действий. И. Годманис его требование отверг, одновременно запретив также и нашим организовывать наступление. Я считаю, что это было несомненно мудрое решение. Впрочем, и тогда были, и до сих пор есть те, кто упрекают И. Годманиса в малодушии. Но, если бы в тот раз не проявилось это «малодушие», трудно сказать, чем бы все это кончилось. В любом случае жертв было бы намного больше.
Моя непосредственная работа в те январские дни была связана с одним чрезвычайно важным для Латвии вопросом. Как известно, 2 января 1991 года по приказу А. Рубикса бойцы ОМОН заняли Дом печати. В тот же день меня вызвал И. Годманис и сказал, что правительству надо найти альтернативную возможность издания газет. Арвил Ашераденс (ныне председатель А/О «Диена») знал одного предпринимателя в Швеции, который мог поставить подержанное типографское оборудование. И. Годманис распорядился, чтобы я немедленно отправился в Швецию организовать там покупку печатной машины. Мы ориентировались на счета внешнеторгового объединения «Интерлатвия», на которых у правительства имелось три миллиона долларов. Вечером я улетел в Швецию, тогда уже были прямые рейсы из Риги в Стокгольм. Вылетая из Риги, я заметил, что на летное поле садится несколько военных транспортных самолетов. Подумал, что, наверное, это – десант. В Стокгольме мы остановились у бывшей жены социал-демократа Вилниса Залькална. На следующий день встретились с предпринимателем, которого нам рекомендовал А. Ашераденс, договорились о покупке за полмиллиона долларов подержанного типографского оборудования Solna. Я выписал счет, позвонил в Ригу, в «Интерлатвию», и отдал им распоряжение оплатить этот счет из брюссельских денег, чтобы как можно быстрее это оборудование могло быть доставлено в Ригу. В ответ мне было сказано, что, к сожалению, деньги сразу нельзя перечислить, что для этого нужно по крайней мере несколько недель. На мой вопрос, почему, я получил ответ, что деньги заблокированы. Это было для меня новостью, тогда я еще не знал, что существует такая система, когда деньги на какое-то время блокируются, чтобы на этом можно было бы заработать проценты, т. е. на деньгах правительства «Интерлатвия» зарабатывала себе: в конце концов 5% от 3 миллионов – это довольно приличные деньги. У меня зародились подозрения по поводу действий «Интерлатвии» с правительственными валютными счетами.
По возвращении я начал выяснять, и, оказалось, что денег латвийского правительства на том счету, на котором они должны быть, вообще нет, они одолжены каким-то фирмам под поручительство, собственноручно подписанное И. Цинкусом. Вот это то и послужило причиной отставки И. Цинкуса. Однако никакого криминала ему предъявить не могли, фактически, и следствие-то не велось. После этого случая я посоветовал И. Годманису как можно скорее эти три миллиона перенять. Я поехал в Брюссель, где мы открыли специальный правительственный счет. Разумеется, все это было тогда государственной тайной. Деньги с этого счета можно было снять только тогда, когда были параллельно две подписи – И. Годманиса и моя. Полмиллиона из этих денег были уже истрачены для покупки типографского оборудования. На заседании правительства обсуждалось, как его транспортировать. Министру рыбного хозяйства Гунару Заксу было дано распоряжение подготовить судно для этого, что служило только маскировкой против возможных диверсий со стороны Москвы. В действительности же оборудование доставили паромом в Таллинн, а затем в контейнерах в Ригу. Не исключаю, что еще активно действовавший в то время КГБ только усмехнулся на эти наши хитрости, ну и пусть. Как известно, типографию в тот раз мы установили, и какое-то время она хорошо работала.
В связи с этой типографией есть смысл вспомнить один необычный эпизод с бывшим комсомольским активистом и работником ЦК КПЛ Андреем Цирулисом. Еще в 1990 году, будучи в США, он узнал, что в Индианаполисе в одной из тамошних типографий бесплатно отдают старое оборудование, остается только взять его и перевезти в Латвию. Не знаю уж, как ему удалось обвести вокруг пальца Латвийский фонд свободы, которым тогда руководил Улдис Грава, но деньги они А. Цирулису дали. Он попросил поддержки у правительства, чтобы перевезти оборудование. Мне было поручено подготовить заключение об этом проекте. Я собрал материал и изложил в заключении, что громоздкая старого образца машина из Индианаполиса предназначена для громадного объема печатных работ, а в то время в Латвии это вовсе не было предусмотрено. Но самое интересное: фирма, освобождаясь от своего монстра, прекрасно на этом зарабатывала, поскольку труд, затраченный на демонтаж и вывоз оборудования, стоил бы гораздо больше, чем можно было получить за металлолом. Исходя из моего отрицательного заключения, И. Годманис решил проект не поддерживать. Однако, как бы назло тому, что в правительстве его не поддержали, А. Цирулис все-таки сумел доставить эту груду металлолома в Латвию, и мне кажется, что она где-то до сих пор и ржавеет. Так в трубу вылетела порядочная сумма собранных с таким трудом латышскими эмигрантами денег, а чувство горечи осталось.
Августовский путч
Рано утром 19 августа 1991 года мы с женой Зайгой и детьми ехали в Ригу и еще ничего не знали о событиях в мире. Я проводил конец недели в деревенском доме, наслаждаясь покоем и тишиной. Отправился на работу около половины девятого, на улицах ничего особенного не заметил. Когда я пришел, шло заседание Совета министров; мне сказали, что в Москве в прошедшую ночь произошел путч. Я бросился в зал заседаний. Когда я заходил внутрь, кто-то из секретарей И. Годманиса подал мне телеграмму, в которой говорилось, что сегодня, 19 августа, в Москве состоится заседание Валютного комитета, которое проведет В. Павлов, уже ставший известным путчистом. Зашел к министрам. Шло обсуждение создавшейся ситуации, в обсуждении принимали участие не только министры, присутствовали, например, лидер НФ Ромуальд Ражукс и другие. Прежде всего стало ясно, что ни о каких баррикадах на этот раз не может быть и речи: армия была уже в боевой готовности, любое сопротивление на улицах могло привести только к кровопролитию, скорее всего, нужно было готовиться к подполью или к чему-то в этом роде.
Я сказал, что получил телеграмму из Москвы с приглашением на заседание Валютного комитета. Телеграмма была послана из Москвы еще в пятницу, а путч произошел в ночь с воскресенья на понедельник. В работе Валютного комитета принимали участие представители от всех тогдашних советских республик, там обсуждались общие валютные дела. Я был официальным представителем от Латвии. Я позвонил в Москву и спросил, состоится ли это заседание? Мне ответили, что, конечно, будет. Тогда я сказал И. Годманису, что, может быть, мне стоит поехать в Москву и там на месте все выяснить, что же на самом деле происходит. И. Годманис согласился.
Я заказал билеты, позвонил Зайге предупредить, что отправляюсь в Москву, попросил ее сразу же ехать назад в деревню и сидеть там вместе с детьми, пока все не определится в Риге. Должен признаться, что мною овладело истинное беспокойство перед поездкой в Москву: что там, как здесь, вернусь ли я обратно, а главное тревожила душу неопределенность, неизвестность по сути происходящего вокруг. Самолет выглядел пустоватым, там сидел с очень важным выражением лица один из депутатов Верховного Совета, интерфронтовец. У меня была договоренность с Янисом Петерсом, что он встретит меня в аэропорту. Ехали по московским улицам, они были пусты, по всем обочинам рычали бронетранспортеры, перемещались разные вооруженные группы людей – то ли милиция, то ли армия, то ли еще кто-то. С нами ничего не случилось благодаря водителю, который знал все московские проходные дворы, нас даже ни разу не остановили.
Когда я так удачно добрался до здания Совета министров СССР, где проходили заседания Валютного комитета, оказалось, что я был единственным, кто явился из республик Прибалтики. Но зато в полном составе прибыли представители из Средней Азии. Интересно, что среднеазиатские республики, как правило, представляли премьеры, а мы, балтийцы, чтобы продемонстрировать свое отношение к СССР, делегировали в этот комитет представителей на уровне директора департамента. Замечу, что четко уже ощущалась нервозность. Я подошел к министру внешней торговли СССР А. Катушеву и спросил у него, чего же можно сейчас ожидать. Ничего существенного он мне не сказал. Впрочем, заседание катилось по привычным рельсам, если не считать того, что многие представители Средней Азии вдруг заявили, что они пересмотрели вопрос о пропорциональном разделении внешнего долга СССР. Я же в свою очередь заметил, что Латвия своей позиции не изменит, мы выходим из СССР и все. Те пошумели-пошумели, но ничего особенного не произошло, на том это совещание и окончилось. Я направился обратно в аэропорт, опять через дворы, объезжая посты и ломая голову и беспокоясь: будет самолет или нет, попаду я в Ригу или нет. Прилетел, кажется, что-то около 12 часов ночи, прямо поехал к И. Годманису. Вошел в приемную и сказал, что я только что из Москвы. И. Годманис тут же пригласил меня зайти. Помню точно его слова: «Ну, Марис, мы какое-то время поработали, теперь все, надо ждать ареста». Еще он сказал, что никуда не уйдет, останется до последнего, пусть приходят и забирают. Тут вошел в кабинет Эйнар Репше, уже не помню точно, о чем мы начали говорить, только сразу же разговор перешел на Москву. Эйнар расспрашивал, как у меня шли дела в Москве, я рассказал и тогда же сказал И. Годманису, что, мне кажется: путч этот долго не продлится, что через какое-то время опять все будет в порядке, и мы сможем продолжать работу, как задумали. Я знал достаточно о многих валютных проблемах СССР, имел представление об экономической слабости великой державы. Мне казалось, что начнется экономическая блокада западных стран в связи с путчем. ГКЧП сможет продержаться три-четыре месяца, вряд ли больше. Обо всем этом я рассказал И. Годманису, но с его стороны на все сказанное мною не было проявлено особого энтузиазма.
Когда я уходил из кабинета И. Годманиса, было уже больше часа ночи. Стал думать, что же делать дальше: остаться где-нибудь здесь? Ехать домой? Зашел к помощнице И. Годманиса Илзе Циелаве, она также говорила, как и И. Годманис: все кончилось, всему конец. Около двух часов ночи я все же решил ехать домой спать. Сон, однако не шел, время от времени вскакивал, казалось, что вот сейчас позвонят в дверь, пришли с арестом. На следующее утро я отправился на работу в прескверном настроении, совсем, как у И. Годманиса накануне. В Департаменте обговаривали, что надо делать теперь. Начали с того, что, как и в январе, спрятали компьютеры, программы и документацию. Образовали нечто вроде подпольного штаба. Между прочим, в какой-то момент он был в квартире Лиги Бергмане в Старой Риге. Договорились, каким путем в случае необходимости оповещать людей. В конце дня все уже было мне поперек горла, и я решил поехать в деревню к семье, иначе в случае ареста я их так и не увижу. На всех окраинах города уже стояли бронетранспортеры. Я еще раньше попросил сменить номер на моей служебной машине, но это не было сделано, поэтому я боялся, что машину на улицах можно будет опознать. Я позвонил отцу, сказал, что хочу уехать в деревню, не можем ли мы поехать на его машине. Он согласился. Проехали небольшой кусок, вдруг выяснилось, что какой-то непорядок с фарами; скорее всего, сел аккумулятор. Пришлось вернуться назад в Яунциемс. Муж моей сестры Юрис Савицкис предложил отвезти меня на своей машине. Доехали до центра, в районе ул. Анри Барбюса (ныне ул. Аристида Бриана) лопнула шина. Я далеко не суеверный, но в тот момент что-то мне стало совсем не по себе. Казалось, что кто-то силой удерживает меня от поездки в деревню. Но все окончилось благополучно; по приезде я приласкал младших детей, выпили втроем и разошлись спать, поставив будильник на ранний час. Я решил с самого утра быть в Риге, а там уж что будет.
Утром включили радио, и какая-то радиостанция, кажется, «Голос Америки» сообщала, что ночью арестован И. Годманис. Ну, что же, значит ехать тем более надо. Тешил себя мыслью, что в конце концов мы едем на частной машине, не всех сразу подряд будут хватать. Когда в Риге ехали мимо дома Совета министров, то я увидел, что по-прежнему развевается латвийский флаг. Зашел внутрь. Оказалось, что произошло следующее. Вечером накануне явилась делегация советской армии, чтобы переговорить с И. Годманисом. Договорились, что охрана Совета министров сдаст оружие, чтобы не произошло кровопролития. Так и было сделано, и армейская делегация удалилась, но поползли слухи об аресте И. Годманиса; вот такие дела…
Наступила среда, 21 августа. На 10 часов утра было назначено совместное заседание Совета министров и Верховного Совета, чтобы обсудить вопросы организации всеобщей забастовки, а также принятие Декларации независимости. Собрались в Красном зале и обсуждали то и это: подвозить ли хлеб забастовщикам или нет, говорили о возможности всеобщей забастовки, о ее смысле и т. д. И тут помощница А. Горбунова Карина Петерсоне попросила его выйти из зала. А. Горбуновс вернулся очень скоро с просветленным лицом. Он сообщил, что ему только что звонил А. Собчак и сказал, что ему в свою очередь звонил А. Лукьянов, который все обдумал и пришел к выводу, что путч незаконен. В тот же момент все поняли, что произошел перелом, что путчисты провалились. Как я уже говорил, сам я не верил, что это могло бы долго длиться, но то, что только три дня, такое я и предположить не мог.
Как бы это цинично не звучало, но иногда меня посещает мысль, что если путч продолжился хотя бы неделю, то мы бы более точно определили, кто есть кто в действительности у нас в Латвии (надеюсь Господь простит меня за это).
Первая половина заседания близилась к концу, мы приняли решение о проведении забастовки, а я пошел пешком в здание Совета министров. По дороге мне пришлось встретиться с омоновцами в бронетранспортерах, они старательно метали дымовые шашки, сметали своими боевыми машинами оставшиеся еще с января заграждения, кажется, что кто-то из прохожих стал потерпевшим. Я дошел до работы и там услышал по радио, что Верховный Совет принял Декларацию о независимости. И все. А на следующий день мы уже готовили документы, на основе которых переняли имущество СССР и т. п. Началась совсем новая эпоха, время головокружительного международного признания Латвии (как и двух других балтийских государств), время фантастических свершений, ошибок и промахов, началось реальное восстановление независимого Латвийского государства.
Независимость
Нет, нет, да я и задумываюсь над тем, как же в действительности происходило восстановление нашей независимости? Я не претендую на роль аналитического историка, но, поскольку волей судеб я оказался в самом эпицентре происходящего, мне позволительно иметь свой взгляд на это.
Прежде всего, никогда не стоит забывать о чрезвычайно сложном переплетении причин и следствий, при этом все шло в своем определенном порядке и последовательности.
Нужно отдать должное первому и (о, судьба!) последнему президенту СССР М. С. Горбачеву, ведь именно с его приходом к власти стали реальными гласность и свобода печати, благодаря чему все мы узнали такое, о чем до этого и шепотом нельзя было произносить. Плотина прорвалась, и бурный поток перемен уже трудно было сдержать и самому М. С. Горбачеву. К тому же все негативное, все абсурдное, все противное человеку, что копилось в течение 70 лет (у нас в Латвии почти 50 лет) господства большевистского режима, гласность ярко высветила, доведя до критической точки.
Однако я убежден, что М. С. Горбачев совсем не рассчитывал на такие последствия. Он хотел лишь обновить тот же самый, старый но, на его взгляд, подходящий Советский Союз, с прочным фундаментом, нужно только дать дорогу свободной творческой энергии. Так и случилось: энергию он точно освободил. Но прежде всего вскоре стали очевидными процессы с необратимой центробежной силой, подчас даже весьма неожиданные, например, Белоруссия приобрела независимость, о которой вовсе и не помышляла.
Латвия, по-моему, использовала единственный, уникальный шанс, который она получила в этом процессе дезинтеграции. И за эту возможность нам надо сказать спасибо, как это не парадоксально звучит, московским путчистам образца августа 1991 года, личностям, безусловно, трагикомическим, над чьим чрезвычайно слабо организованным, в этаком комсомольском стиле, переворотом общественность издевалась еще долго. Действительно, реальный исторический процесс благодаря им стал необратимым. Впрочем, как мы знаем, история новейшего времени весьма и весьма парадоксальна. Помню, что еще за два года до падения берлинской стены известный лис американской политики Генри Киссинджер высказывался, что, если и есть что-то стабильное и долговечное, так это реальное существование двух Германий. Между прочим, когда, будучи в Америке, я задал ему вопрос на эту тему, г-н Киссинджер ловко уклонился от ответа. Однако объединение Германии состоялось, народы Советского Союза узнали то, что должны были узнать: репрессивные структуры насквозь прогнили и не были больше в силах агрессивно воздействовать на все общество. Прежние страхи, разумеется, сидели в спинном мозгу, но ни о какого рода репрессиях уже не могло быть и речи.
В случае с Прибалтикой роль международной поддержки была неоспорима. Идея независимости Балтийских стран de jure жила все послевоенные годы. Это облегчило России сделать шаг по признанию независимости, к тому же в самой России в то время уже в полную мощь пробудились силы национального самосознания, хотя часто для нас, балтийских народов, они выглядят совсем в неприятном и неприемлемом виде. За национальное возрождение русского народа выступал также Б. Н. Ельцин. Можно сказать, что если заслуги М. С. Горбачева в возрождении независимых Балтийских государств не осознаны, то участие Б. Н. Ельцина, конечно же, вполне определенное и целенаправленное. Декреты, подписанные им, о признании независимости Балтийских государств были в какой-то степени и широким жестом русского барина, как мне кажется.
Ситуация внезапно обрушившейся на нас независимости, несомненно, выпустила на волю, как джин из бутылки, лавину спонтанности и необдуманности. Вспоминаю, как министр сельского хозяйства Д. Гегерс с очень серьезным видом декларировал (и действительно сам верил в это, впрочем, как и многие в тот момент!), что теперь нам больше не понадобится никакое планирование. В сущности мы все в то время были сами с усами и довольно туманно представляли себе, что же такое рыночная экономика. Что-то об этом знал Янис Аболтиньш, но фактически он был политиком левой ориентации. В эйфории независимости мы поначалу по-настоящему не поняли, что за это нам нужно будет дорого платить. В конце концов огромное государство, каким был СССР, может во многом функционировать, если так можно сказать, дешевле, маленькому же государству в условиях рынка нужно много усилий для подъема. Поскольку восточный менталитет для нас менее приемлем, то наши политики, понимая необходимость интеграции, теперь стали ориентироваться на противоположную сторону – на Европейский Союз. Я не помню ни одного случая, когда бы среди наших политиков возникали споры о том, что же для нас центр: Москва или Брюссель, речь могла быть только и единственно о Европе. Сегодня вообще будет весьма необдуманно и непопулярно, если политик, считающий себя серьезным политиком, осмелится открыто сказать «нет» Европейскому Союзу. Конечно, всегда есть почва для сомнений, например, говорить о скрытых угрозах и о готовящемся реванше со стороны России и т. п. С другой стороны, есть и политики правого направления, время от времени выражающие желание к самоизоляции, в которой мы в большой мере находились до второй мировой войны, но это уже совсем несерьезно. Я глубоко убежден, что прежде всего нам нужно суметь объединиться в Балтии, создать единое балтийское экономическое пространство со всеми его рычагами, и в этом наша опора.



