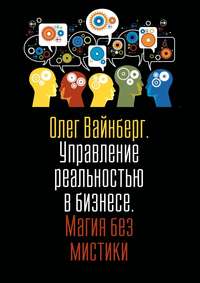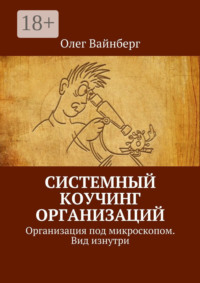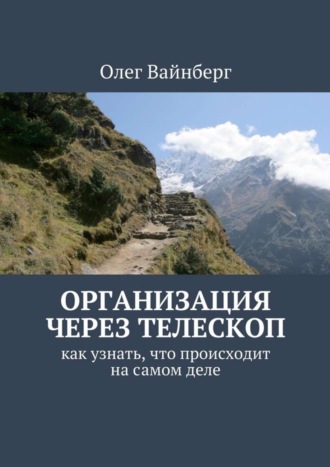
Полная версия
Организация через телескоп. Как узнать, что происходит на самом деле
Любая система «здорова», когда связи между элементами просты и естественны. Говоря языком психологов, если главенствуют «первичные чувства», то есть когда возникающие у нас чувства адекватны ситуации и направлены на правильный объект. Это позволяет участникам системы адекватно видеть ситуацию. В противном случае мы чувствуем одно, декларируем другое, делаем третье, а окружающие воспринимают наши действия каким-то четвертым способом, который нам никогда не приходил в голову.
Давайте разберемся с этим подробнее. Начальник поступил несправедливо, и я на него злюсь – первичное чувство. Мы с ним можем проговорить это или не проговаривать, но в любом случае наши проблемы остались между нами. Хуже, если главенствуют «вторичные чувства», то есть когда чувство или объект, на который оно направлено, не адекватны ситуации. Начальник поступил несправедливо, а я злюсь на себя или на своего подчиненного, который что-то не доделал. Соответственно, в орбиту конфликта могут быть вовлечены другие люди, и лавина конфликта будет нарастать. Но у этой цепочки, по крайней мере, можно найти исходную точку внутри организации. Совсем худо, если главенствуют «перенесенные чувства», которые приходят из системы. Когда, к примеру, подчиненные конфликтуют, потому что не разрешен конфликт где-то в высших эшелонах власти. Тогда конфликт становится необъяснимым и трудноразрешимым. И совершенно бессмысленно выяснять, «кто первый начал».
Когда организация чувствует себя хорошо и в ней все чувствуют себя хорошо? Когда организация – это просто организация. Когда люди не тащат на работу свои семейные привычки и паттерны (устойчивые модели) поведения. Когда каждый точно знает, кто его начальник, кто подчиненный. А поскольку организационные системы так устроены, что в них нет элементов одинакового ранга, каждый сотрудник должен знать, кто из его коллег весомее, чем он, а кто – наоборот. Это ведь только на организационных схемах все директора располагаются на одном уровне. Внутри-то точно знают, кто главнее и кого скорее услышат.
. Как этого добиться владельцу или топ-менеджеру? Какие принципы надо заложить в основу организационной системы? Организационные системы почему-то ведут себя так, как будто для них очень важно выполнение четырех базовых принципов. Хорошо, когда в отношениях внутри организации порядок, если бизнес – это «ничего личного, просто бизнес», а не отражение невротических комплексов владельца
Все, что происходило в системе, заслуживает уважения. Возможно, какие-то действия предшественников нам не нравятся. Но благодаря им организация дожила до текущего момента, и в ней образовалось место и для нас. У истории нет сослагательного наклонения, и еще не известно, как бы мы поступили на месте тех, кто пришел в организацию до нас, и что бы из этого вышло.
Как известно, все, что мы не осознаем, приходит в нашу жизнь как судьба. Так же дорого обходятся попытки без всякого уважения к прошлому «копаться в грязном белье». Всему должно найтись место. Это то, что психологи называют принятием и без чего невозможны никакие отношения.
Кроме организационной структуры, заботливо изображенной на большом листе бумаги, с подписью генерального директора в углу, в каждой организации есть изначальная иерархия, определяемая самой системой. Системы почему-то лучше видят и слышат или тех, кто пришел в них раньше, или тех, кто дает им больше. Раньше всего в организацию пришел тот, кому пришла в голову идея ее создать. А больше всего дают те, кто ближе к клиентам или ресурсам. Поэтому, собственно, в таком почете коммерческие и финансовые директоры. Если в организации нарушен порядок и новые сотрудники находятся в более привилегированном положении, чем старые, организация не будет чувствовать себя сильной и не будет способна к развитию и противостоянию внешним вызовам. Даже самым прочным стенам нужен надежный фундамент. Это касается и клиентов. Не зря на Востоке так ценят клиента, который первым в этот день вошел в магазин. Если организация пренебрегает интересами тех клиентов, которые когда-то своими заказами помогли ей состояться, в этом нет ничего хорошего.
Баланс – это уравновешивание между «брать» и «давать». Системы всегда стремятся сохранить это равновесие, даже если кто-то стремится его нарушить. Если чересчур преданный сотрудник начинает дневать и ночевать на работе, делая то, за что организация ему не платит и платить не готова, она начнет обесценивать то, что от него получает, просто чтобы восстановить баланс. «И не так уж его решения хороши… есть люди поквалифицированнее… на работу он вчера опоздал, и вообще дисциплина хромает…» Если организация начинает давать слишком много, столько, сколько человек вовсе не собирался отрабатывать, он сам начинает обесценивать организацию: «И платят в «Газпроме‟ побольше… и стоянка для машин неудобная… и соцпакет слабоват… и меню в столовой никуда не годится…». Этот же принцип прослеживается и во взаимоотношениях с клиентами. Если клиент получает немного больше, чем оплатил – это хорошо. Он стремится компенсировать разницу, проявляя лояльность, рекомендуя организацию друзьям или рассказывая об успешном опыте сотрудничества в соцсетях. Но если клиент получает намного больше, столько, сколько он не может или не готов компенсировать, то он начинает испытывать чувство вины. Жить с чувством вины очень неудобно, и клиент потихоньку уходит.
Любой, кто оказался в системе, ей принадлежит. Все, что изменило или определило систему, становится ее неотъемлемой частью. Потому, что система – это элементы и связи, особенно – связи. Элемента может уже не быть, человек давно ушел из организации, но незримо он все еще в ней, потому что многое делается так, как делается, потому что он делал именно так. Сохраняются связи и с коллегами, покупателями, партнерами, делами. Высшие эшелоны, особенно после этапа первоначального накопления капитала, любят делать вид, что чего-то или кого-то не было. Но что было, то было, система не позволит просто так что-то из себя удалить. Она начинает бурлить, бунтовать и всячески пытаться, зачастую гротескно и искаженно, «вынести сор из избы».

. Мы не обязаны любить то, что нам не нравится, но уважать придется. Пренебрежение руководителей историей своей организации и попытки ее переписать задним числом обходятся дорого
Что происходит, если принципы нарушены
Жила-была организация с очень лояльным персоналом. Сотрудники искренне считали себя одной командой и гордились своей принадлежностью организации. Неблаговидные поступки были редкостью, и сотрудник скорее мог заплатить за какую-то мелочь из своего кармана, чем что-то украсть. В ней было отдельное подразделение, которое занималось техническими проблемами клиентов. Оно называлось «Сервисный центр». Прибыли оно не приносило, потому что не для прибыли и создавалось. Пока денег у организации было много, все было хорошо. Но в кризис 2009 года денег стало меньше, и встал вопрос о выживании организации. Первыми, как я уже говорил, всегда страдают клиенты, они и пострадали. Маркетологи заявили, что «раз клиенты за это не платят, значит клиентам это не нужно», и подразделение закрыли. Следующими пострадали сотрудники. Сотрудников ликвидированного подразделения, бóльшая часть которых работала в нем много лет, уволили. Вместе с руководителем, проработавшим в организации лет пятнадцать. Выплатили «отступные», люди написали заявления и ушли. И в организации «забыли» даже о существовании этого подразделения. Упоминать о случившемся было не принято. В результате ранее высочайшая лояльность оставшихся сотрудников упала до нуля. Готовность сделать что-то для организации, пусть даже в ущерб своим интересам, сменилась воровством.
Все можно было сделать по-другому, уважительно: собрав совет директоров, извинившись перед сотрудниками, выплатив публично хорошую компенсацию, поручив HR-отделу помочь людям найти хорошую работу. Это не потребовало бы больших денег, но это потребовало бы большого мужества, которого совету директоров не хватило. Все четыре принципа были нарушены. Людей уволили без уважения, старейших сотрудников уволили, чтобы дать возможность продолжать работать тем, кто пришел позже. Люди отдали организации много лет жизни и не получили должной компенсации, их исключили из системы и забыли. Фирма расплатилась за это текучкой и демотивацией оставшихся работников.
Поэтому я не устаю повторять: если у вас есть выбор – поступайте этично. Этичные поступки всегда окупаются. Если у вас нет выбора, значит, вы просто чего-то не заметили. Посмотрите еще раз и найдите его.

Немного о методе
Вообще говоря, достаточно учитывать изложенные выше четыре базовых принципа, и вам не понадобятся организационные консультанты и организационные психологи. Но все мы знаем народную мудрость «хорошая мысля приходит опосля», и вполне возможно, ситуация такова, что без внешнихконсультантов или коучей уже не обойтись. Пара слов о том, как это делают специалисты по системной работе. Системное моделирование организационных систем, или организационные расстановки, выкристаллизовались из расстановок по Хеллингеру, которые уже лет тридцать используют для работы с самыми разнообразными системными проблемами.
Этот подход используют компании IBM и Lufthansa. Ему обучают специалистов нидерландского подразделения McKinsey и сотрудников российского МЧС. В основе «расстановочных» подходов, коих за эти тридцать лет появилось немало, лежит интереснейший феномен, называемый заместительским восприятием. Судя по всему, кроме известных нам пяти чувств, то есть зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, люди обладают еще одним. Это чувство здорово выручало древних, например, при охоте на мамонтов. Древний охотник мог примерить на себя роль мамонта, в некотором смысле «стать мамонтом» и на уровне тела почувствовать, куда бежит или где пасется эта столь нужная в хозяйстве скотинка. У высших приматов, к коим относятся люди, есть даже отдельный орган для того, чтобы почувствовать эти ощущения. Называется он «зеркальные нейроны» (англ. mirroring neurons).
Это специальные структуры, которые очень плотно изучал итальянский ученый Иоахим Бауэр. В одной из его книг, «Почему я чувствую, что чувствуешь ты» [1], подробно описан и сам феномен зеркальных нейронов, и методика исследования. Так или иначе, с восьмидесятых годов XX века метод расстановок начал применяться как отдельный метод групповой работы, который заключается в следующем.
– Клиент озвучивает свою проблему или, иначе говоря, «запрос». О том, каким образом клиенту лучше сформулировать свой запрос или как мы можем помочь это сделать клиенту, мы еще поговорим, пока достаточно того, что запрос должен касаться непосредственно клиента и быть для него важным.
– Консультант, владеющий методом («расстановщик»), вместе с клиентом решает, какая именно из систем клиента больше связана с озвученной проблемой, какие элементы и связи могут быть важны.
– Далее участников группы просят побыть в «шкуре мамонта», то есть представить себя каким-то из элементов системы. Участника вводят в модель, что физически выглядит следующим образом. Клиент или консультант находят для него место в пространстве, буквально «ставят» его туда и вслух или про себя четко проговаривают, чью именно роль он исполняет. Это может быть роль конкретного человека, роль группы людей, например, организации или подразделения, или даже роль достаточно абстрактных понятий, например, прибыли или долгов. Если все сделано правильно, через несколько минут этот участник, называемый обычно «заместителем», начинает чувствовать в теле ощущения, которые он четко определяет как «не свои». Они, как правило, хорошо чувствуются на уровне кинестетики и четко отличаются от того, что человек ощущает в обычной жизни. Что характерно, ощущения не меняются, если мы вводим на одну и ту же роль разных «заместителей» и не зависят от того, знает ли «заместитель», чью роль он «замещает». В 70% случаев «заместители» дословно повторяют фразы друг друга и озвучивают одинаковые чувства, еще в 15% есть очень незначительные отличия. Таким образом, в 85% случаев участники произносят практически идентичные фразы и говорят об идентичных ощущениях, при этом они могут не знать, чью роль они играют. То есть можно утверждать, что эти ощущения связаны именно с системой, а не с личностью участника. Поскольку участники могут не знать ни о том, кого «замещают» в выстроенной модели, и сам клиент никак не властен над их поведением, можно утверждать, что отражаемые ими ощущения соответствуют не «легендам» и «историям», а тому, что происходит в системе на самом деле. Если «заместитель» ничего такого не чувствует, это тоже очень важная информация для ведущего. В конце концов, он в этот момент чувствует, что ничего не чувствует.
– Затем консультант вместе с клиентом может производить определенные изменения в модели, так называемые «интервенции». Поскольку клиент все видит, он начинает понимать свою систему намного лучше, чем раньше, и может это понимание конструктивно использовать. Или не использовать. В этом смысле право выбора всегда остается за клиентом.
– По окончании работы роли с «заместителей» снимаются. Как правило, поскольку человек четко дифференцирует «свое» и «не свое», это не вызывает никаких затруднений. Исключение составляют ситуации, когда в личной истории самого заместителя есть какие-то проблемы, похожие на те, с которыми происходила работа. Тогда «заместитель» может ненадолго «залипнуть» в своей роли. Но и для таких ситуаций у нас в арсенале достаточно инструментов. «Заместитель» же получает осознание источника и своих личных затруднений и может далее каким-то образом с этим работать. Я сам в роли заместителя проходил через это не одну сотню раз.
Кинестетика, которую испытывают «заместители», может быть весьма своеобразной. Особенно, если тебя просят побыть «вагоном», «станком», «прибылью», «клиентами», «социумом» и т. д. Собственно, интересны скорее отношения и связи. Нормальным вопросом является «кого ты видишь?», «на кого тебе хочется смотреть?», «хочется ли тебе быть здесь или еще где-то?», «какое место будет для тебя комфортным?» и т. д. Бывает очень интересно наблюдать, когда «организация», заявляющая о своей «клиентоориентированности», в упор не видит клиента и смотреть на него не хочет.
Что именно, применительно к организационным системам, можно изучать таким способом? Все, что подразумевает отношения. Насколько хорошо организация видит клиентов? Каких именно? Видят ли клиенты продукт и организацию? Привлекает ли их, скорее, организация? Или, скорее, продукт? Или бренд? Что будет, если мы дадим рекламу? Станут ли нас видеть лучше или это просто выброшенные деньги? Какие подразделения организации видят клиентов, а какие считают, что это их не касается? Какова оптимальная цена, при которой прибыль максимальна? Какой должна быть цена, чтобы клиенты были уверены в высоком качестве товара? Насколько подразделения организации видят друг друга? И прочее, не говоря уж о конфликтах и коммуникациях.
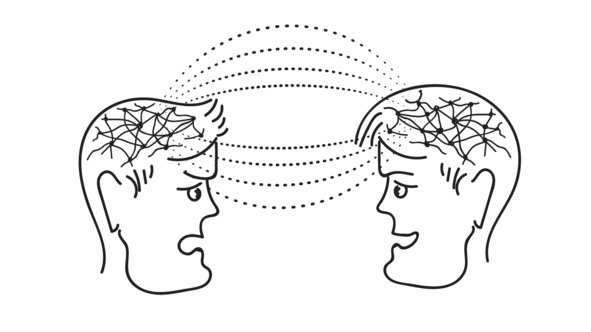
Еще немного о терминологии
Я стараюсь пользоваться общепринятой терминологией менеджмента и бизнеса. По большей части это термины из курса MBA Открытого университета. Случаи отступления от принятой терминологии я буду оговаривать. Например, в дальнейшем термин «клиент» всегда будет означать человека, который пришел к консультанту, коучу, расстановщику со своим запросом. Под термином «продукт» будет пониматься товар, услуга или их сочетание, которое организация предлагает своим потребителям. Под термином «потребитель», если это не будет специально оговорено, будет пониматься как, собственно, «потребитель», то есть тот, кто использует продукт организации, так и «покупатель», то есть тот, кто этот продукт оплачивает. Это не всегда одно и то же. Простейший пример – кошачий корм. Моя серая пушистая кошка по кличке Вишня не платила за корм ни копейки и не имела возможности ни единым мявом высказать производителю свое мнение по поводу качества его продукции, но если она начинала бойкотировать миску, то я, как покупатель, переставал этот корм покупать. Другой пример – детская одежда и вообще любые товары для детей.
Организация – это люди, а у каждого человека есть собственный набор убеждений о том, как устроен мир. Это не только убеждения о том, что в этом мире важно, а что нет, но даже убеждения о том, что в нем есть и чего не существует.
Когда мужчина растерянно топчется у шкафа и кричит жене: «Где все мои носки?» – он не издевается. Реплика «Разуй глаза, они перед тобой, я их сложила на вторую полку, чтобы они везде не валялись», может, и хорошо объяснима, но не слишком уместна. Если в представлении данного мужчины носки – это такие черные комочки, которые лежат вперемешку с трусами на третьей полке, на второй он их не увидит. В его личной картине мира если носков нет на третьей полке – их нет вовсе. Если ему показать носки на второй полке, он их, конечно, увидит, хотя некоторым надо будет показать их не один раз. Разным людям нужно разное количество так называемых «событий-убедителей», чтобы изменить картину мира. Что интересно, как правило, мужчина не теряет прежнюю способность видеть носки, тщательно перемешанные с трусами. Старые убеждения, если это действительно наши убеждения, которые подкреплены личным опытом, никуда не исчезают, их нельзя уничтожить. К ним добавляются новые вариации. Например, убеждение о том, что если уронить на ногу красный или белый тетраэдр, широко применяемый в строительстве и называемый в народе кирпичом, то будет больно. Если человек пару раз уронит себе на ногу пластмассовый, поролоновый или пенопластовый тетраэдр, его убеждения расширятся, в них появится дополнение, что есть тетраэдры, которые ронять безопасно. Но старое убеждение никуда не денется, и он по-прежнему будет вздрагивать и рефлекторно отдергивать ногу. Действует это и наоборот, что породило бесчисленные вариации жестокой детской шутки, когда предлагают пнуть валяющуюся консервную банку, которая вовсе не валяется, а насажена на кол. Убеждение в безопасности «пинания банки» стало причиной немалого числа сломанных пальцев.
Есть два типа убеждений – собственные и встроенные. У только что родившегося ребенка еще нет убеждений, и он видит мир так, как есть. Появляется личный опыт – появляются убеждения. Что если похныкать – сменят пеленки или возьмут на руки. Позже – отом, что если удариться, будет больно, что утюг – горячий и многое другое. Собственные убеждения всегда подкреплены личным опытом и образуются путем его закрепления. Очень важно: для анализа таких убеждений всегда можно вспомнить первый или хотя бы какой-нибудь подтверждающий опыт, тот самый «убедитель». Чем больше «убедителей» и чем чаще они происходят, тем крепче убеждения.
. Туда относится большая часть общих убеждений, в которые, явно или неявно, входят такие слова как «все», «всегда», «никто», «никогда», «ни один», «все как один». Есть и другие убеждения. Убеждения, для которых мы не можем вспомнить личных опытов-«убедителей»
Обычно это высокоморальные убеждения, типа «должен же кто-то…», приводящие к тому, что человек годами выполняет очень полезную для общества работу за копеечную зарплату. В этом же ряду и убеждения типа «не убий» и «не укради». Хотя мы постоянно видим обратные примеры, почему-то они нас не убеждают. Вроде достаточно новостей по телевизору, где показывают дома государственных мужей стоимостью в десятки миллионов долларов, которые ну никак не получится купить на зарплату. Или условные или символические наказания высокопоставленных чиновников из разных министерств. Но наш мир остается непоколебим, так же как и убеждение, что «плетью обуха не перешибешь», хотя девяносто девять человек из ста ни разу не пытались этого сделать.
Мы твердо убеждены, что мир устроен именно так, хотя и не имеем личных чувственных опытов, которые это подтверждают. Кстати, такие убеждения обычно непоколебимы и отстаиваются с особым ожесточением. Это так называемые встроенные убеждения. Встретившись с таким убеждением, особенно в собственной голове, очень полезно задать себе вопрос: кто, когда и, главное, с какой целью заложил в вашу голову это убеждение? Родители? Социум? Соседи? Школьный учитель? Церковь?.. Какие цели преследовал тот, кто это сделал?
Какие собственные цели преследовали родители, заложившие в голову мальчика-отличника убеждение, что для того, чтобы преуспеть в жизни, надо хорошо учиться? Их собственные ментальные фильтры-убеждения не позволяли им вспомнить своих одноклассников и осознать, что преуспели вовсе не отличники? Возможно. Встроенные убеждения, как вирусы и генетические болезни, могут передаваться многие поколения. Или они, в сущности, понимали, что преуспевание в жизни связано, скорее, не с тем, помнишь ли ты все даты из учебника истории или нет и отличаешь ли ты катионы от анионов, а серную кислоту от сернистой и серноватой. Ну помню я, что в щелочной среде фенолфталеин окрашивается, и что? Не помню, чтобы мне это хоть раз пригодилось. Может быть, родители, которые встроили это убеждение, сами хорошо понимали, что успех в жизни определяется скорее умением пробовать и ошибаться, умением разумно рисковать, умением строить и поддерживать отношения с окружающими, умением при необходимости обращаться за помощью и принимать помощь. То есть всему тому, чему в школе не учат. Но очень уж приятно и почетно быть родителем отличника, которого хвалят на родительских собраниях. Очень удобно не просиживать вечера с сыном-балбесом, а небрежно спросить: «Как дела? Три пятерки? Хорошо. Домашку сделал? Хорошо». И, главное, «не перехваливать, а то разбалуется». Описанию результатов посвящены тома научной и околонаучной литераторы, описывающие «сидром самозванца». Когда я сам осознаю, сколько всяких таких программ-убеждений я встроил в головы собственных детей, мне становится по-настоящему стыдно. Это очень полезно – исследовать собственные убеждения на предмет «собственности».
Убеждения приводят нас к самым разным вещам. Как-то раз я в качестве коуча работал с тридцатипятилетним донельзя усталым мужчиной, мастером и преподавателем йоги и массажа. Он был в прекрасной физической форме, я бы никогда не дал ему больше двадцати трех – двадцати четырех и был очень удивлен, узнав, что у него двое довольно взрослых детей. У него было хорошее образование, приличный достаток, собственный дом, машина. И очень усталые глаза. Мы поисследовали встроенные в него убеждения. Среди них нашлось и такое: «чтобы все было – надо пахать». Будешь вкалывать – все будет. Не будешь – ничего не будет. Те, кто считает, что это хорошее убеждение, кивните. Кивайте, кивайте, в нем нет ничего плохого. По крайней мере, кроме усталых глаз, оно обеспечило своего обладателя достатком и семьей. Это убеждение отлично уживалось с другими убеждениями. Что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Что «за что недоплачено, то не доношено». И, самое главное, что «шальные деньги добра не приносят». То есть то, что пришло «само» или «слишком легко», брать нельзя. Потому что «как пришло, так и уйдет» и еще с собой что-нибудь захватит. Медленно, очень медленно мы пробирались сквозь его убеждения, рассматривая их со всех сторон, задавая одни и те же вопросы. Всегда ли это так? У всех ли это так? Не встречались ли в жизни примеры, пусть и не у него, когда было по-другому? И через пару часов его убеждение расширилось. «Надо пахать. Чтобы все было, надо пахать. Но если тебе по темечку стукнул мешок с деньгами или еще какая-нибудь удача, не надо отпрыгивать в сторону. В конце концов Ему там, сверху, виднее кому давать. Не надо обижать Господа недоверием». Мы продолжали движение, и вдруг он пришел к выводу, что, конечно, надо пахать. Но когда переводишь дух и утираешь пот со лба, не худо бы оглянуться по сторонам. Оторвать на секунду взгляд от своей лопаты. Вдруг что-то «вкусное» летит совсем рядом и можно просто сделать шаг и поймать это. И сразу же после этого немедленно, бегом к лопате и снова пахать, копать, корчевать и производить прочую полезную тяжелую работу. Не скоро мы, наконец, оказались с ним в его личном Музее Старых Убеждений. Теперь там, рядом со многими другими убеждениями, висит его старая лопата. Она отполирована до блеска, заточена и готова к работе. Под ней табличка: «Этой лопатой имярек вскопал…». Иногда, когда это действительно надо, лопата снимается с гвоздя. Старое умение «пахать» никуда не делось, но дополнилось многими новыми.