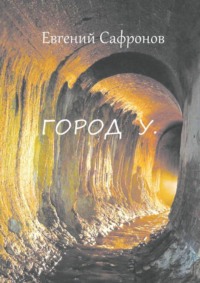Полная версия
Экспедиция. Бабушки офлайн. Роман
И напророчила старая карга: через полгода они погорели. Всё село им помогало строить новую избу – да не на прежнем месте, а ближе к бывшей церкви, в которой новая власть устроила сначала зернохранилище, а потом – клуб.
***
Дождь всё стучит по карнизу, бороздит окно каплями, а бабка Катя уж дремлет. Разовспоминалось ее сердце, растревожилось: вот ведь не только домового ей приходилось за жизнь видеть, но и еще одну чуду.
В кельях Катеринка сидела чуть ли не с четырнадцати лет. Пряла, вязала, под гармошку плясала и к семнадцати такую косу отпустила, что, говорят, даже парни из соседнего Ждамирова приходили поглазеть. Да только фигу им, а не Катьку: у нее своих, княжухинских, ухажеров было как грязи. Из-за этой-то косы проклятой всё и вышло. Ходил за ней парень один, Виктором звали. Ничего, видный такой, но злой, как собака. Катеринка чуяла, что не видать ей доброго от него и держалась подальше.
– Чего ты бегаешь-то от меня? Идем погуляем, по-хорошему пока прошу! – зажал он ее как-то у забора, за руку держит, насупился, черт глазастый.
– Отпусти, говорю! – а он не пускает. Катька вывернулась и бежать: благо, до Николаевых недалёчко, где в то время келья была. Вбежала, раскраснелась, а там – Вовка с «саратовской» приперся, девки всё вязанье побросали и давай друг друга частушками крыть. И дошли ведь до бесприличия.
Выплыла вначале Танька-заводила – она с той стороны, где жилинские, там все такие: им палец в рот не клади. В Княжухе-те раньше два графских управляющих жили – Жилинский и Оболенский, ага. И до сих пор ту сторону, за мостом которая, «жилинскими» кличат. Вышла Танька и давай:
«Я любила тебя, гад,
Чатыре года в аккурат,
А ты меня полмесяца
И то хотел повеситься!».
А Вовка за ней, было, годик целый ходил-ухлестывал: вот Танька на него глядит и поет. А все знают да смеются.
Катеринка отдышалась, смотрит: её-то хвост уж на пороге нарисовался. Она за девками прячется, а он за ней, а девки – в центр ее толкают, к гармошке поближе. Та вышла, ударила пяткой, ладошкой в Витькину сторону качнула и отчебучила:
«Не ходи по коридору,
Не стучи калошами.
Все равно любить не буду —
Морда как у лошади».
Витька постоял-постоял, лицо кровью налилось, как у рака вареного – и шементом за дверь. А у нее и ума нет, что он затеял. Она успокоилась, прыг за вязанье. Повязала-повязала и домой собралась. Выходит, а он, собака, из-за кустов выскочил и вдоль хребтины ее ремнем вытянул да не один раз: «Не унижай, дескать, парня перед всеми!». А она и не думала унижать: чё там в голове-то девичьей? Боялась – да, а унижать – да на кой он сдался?
Упала она тогда на дорогу и с испугу так заголосила, что из кельи все девки повысыпали. А он – раз в улицу, и не при делах вроде.
Вовка тогда хотел парней созвать да отметелить его по полной, но Катька не дала. «Пусть с ним, – говорит, – лишь бы не подходил больше».
И вот тогда эта история и приключилась. Возле церкви, клуба-то нынешнего, где они теперь жили, пруд был. Он и сейчас есть да зарос. А раньше, говорят, даже лебеди там водились: Оболенский их больно любил и разводил.
Катеринка вида не подавала из-за того случая-то с Витькой, а сама переживала, конечно. Грустно станет – она на этот пруд. И, главное, ночью ведь вздумала шастать, а чё там: вышел из калитки и – направо. Вот сидит Катька как-то, а уж за полночь дело-то было. А посреди пруда тогда камень торчал, вот он и теперь там, наверное («Я уж в Княжухе не была Бог знает сколько – туда и не доберешься ведь!» – Арсеньева зевнула, вытянула затекшие ноги под столом и, заглядевшись на оконные струи, снова начала забываться сном).
И вдруг слышит: хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, да, батюшки, что это такое? – кто-то плещется вроде. И образовалась на камне («вот не сойти мне с этого места!») женщина молодая – вся нагишкой, волоса распущённы, ноги к воде свесила и знай расчесывает гриву свою. И гребень какой-то ведь в руках, с гребнем, ага. Сидит Катька ни жива ни мертва, а эта, на камне-то, смотрит на нее и чешет-чешет. А потом рукой манить начала: «Пойдем, мол, пойдем…».
Вскочила девка, матюкнулась и – домой, только пятки засверкали. Слышит сзади: «Хлюп-хлюп!» – они мата-то боятся, нечисть-то эта. Вот и ухлюпала к себе на дно, видно. А Катьку ночью на пруд и калачом не заманишь теперь. Там, в этом пруду-то, говорят, не одна девчонка утопла. Кто по любви, а кто так – по дурости.
Глава 8. Сланцев
– Знаешь, Лешк, как это было? Жена своих подруг созвала, сидят они, болтают, а мне – скучно аж до посинения. Думаю: дай-ка в Интернет слазию! – Сланцев в очередной раз пересказывал полусакральный нарратив о своем приобщении к великому российскому братству самогонщиков.
Стариков внимал ему с удовольствием, понемногу смакуя результаты Мишкиного творчества. В его крохотной рюмке золотился напиток, совсем недавно добытый из небольшой бочки, сделанной из украинского дуба. Повествование поэта приобретало особый смысл в глазах Лешки: ведь именно с этим была связана новая тема, над которой – с благословления всепонимающего Шахова – собирался потрудиться Сланцев в грядущей экспедиции.
Канонический сюжет развертывался так: поэтическое чутье подсказало будущему мастеру набрать в Гугле (вариант: Яндексе) некую последовательность лексем, приведших его к покупке самогонного аппарата отечественного производства.
– Немецкий-то он получше был бы, но для стартапа сойдет и такой, – оправдывался Мишка перед друзьями, приглашенными на дегустацию. Те, хитро посматривая на него, соглашались, что действительно пока можно обойтись и имеющимся оборудованием, но расти над собой, конечно, надо.
И Сланцев рос – не по дням, а по часам. Досадные помехи создавала лишь супруга, не понимавшая ни всей ценности, ни очевидной фольклорной подоплеки творимого на ее глазах преображения обыкновенного мужа в гуру самогоноварения. Мишка охомутал кухонный смеситель цветастым сочетанием шлангов, заявил в ответ на некоторые – сперва робкие – возражения Кати, что каждый имеет право на хобби, и занялся сотворением напитка. Прямо на кухне. И вот тут-то приключился первый досадный промах, едва не стоивший Сланцеву потери хобби, а друзьям – смысла бытия.
Дело в том, что брагу, откуда и добывается ОН, можно, в общем-то, хранить в разных сосудах. Основываясь на рабочих связях, Мишка однажды приволок домой один из самых удачных (ошибаются и боги!) вариантов: стеклянную бутыль на 50 л. Мешать сладкую, ароматную («а Катьку, блин, этот запах напрягает!») жидкость можно также самыми различными предметами. Сланцев выбрал в качестве орудия железный половник с узким черпачком: широкий в бутыль не пролез бы.
– И стук-то был едва слышный: чик по стеночке, а дальше как у Кэмерона в «Титанике» – трещина пошла-пошла-пошла, и раз! Нету бутыли. А есть море разливанное – тягучие, сладкие, ароматные (ну не нравится ей этот запах, Леш, понимаешь!) 50 литров на полу в недавно отремонтированном коридоре квартиры. Текут и текут, а вместо Селин Дион – песня жены! Ох, не дай Бог такого никому услышать – ни в минувшем тысячелетии, ни в нынешнем…
Стариков опять пригубил, будто подсказывая Мишке следующее композиционное ответвление его нарратива: масштабный переезд на балкон. Сланцев прищурился, проницательно кивнул и продолжил.
– Слава Богу, у меня не балкон, а застекленный аэродром – в футбол можно с сыном играть. И хорошо (дьявол – в деталях!), что рамы на кухне не пластиковые, а деревянные. Дело оставалось за малым: просверлить в рамах дырки для шлангов, купить электроплитку для аппарата, и счастье, казалось бы, близко – гони, экспериментируй, собирай в экспедициях новые рецепты! Но случай, блин, бог-изобретатель, – снова попутал мне все карты.
Роль случая сыграли на этот раз подруги той же жены: как говорится, мы тебя породили («а кто скукой Мишку до Яндекса довел?»), мы тебя и убьем.
– Есть у нее там одна – ты бы, Стариков, точно от нее убежал: ты ведь не любишь баб, которые по поведению мужиков напоминают. Ну, я имею в виду – управлять всем и вся пытаются…
Лешка прикрыл глаза в знак согласия: все-таки диктофон-то пишет, пусть информант побольше сам говорит, а он даже «угукать» в ответ не будет – в соответствии с заповедями великого Шахова, адресованными желторотым первокурсникам.
– И вот она-то, Ирка эта, наболтала ей: «Вот, мол, дядя у меня есть, так же вот самогонщиком заделался, хобби-шмоби, всё такое – и спился, говорит. Угу. Алкашом стал, одним словом. Из дома всё тащит, продает, сам нигде не работает. «А он у тебя еще и поэт! А у поэтов к алкоголизму генетическая предрасположенность», – ага, так и глаголит, представляешь? Что тут началось, Лешка… Хоть святых выноси по одному из дома!
Стариков вновь закрыл глаза в качестве крайнего одобрения, сочувствия и сопричастия другу. И проверил на всякий пожарный случай диктофон – тот исправно фиксировал самогонный нарратив.
Дальше, согласно типовой структуре текста, должны последовать кульминация и благополучная развязка. Впрочем, постойте, но где же волшебный помощник, спасающий главного героя от неизбежного?
– Ты не поверишь, кто тогда спас меня и разрубил гордиев узел наших супружеских отношений. Юрку Котерева помнишь? Ну рыжий такой – ты с ним недели три назад у меня дома познакомился?
Стариков вздрогнул, и его лицо слегка перекосило – так бывает, когда внезапно напоминает о себе потерявшийся под старой пломбой зуб-мучитель. Он-то и думать забыл о рыжем типчике и витринном просветлении пьяного поэта.
– Юрка пришел, вспученный линолеум в коридоре мы с ним перестелили, на балконе всё наладили, он мне новую бутыль приволок – пластмассовую и флягу большую, алюминиевую, в которых раньше, помнишь, в совхозах молоко возили? Всё солидно и основательно, – Котерев он такой. Он даже, знаешь, что с собой припер, когда я ему свою эпопею живописал? Коробку конфет. Я ее жене и подсунул – в качестве символа примирения. А потом, когда она его борщом угощала (ведро ему целое налила – он ест много, но и работает за себя и того парня!), Юрка давай расписывать, сколько у него хороших знакомых самогоном занимается, и все – чуть ли не доктора технических наук. Моя Катька слушает его, а сама молчит. А это, скажу тебе, брат, не совсем добрый знак-то. В итоге вышло так: с аппаратом на балконе она смирилась, а Котерева с тех пор не слишком ценит. Ты и сам видел – про сапоги у лифта помнишь?
– Она и меня теперь не больно-то жалует! – вздохнул Стариков. Перед его глазами, как живые, вдруг встали пронзительные образы сваленных в кучу шмоток – его и рыжего.
– Да ладно, она уж забыла всё. Катька у меня отходчивая! – беспечно махнул рукой поэт. – Кстати, ты про мою идею-то не запамятовал? Взять Юрку в экспедицию? Он и технику любую починит, и машина у него отличная есть – довезет, куда скажешь. Я с ним уже переговорил – он всеми руками «за». А ты как на это смотришь? И Шахова бы надо известить.
Стариков осторожно снял очки, потер большим и указательным пальцами переносицу и ответил вопросом на вопрос:
– Мишк, ну, правда, что он там будет делать? Дурью маяться? Технику нам ремонтировать не надо, водить машину и без него найдется кому. Сфотографировать – тоже не без рук, справимся. В общем, надо внимательно поразмышлять-подумать.
– Подумай, – легко и непринужденно согласился Сланцев. – Только ты, Леша, не забывай, пожалуйста, что экспедиция – это не твоя личная собственность.
– Что ты хочешь ска… – Стариков запнулся и почувствовал, как густая краска заливает всё его лицо.
– Нет-нет, ничего-ничего. Давай еще хряпнем по маленькой? – и поэт упорхнул в сторону бочонка из украинского дуба.
Лешка потом не раз вспоминал этот разговор, каждую его деталь и скрытые интонации-смыслы. И задавал себе один и тот же вопрос: уж не тогда ли он впервые ощутил какие-то странные перемены в окружающем пространстве? Какое-то иное чувство – не совсем четкое понимание того, что где-то что-то неуловимо изменилось. Словно там, за миллионы километров отсюда, рухнуло огромное, вытянутое вверх здание, а здесь, у них со Сланцевым, эта вселенская катастрофа отразилась небольшим сотрясением воздуха, почти неосязаемым движением справа и слева.
«Экспедиция точно будет другой», – промелькнуло в голове у Лешки, и он в недоумении по-шаховски подпер безбородый подбородок кулаком…
– Слушай, – произнес через некоторое время Стариков – после того, как они помолчали, закусили и перешли на чай. – Ты мне в прошлый раз всё никак не давал своего «Домового» прочитать по-человечески. Давай я воспользуюсь той редкой возможностью, когда классик еще жив и может, так сказать, сам, без посредников… Почитай, а?
– Ну уж прям так и классик, – заворчал Мишка и порозовел от удовольствия. – Щас, погоди, найду сборничек.
Он приволок из другой комнаты светло-синюю книжицу, запрыгнул, как воробей на ветку, в любимое кресло-качалку (Катьки тогда, конечно, дома не имелось) и начал без посредников:
«Здесь был когда-то дом, в котором жили люди.
И печка согревала их лютою зимой.
Уютно было тут. И думалось: так будет,
что сохранит очаг лохматый домовой.
А помнишь времена: село росло и пело,
ваяли топоры пахучий свежий сруб.
И перескрип дверей рождался то и дело.
И вот конек на крыше, изящен и упруг.
Тогда слагали песни, тогда сложили печку,
и окна приоделись в наличников узор.
Дом получился добрым, добротным, безупречным,
под озорной, неспешный, ершистый разговор.
И молодой мужик сказал тебе: «Айда-ка,
дедуля домовой, со мной». И в кузовок
ты радостно вскочил, самодовольно крякнув.
И в новую избу тебя он поволок…»2.
***
Лешка засобирался домой – все-таки ему на другой берег Волги пиликать, но тут Сланцев ударил себя по лбу:
– Ведь совсем из головы вылетело: я же тебе тут такой сюрприз подготовил!
– Ну?
– Баранки гну! Устраивайся поудобнее, мы лучше такси потом вызовем – доедешь до своей хаты, тем более тебя там никто не ждет!
Стариков поморщился: он не любил даже косвенных напоминаний о своей неудавшейся женитьбе, разводе и других малоприятных мелочах семейной жизни. И Мишка об этом прекрасно знал – однако ж (попробуй останови поэтическое вдохновение!) иногда и у него проскакивали такие напоминания, словно электрическая искра у давно переставшей работать машины.
– Я тут в анналах своего старого стола такое добыл…
– Звучит тревожно – про анналы-то, – перебил его Лешка предсказуемой шуткой.
– Ага. Так вот: мы его выкидывать собрались, я начал полочки вытаскивать, смотрю: а там – видеокассетка старинная, как песни твоих экспедиционных бабушек. Поглядел на приляпанный скотчем кусок тетрадного листка в клеточку, а на нем – выцветшими чернилами, синим по белому: «Посвящение 2000 года. Барышская Слобода». Помнишь такое?
Что-то справа и слева Старикова снова заколебалось и вздрогнуло – на самый краткий миг, но и этого хватило, чтобы неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника.
– Как же, – ответил он хрипловатым голосом. – Веселенькое было посвященьице. Так у тебя разве осталось, на чем такое старье проигрывать?
– Не-а. Я в фотосалон отнес – тот самый, который ты, Лешка, сторожил доблестные пять лет. Там мне и оцифровали ее, – довольный, как мартовский кот, Мишка уже налаживал телевизор, к коему были подключены легендарные новые аудиоколонки. Тут Стариков, как назло, снова вспомнил про рыжего и вздохнул.
– А может, ты мне просто скинешь файл на флешку, у меня есть с собой, да я дома всё посмотрю? – робко предложил Лешка, хорошо зная, как оценит подобное высказывание его друг.
– Ты с ума сошел! Ни за что! – категорически заявил поэт. – Такое надо смотреть только вместе. Я ж тебя знаю: ты дома перепрыгнешь из начала в конец файла и скажешь самому себе, что у тебя времени нет. Тут ностальгия, понимаешь? А ностальгия не терпит суеты. Садись и смотри. Нам, кстати, с тобой еще посвящение этого года надо обсудить – полно новичков-то намечается.
Стариков нехотя опустился на диван, Мишка еще немного поколдовал над колонками, и большой телевизор выпустил в реальность полузабытую ностальгию из Барышской Слободы.
***
Он уж и не помнил, как их точно звали – то ли Маша и Эля, то ли Саша и Эля, но Эля там точно присутствовала. Началось всё как-то само собой – как и всегда бывает во время хорошего посвящения.
– Посвящение – это не мероприятие одного дня, – любил говаривать ИП. – Его надо готовить всю экспедицию. Иначе грош цена такому приобщению к полевой фольклористике.
Стариков, тогда еще молодой студентик, весь обвешанный магнитофонами, как-то завалился в школьную столовую и увидел там двух девчонок-первокурсниц, корпеющих над обедом. Сделав скорбное лицо, он пошел за тарелкой, зачерпнул себе густого борща с самого низу восьмилитровой кастрюли и уселся есть в гордом одиночестве.
– Ты что какой грустный, Лешенька? – подсела к нему Эля. Саша тоже навострила свои красивые ушки. Этого-то он и добивался.
– Одну запись надо сделать сегодня ночью. Цыганка позвала – та самая, помните?
Еще бы им не помнить: про свою встречу с пожилой знахаркой, с которой Лешка пробеседовал почти шесть часов подряд, он в подробностях рассказал всей экспедиции. Цыганкой она была только наполовину, но собеседница и впрямь замечательная: оборотни, домовые, видения и даже измерение ауры Старикова и меры порчи на нем – всё присутствовало во время их знаменательной встречи. Лешка пришел с записи совершенно счастливый, говорил о ней и на традиционных ночных посиделках, чем произвел на первокурсниц неизгладимое впечатление. Сейчас нужно было всего лишь усилить его и закрепить. Тут рецепт самый простой: к правде прибавляй самую толику небылиц, и всё пойдет как по маслу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Volens-nolens (лат.) – волей-неволей.
2
Автор стихотворений, которые в романе приписываются Сланцеву, – ульяновский поэт Андрей Цухов.