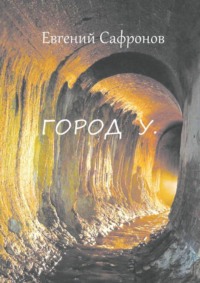Полная версия
Экспедиция. Бабушки офлайн. Роман
Стариков впервые с момента их знакомства посмотрел на Юрку с легким одобрением.
Глава 6. Стариков
313-я, лишенная окон, гудела от студенческих голосов. В те редкие дни, когда легкая рука администраторов, колдующих над расписанием, проставляла напротив его лекций номер именно этой аудитории, Лешка предавался не очень приятным воспоминаниям. В 2009 году он читал здесь культурологию четверокурсникам с технологии и предпринимательства. Этим ребятам его предмет был столь же остро необходим, как его любимым бабушкам – сельская дискотека. Впрочем, посещаемость он тогда умудрился немного повысить, сообщив студентам, что будет производить злостные и нерегулярные проверки лекционных тетрадей. Тетрадки он иногда действительно собирал, искренне восхищаясь наивными написаниями «сдесь» и «зделать».
Так вот: в ноябре упомянутого года, в пятницу 13-го, прямо посреди лекции дверь 313-й аудитории образовала неожиданную щель, оттуда показалась женская голова с испуганными глазами, которая громким шепотом вопросила: «Вы что с ума сошли!? Что вы здесь делаете?».
Стариков покосился на притихших студентов, с некоторым сочувствием посмотрел на испуганную голову и ответил банальное: «Лекцию читаем». Женщина тем же страшным шепотом сообщила, что весь педуниверситет давно эвакуировался, так как взорвался какой-то арсенал.
«И неужто вы не видите, что за окнами происходит?» – спросила голова, потом быстро обвела глазами 313-ю и, не обнаружив нигде окон, все равно осуждающе покачала из стороны в сторону. Минут через пять аудитория опустела, а Лешка вместе с тремя еще не убежавшими студентами вышел в коридор полюбоваться фейерверком рвущихся снарядов. Судя по зареву, на противоположном берегу Волги и впрямь случилось ЧП вселенских масштабов.
– Это склад у местных военных взорвался – «31-й Арсенал» называется. Опять Ульяновск на всю Россию прославится! – поведал четверокурсник, успевший проконсультироваться со всезнающим местным новостным порталом…
Сегодня, впрочем, было чуть легче: лекцию поставили у третьекурсников-филологов. Тема также попалась самая благословленная для утомленного вчерашними посиделками сознания Старикова – европейское средневековье. Лешка плавно перешел от житий к потусторонним видениям, а от них – и до сновидений про «тот свет» рукой подать. Можно расслабиться и вспомнить пару интересных случаев из экспедиций.
– Что любопытно: я уже лет пятнадцать записываю сны про умерших от самых разных людей – различного образовательного уровня, живущих в городе и селе. Сотни встреч и тысячи текстов. Так вот: когда они рассказывают о том, что видели иной мир, складывается четкое ощущение, будто описывается одно и то же место.
– Да тут самое простое объяснение: культурные универсалии! Что же удивительного? – фыркнул самоуверенный девичий голос с задних рядов. Лешка мгновенно опознал говорившую: это Любовь Чирикова – согласно аккуратной подписи на форзаце ее лекционной тетради. Чирикова молодого культуролога недолюбливала, и Лешка это отлично знал – по ответам на практических, по ее приглушенным комментариям во время лекции: «Мы уже это сто раз проходили!» – и по многим другим мелким эпизодам и признакам.
Стариков старался делать вид, что не замечает ее демонстративного отношения, а студентка продолжала это самое отношение усиленно демонстрировать. Будов, если бы Лешка вздумал ему рассказать о своем маленьком противостоянии, наверняка сказал бы: «Да это же любовь, Стариков! Пригласи ее куда-нибудь, цветы подари и так далее. Как говорится: „В зуб ногой, из сердца – вон!“». Ну или что-нибудь подобное – в типичном будовском духе.
– А мне умершие тоже снятся! – тихо сказала девушка в очках и веснушках. Лешка вспомнить ее имени сразу не смог, но уши навострил: когда рассказывают сон – тут не до региональной идентичности и фамильной принадлежности.
– Как снятся? Расскажите, – попросил Леша, сразу забыв о своих непростых взаимоотношениях со студенткой Любовью.
– Бабушка вот года два назад приснилась. Пришла вся в черном, хотя мы ее хоронили в светло-синем платье. Стоит в дверях и говорит мне: «Оль, а что же это вы похлебки-то мне никакой не сварите?». И всё – пропала. Я проснулась, маме рассказала, мы сварили, помянули.
– Да, такие сны я часто записываю: когда какое-то нарушение происходит, покойники напоминают о себе, просят, – сказал Лешка и почувствовал себя почти счастливым – как в экспедиции.
– Ну и где здесь про иной мир? – снова раздался пронзительный голос Чириковой с задних рядов. – Не пойму я что-то. Да и вообще не по теме лекции разговор.
Стариков тяжко вздохнул, прошелся от двери аудитории в сторону окна и наконец изрек:
– Да, вернемся, пожалуй, к житиям. Вы по древнерусской литературе какие агиографические тексты проходили?
***
– Мне ведь еще один сон снился, Алексей Михайлович. Вернее, не мне, а маме. Я просто при всех не хотела говорить, – все те же очки и веснушки, но теперь поближе к Старикову. – Рассказать?
В аудитории уже никого не было. Слава Богу, ушла и Чирикова – в числе самых последних, недобро поглядывая на оставшуюся веснушчатую.
– Конечно, расскажите, Оля. А я можно диктофон включу? – Стариков, конечно, юлил: кнопку записи он включил давно – еще во время лекции. «Бзик, однозначно – бзик!» – сказал голос Будова в голове у Лешки, но молодой препод отмахнулся от него, как от назойливой мухи.
Девушка неопределенно пожала плечами, что для любого фольклориста всегда означает одно: «Пишите, Шура, пишите!».
– У моей мамы… Ей операцию делали серьезную – ну по женской части. И анестезия пошла как-то неудачно. И вот ей привиделось, она мне сама много раз рассказывала: «Вижу планету какую-то необитаемую, вот всю в рытвинах и кратерах. Вот как Луну или Марс по телевизору иногда показывают, вот такая же. И меня, говорит, кто-то большой и очень неприятный – в накидках или плащах грязно-желтого, темного такого цвета, с ногами-копытцами и глаза у них красноватые, – вот они маму мою в гроб заколачивают. Я, говорит, кричу: «Нельзя меня хоронить! Я же живая!». А они смеются, вот хохочут страшно – у мамы до сих пор, когда она про это рассказывает, мурашки по телу бегают. Хохочут и кричат с издевкой: «Раз ты живая, тогда вспомни свое имя!». А она никак не может! Пытается-пытается вспомнить – и никак.
Ах, да! Забыла. А поодаль – где-то там, ей не видно, но она знает: падают гробы. Один за другим, с глухим стуком. И каждое падение сопровождает такой голос, гул: «Не заслужила доверия! Не заслужила доверия!». Страшно до одури! И тут, видимо, врач-анестезиолог начал звать ее: «Турская! Турская!» – это фамилия моей мамы. И она вспомнила и сказала этим в плащах: «Вот как меня зовут!». И очнулась.
Девушка замолчала, Лешка тоже не сразу заговорил: всегда так делал, чтобы рассказчики могли что-нибудь еще добавить, если захотят или вспомнят.
– Очень интересно. Спасибо, – спокойно и важно кивнул Стариков, хотя сам был рад новому тексту, как третьеклассник – велосипеду. – А я вам в ответ тоже расскажу одно сновидение, похожее по сюжету. Я записывал его лет шесть назад в Сурском районе. Точнее, это даже не сон, а обмирание. Так называется состояние, когда человек надолго засыпает, ну, знаете, наверное?
– Ага! – очки Ольги заинтересованно блеснули. – Летаргический сон.
– Ну да. В основном, в таких случаях говорят о летаргии. Так вот: мама информантки (ну то есть рассказчицы) обмерла недели на две. Очнулась и говорит: «Побывала я на том свете, дочка!». – «Расскажи, мамк!» – «Да мне не велели много рассказывать-то, а то умру. Но я уж смерти-то не больно боюсь…». И вот она описала, что видела.
Иду, говорит, по полю, а кругом – зелень такая мягкая, пушистая, как паутинка. Встречает меня какой-то мужчина, похожий на Витьку с соседнего села, и ведет к мраморной лестнице, а внизу – вода, ручеек. Перевел он меня через ручей, а сам куда-то делся. Иду дальше и вижу яблоневый сад, а в нем детишки играют, веселятся, поют. Я порадовалась за них, гляжу – с ними вроде как воспитательница. И узнала ее: это Шурка, молоденькая девчонка из нашего села, ее кузовом перерубило – когда грузовик школьный перевернулся. Лет тридцать назад погибла.
«Ты кого здесь ищешь? Тебе здесь нельзя находиться!» – говорит эта Шурка. А сновидица ей отвечает, что ищет, мол, сына своего…
– Как вы интересно рассказываете, – перебила Ольга молодого лектора. – Совсем как моя мама. Она тоже от «я», от «первого лица» чужие сны всегда пересказывает.
– Так все делают, – улыбнулся Лешка. – Уж поверьте мне, я этих текстов наслушался, наисследовался: то и дело скачут от первого лица к третьему. Так вот. Выяснилось, что обмиравшая-то эта давным-давно м-м… по молодости. Сделала аборт, в общем.
Настала Ольгина очередь важно кивать; она как бы подбадривала Лешку, дескать: «Ну что же вы замолчали, любезный Алексей Михайлович? Уж поверьте, мы на третьем курсе не только про аборты слышали!». Голос Будова, собравшегося добавить к этой воображаемой фразе студентки что-то свое – очень срочно-важное – Старикову пришлось подавить усилием воли.
– И вот его-то, неродившегося сына, она пыталась найти. «Это тебе не сюда – надо дальше идти, – говорит Шурка. – Но тебя могут не пустить». А я, говорит, все равно пошла дальше и вижу: за садом-то – черное болото, жижа грязная, вонючая. А там детских головок – кишмя кишат. Гляжу: мой сын, похож он на мужа вроде. А может, и не он. Снова – мой сын, и опять – вроде не он. А я вытащить хочу его из болота, а они-то не пускают… Тут и проснулась.
– А кто же это – «они», которые не пускают? – с легким оттенком разочарования спросила веснушчатая: видимо, она ожидала нечто большее от рассказа Старикова.
– Вот и я своей информантке ровно такой же вопрос задал. «Так, отвечает, – эти самые: мужики какие-то, в балахонах темно-желтых ли, коричневых ли. И с копытцами».
Ольга внимательно посмотрела в глаза Лешке и кивнула. На том и распрощались.
***
Вообще-то, Стариков очень любил классифицировать, дифференцировать и типологизировать. К примеру, когда он подразделял окружающих людей на различные виды и подвиды, то всегда относил себя к сложному подтипу «homo ratio» и уж никак не к «homo mysticus». Кстати, в детстве Лешку искренне удивляло, если он вдруг открывал, что и другие люди могли быть столь же сложны и богаты внутренне, как и он.
Будов, которому Стариков как-то обмолвился на счет всего этого, тут же заявил, что он, Петька, должен быть немедленно отнесен в категорию «homo erectus», потому что, мол, и ходит он прямо, и во всем остальном – мастак.
Однако последние лет 15 так получалось, что Лешка занимался темами весьма неоднозначными, что и создавало у него проблемы «с синхронией».
– Синхрония, – наставлял он того же Будова еще до его армейских подвигов, – она же «синхронистичность» – это по Юнгу. Совпадение далековатых ситуаций.
– Не учи ученого, – отзывался Петька. – Я этого Карла Густава читал, когда ты еще под стол пешком ходил.
Он был старше Старикова на два с половиной года, чем и побивал его в частых спорах. Но сколько Будов ни вспоминал – привести конкретных примеров из собственной жизни не мог. Зато Лешка порой уставал от этих примеров.
– Вот веришь, Петька: стоит настроиться на что-нибудь этакое, ну, я не знаю – событие какое-нибудь… Да что далеко ходить, вот тебе хороший пример: прогуливаюсь я как-то по Гончарова в сторону фотосалона, ну, помнишь, я там сторожем подрабатывал, было дело. И думаю про себя: «Хорошо бы в этом месте пирожковую-закусочную организовали. А то и пожрать в центре города негде!». Ну и что ты думаешь? Ровно через два дня снова иду на дежурство – нате, как говорил Маяковский, получите и распишитесь: закусочная открыта!
– Совпадение. Обычное совпадение, – отвечал на этот яркий экземпл Петька. – Знаешь, даже болезнь такая есть, что-то наподобие шизофрении: знаки повсюду мерещатся или там на острове Пасхи что-то произошло, а ты узнал – и к себе применил. Всё вокруг тебя, короче, вертится, весь мир. Солипсист ты, вот кто!
– Тьфу на тебя, – обижался Лешка. – Говорю тебе: синхрония чистой воды. Вот ты разве не замечал: узнаёшь неожиданно, что какое-то слово пишется не так, как ты двадцать лет подряд думал. Ну и что? Оно начинает попадаться тебе на каждом заборе, во всех газетах, книгах и на фонарных столбах. Будь это хоть какой-нибудь «престидижитатор».
– Уж прям тебе престидижитатора на каждом фонарном столбе нарисуют? – сомневался Будов.
– Говорю тебе: верь, и по вере твоей случится, – парировал Стариков.
С Петькой они на этот счет часто болтали – до того самого момента, пока он затылком чуть остановку не сломал. С тех пор – как отрезало. Стариков знал, что недавнего дембеля выписали из больницы в конце марта с диагнозом «сотрясение мозга и обморожение второй степени» – и всё. Полное отсутствие сведений. Где, как и что он такое теперь, Лешка не ведал: пропал человек, на звонки не отвечает, а ловить Петьку рядом с входом в квартиру его умершей матери у молодого препода времени не было. Он все-таки человек занятой.
Очередная «чистой воды» синхрония приключилась со Стариковым как раз в день взрыва на «Арсенале». Покинув альму-матерь, Лешка устремился к остановке – той, что возле мемцентра. Залез в 96-ю маршрутку, сел поближе к водителю, по одесную, и начал кимарить. Через минуту «Газель» остановилась и к ним на передние места подсела женщина лет тридцати, оказавшаяся, судя по приветствиям, давнишней знакомой маршрутчика.
Стариков очутился между двумя активными собеседниками, и буквально через пару фраз у фольклориста сон сдуло, будто ветром.
– Ты прикинь, Дим, какой мне сон вчера приснился! – голова новой пассажирки повернута в сторону водителя, и говорит она пронзительно и четко – прямо в правое Лешкино ухо. – Умершая бабка пришла – в аккурат на сорок дней, вчера как раз и отмечали. Зашла в комнату, склонилась над моей кроватью и говорит: «Ты, Ирка, завтра трамваем езжай. Поедешь на маршрутке – задницу надеру!». Прикинь? Так и сказала. Я мужу за завтраком рассказываю, он гогочет. Ну и что ты думаешь? Сажусь утром на 59-ю, спокойно еду на работу, и тут на Пушкаревском кольце – бабах! – правое переднее колесо отлетает на фиг. Полный пипец!
– Жива осталась? – интересуется водила Дмитрий – уже в левое Лешкино ухо.
– Как видишь. А вот бабуська сзади точно себе что-то сломала. «Скорую» вызвали – и увезли.
– Пипе-ец! – соглашается Дмитрий. И дальше едут некоторое время молча; водитель внимательно посматривает направо – туда, где гремит и вертится переднее колесо его «Газели».
Стариков настороженно ждет новых синхроний, но больше про сны ему в правое и левое ухо не говорят – а всё больше про дурацкий велосипед, который возжелал себе на день рождения сынишка Ирки.
– Вот замучил: вынь да положь. Он у меня третий класс заканчивает. Говорю: «Вот если на четверки-пятерки вытянешь – будет тебе велосипед!». Старается.
– Ага, – отвечает водитель. – Велосипед для мальчишки – первое дело. Я сам…
Старикову приходится прерывать их светскую беседу, так как приближается его остановка.
Глава 7. Баба Катя Арсеньева
– Горит, ей-богу, горит! Федька, мать твою, чайник говорила, когда уходили, посмотри! Посмотри, говорила! Беги, ирод Царя небесного! Беги! – надрывалась бабка Катя и, расширив от ужаса глаза, смотрела, как через улицу – ровно над ее домом – поднималось и дрожало в весеннем вечернем воздухе светлое марево. Муж, перепугавшись вусмерть, по-стариковски кряхтя и отплевываясь, бросился вперед. Она глядела ему вслед и видела, как неуклюже и медленно поднимаются серые подошвы его калош. Но всё побыстрее, чем она доковыляет на своих больных да варикозных. Плача в голос, она понесла свое большое тело к дому.
Вместе с мужем они ушли на поминки на Мертвую улицу в 11 утра и задержались там почти до шести вечера.
«Всё Дуська, ведьма старая: „Посиди да посиди, куда вам торопиться, на горóде ничего еще нет!“. И вот: досиделись до пожару!» – думала Арсеньева, барабаня изо всех сил в раму дома Федосеевых. На стук выскочила сухонькая Марфа, ее подруга.
– Марька! – задыхаясь, голосила баба Катя. – Борька дома у тебя?
– Ну?
– Пущай бежит ко мне! Пожар, видно! Я по пути, по пути заскочила!
Марфа ойкнула, заметалась, как вьюга, по крыльцу, и, уже хлопнув калиткой, Арсеньева услыхала ее вопль: «Борькя-а! Скорее! Ведра, ведра бери! Телефон – звони, звони в район!».
Она решила срезать по задам, где покороче бежать, да забыла, видно, что там топь, и, упав, раскровенила больную коленку о прошлогодний корешок. «Ах ты, Господи!» – ничего не чуя от ужаса, она повернула взад и уже через три минуты нырнула за угол. Ее изба была крайняя по Озерной; насупроть всю жизнь торчал колодец-журавель, из которого давно уж перестали пить: появились колонки, где вода посвежее.
Арсеньева пробежала еще несколько шагов, а затем остановилась, как вкопанная, увидев Федьку. Муж стоял на коленях и, сложив два перста («он же у меня кулугур, а я и думать забыла: отродясь он на людях не молился»), со значением клал кресты. Тяжело дыша, бабка Катя смотрела туда, куда, ничего не видя от страха, глядел ее супруг.
На самом деле мы редко в своей жизни сталкиваемся с чем-то действительно новым. А уж если такое уникальное событие случается, то всегда найдется то, с чем это новое можно сравнить.
Вот и Арсеньева увидела шар не шар, тарелку не тарелку. «На дирижаблю похоже!» – почему-то решила она и затем долго придерживалась именно этой версии. Над колодцем висело нечто светлое, похожее на яркий уличный фонарь. («Вот как у Федосеевых, когда луны-те нет, ночи темные, а у них лампа перед двором светит – далеко-о видать»). Только фонарь светил каким-то синим, почти светло-зеленым светом, а внутри него что-то пульсировало – какие-то три маленькие точки-живчики. И из одного живчика бил узкий, дрожащий, словно леска при удачной рыбалке, луч – тоже зеленоватого света. Луч уходил прямо в колодец, откуда, пучась, вырастал еще один цветной гриб света.
– Федька! – наконец не выдержала бабка. – Чегой-то это?
Муж не удостоил ее даже поворотом головы и вновь затеял вполголоса молитву, которую повторил уже раза три: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его…».
– Да постой ты, кулугур окаянный! Чегой-то там такое? Может, стащить чего хотят, а ты тут ухлопался на землю, как петух на насест. Подымайся да посмотрим пошли! Изба-те не горит вроде?
Сзади послышалось громыханье ведрами, и из-за угла выскочил Марфин сынок – дальнобойщик и пьяница, каких свет не видывал.
– Баб Ка… – начал он и вытаращился в сторону колодца. Затем сделал один шаг назад, другой, и ладони его сами собой разжались, выпустив обе дужки. Ведра громыхнули об грунтовку и раскатились в разные стороны.
– Эй, эй, Борька, ты куда? – забеспокоилась Арсеньева. Но Марфин сын успел развернуться и опрометью бросился назад. Уже оттуда, из-за угла, до бабки Кати донесся такой отборный, изысканный трехэтажный мат, что женщине оставалось только развести руками.
Дальнейшее она успела заметить лишь краем глаза, а муж потом уверял, что и вовсе ничего не видел-не помнил: «Анмезия у меня, старуха, ан-ме-зия! Память потерял со страху. И не спрашивай ничего!» – так категорично реагировал он на любые ее попытки покалякать на эту тему. А заметила она лишь то, что луч мгновенно погас, колодец резко потемнел, огненный фонарь резко дернулся и… исчез.
– Шмыг – и нету! – докладывалась она Марфе и еще доброму десятку своих подруг со всей Астрадамовки. – Была дирижабля, и – фьюить! – не стало!
Борька, Марфин прохиндей, наоборот – рассказывал обо всем увиденном охотно и с удовольствием.
– Это, мать твою, эксперименты над нами наше же правительство ставит! Ты вот, теть Кать, Рен-ТиВи смотришь? А-а! А там эту херню круглые сутки кажут – и НэЛэО тебе, и привидения всякие. Всё наука уже знает, не то что мы – темный лес.
Бабка Катя только раздраженно отмахивалась от него: она и раньше Борьку не больно высоко ставила, а после того, как он при ней смылся от дирижабли – совсем расхотела слушать. Ладно Федька – тот хоть кулугур, но остался с ней до конца. А этот – не-е, молодежь не та пошла, бесхребетная молодежь нонешня. Бес-хре-бет-ная.
***
Арсеньева сидела у окна на махонькой кухне (по-деревенски – в чулане) и смотрела, как крупные дождевые капли колотят в двухслойное стекло. В межстеколье валялись две-три еще по осени сдохших мухи, высохших, жалких и неприбранных.
Дела все давно переделаны («А чё тут особо делать-то? До огородной стрекотни еще время не дошло, скотины нету, сготовлено и прибрано, какого лешего еще надо-те?»). Старик ее уснул на диване в зале за просмотром «Поля чудес». Сама баба Катя давно уж бросила смотреть передачу с усатым Якубовичем («Одно и то же, Марька, ей-богу: одевается-передевается да охурцы с грибами себе в музей собират. И что это у него там за музей, блин, капитал-шоу? Безразмерный!»).

Капли быстрыми ручейками стекали по узеньким оконным просветам, туманили действительность, и Арсеньева вспоминала, как когда-то много-много лет назад, году в сорок шестом, она вот так же сидела в чулане у окна родительской избы.
Отец с фронта не вернулся, а мамка работала дояркой и бегала на фирму по три раза за день: рано-рано утром, в полдень и в сутисках. Катька ждала ее в тот день с вечерней дойки одна-одинешенька. Иногда, правда, к ней приходила подружка Машка с соседней улицы, но чаще она сидела вот так, как сейчас – в темной избе, боясь пошевелиться, потому что сумерки не любили суеты и лишних движений. Кате казалось, что ее движения повторяет кто-то там – тот, кто зыркает на нее из самых темных углов. Да к тому же мамка говорила, что нужно беречь керосин и дрова: живут они вдвоем, как-нибудь перекантуются.
Девочка часто думала о том, что как же хорошо тем семьям, в которых много сестер и братьев. В Княжухе, где она жила до замужества, у некоторых было и по семь, и по восемь детей. Но у мамы она одна… «Зато мамка меня любит сильнее всех на свете! Сильнее даже, чем тятьку!» – этой мысли Катя испугалась, ведь папа умер. А мертвые всё слышат…
Отца она помнила очень плохо. Самое яркое воспоминание – когда однажды ночью, наверное, в сорок третьем году кто-то постучался в их дверь. Мать выглянула в окно и стала белее снега, завалившего весь двор. Она скинула крючок с двери, и в избу вошел худой, почерневший человек с заросшим лицом. Мама плакала у него на груди, а четырехлетняя Катя боялась страшного гостя.
Тогда почерневший человек снял с плеча сумку, достал оттуда что-то желтое и поманил ее к себе.
– Это сахар, дурочка! – хрипло засмеялся он, а потом сгреб ее в свои ручищи и поднял к потолку. Катька расплакалась, а потом сидела на печке, сосала сахар с соринками и подглядывала за взрослыми, беседующими вполголоса. Утром почерневший человек ушел, и ни она, ни мать больше никогда его не видели.
Когда за окном совсем стемнело, девочке очень захотелось пить. Она забыла засветло принести кружку из сенцев, где стояло ведро с водой. В темноте туда идти было очень страшно, а пить хотелось всё сильней. Катя собрала с запотевшего стекла несколько туманных капелек, облизала чуть влажный пальчик и вздохнула. Оконная влага только усилила жажду. Девочка осторожно повернула голову в сторону двери. Нужно всего-то встать, обойти старую, растрескавшуюся табуретку, открыть дверь в сенцы, а там направо – ведро с водой. Кружкой надо треснуть по тонкой пленке льда (вечером еще подмораживало), черпнуть воды и – назад. Ей уж семь, чего трусить-то?
Девочка набрала в грудь побольше воздуха, слезла со стула и быстро засеменила в сторону двери. Тут ее привыкшие к сумраку глаза уловили какое-то движение в кляксе темноты под старой табуреткой. Катя повернула голову и увидела, что там сидит бородатый человечек с глазами-бусинками. На нем краснела рубашечка или кушачок – не разберешь. Они посмотрели друг другу в глаза, а потом человечек сказал: «Уху-у! Уху-у!» – и до Катиного лица донесся теплый запах, похожий на лошадиный.
Дальше девочка плохо помнила, что именно произошло. Она очнулась уже в соседской избе – там жила баба Клава, одна из самых старых жительниц Княжухи. Ей было то ли 96, то ли все 98 – старуха уж сама сбилась со счету. Катя прибежала к ней по весенней грязи босиком, без верхней одежды и сумела каким-то чудом достучаться до глухой соседки.
Та ее приняла, обогрела и даже напоила травяным чаем, пытаясь успокоить дрожащую девочку. Мать нашла ее у соседки часа через два и больше не оставляла одну: сначала отправляла к подруге на соседнюю улицу, а потом начала брать с собой на дойку.
На всю жизнь Катя запомнила слова старой, как жизнь, бабы Клавы. Когда она наконец разобрала, о чем же толкует ей испуганная соседская девчонка, то сказала так: «Эка невидаль! Да это ж дед домовой, дурочка! Он в каждом дому есть да не всяк его увидит. Он вас о чем-то предупредить хочет. Коли: „Уху-у!“ – говорит, то добра не жди. Плохое случится».