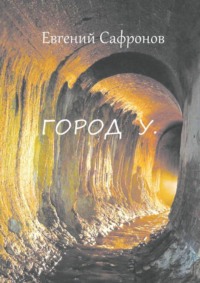Полная версия
Экспедиция. Бабушки офлайн. Роман

Экспедиция. Бабушки офлайн
Роман
Евгений Сафронов
Иллюстратор Максим Василисин
© Евгений Сафронов, 2018
© Максим Василисин, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4490-5937-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1. Накануне
Глава 1. Будов
– Спаси, Господи, от крика дневального, работы физической и занятий тактических, от овса и перловки да строевой подготовки. Ну там еще что-то про море Азовское. Я уж сейчас не помню. Ну и аминь, аминь, аминь, естественно, – Будов разлил еще по одной.
– Круто! Да это же заговор самый настоящий! – Стариков улыбнулся, ненадолго почувствовав облегчение: Петька вроде бы начал «проявляться». Возвращаться понемногу к образу того самого шутника и бородача, который полтора года назад загремел на срочку.
– Круто, брат, да не больно…
– А что же? – Лешка вспомнил их прежние масленичные переговоры. Будов обычно на Масленицу играл роль балаганного деда, а Стариков – его хитрого слуги. Петька должен был сейчас продолжить: «Да всё то же!» – «А как же?» – «Да все так же!».
Но вместо этого недавний дембель выпил, не чокнувшись, и изрек:
– Эх, на спирту любая гадость принесет солдату радость!
Лешка снова заулыбался.
– Ты, гляжу, вагон и маленькую тележку армейского фольклора приволок со службы… А шрам-то на подбородке откуда?
– Оттуда.
Будов вдруг помрачнел и предложил выйти покурить. Они сидели в «Советской» на четвертом этаже. Эту закусочную друзья облюбовали еще в давние времена – когда Стариков подрабатывал журналистом.
С Волги дул влажный неприятный ветер. Сквозь белесую взвесь в вечернем свете фонарей едва проступал памятник Ильичу. Стариков искоса посматривал на друга, раздавшегося в плечах, но как-то осунувшегося в лице: на худых небритых скулах пробивалась зеленоватая поросль, напоминавшая камуфляж.
– Я ведь Наташку бросил, – сказал после молчания Будов и выдул струйку дыма в сторону затерявшегося в тумане Ленина. Прозвучало это почти буднично. Лешка удивился.
– Ты чего, Петь? Она же ждала, все разговоры – только о тебе, дураке.
Будов поморщился:
– Давай не будем. Ну ждала! Ну молодец! И статус «Вконтакте» правильный подобрала – там стихами: «Ждать любимого легко. Ого-го-го да ого-го-го!». И прочая муть. Чё-то отдохнуть мне надо ото всего, Лешка. И от нее – в том числе.
Стариков нахлобучил капюшон куртки, пытаясь закрыть левое ухо от ветра:
– Да нет проблем – отдыхай. Работенку-то искать будешь?
– Не-а, – Будов покачал головой и расстегнул верхнюю пуговицу осеннего черного пальто. – Пока просто отдохну. Ты-то кем сейчас? Фрилансишь всё?
– Да нет, в педухе – старшим преподавателем.
– А-а. Ну-ну.

Автор иллюстраций – художник Максим Василисин
Они снова помолчали. Старикову почему-то захотелось поскорей уйти и не звонить Петьке несколько месяцев. Последний раз он так себя чувствовал, когда энергичным шагом обогнал болезненно вихляющегося и неуверенно переставляющего ноги парня-ДЦПшника. Лешка спешил на лекцию и обходил людской поток почти на автопилоте. Парень остался далеко позади, Стариков его почти и не заметил, но затем, подходя к крыльцу университета, неожиданно ощутил стыд за звуки каблуков своих туфель, которые так бодро прощелкали рядом с медленными серыми кроссовками инвалида.
– Слушай, Петьк, давай еще по одной, и я – домой. К лекциям надо готовиться. У меня еще два практикума у этих пятикурсников по «Культуре досуга». Не хочется – жуть. Но надо.
– Ага. Понял, – Будов пригладил едва проступающий «ежик» на своей голове и указал глазами на туман. – А в Ульске все по-прежнему. Туманы, трамваи, Волга и мост. Симбирский край и земля отцов, блин. Давай до филармонии прошлепаем на пять минут: мост глянем, и пойдешь ты к лекциям чертовым готовиться. Угу?
(Крылатый ангел. Статус на форуме: гуру) «Девочки, мой как вернулся – сначала вроде как нормально всё. А потом звонит и заявляет: „Давай отдохнем друг от друга. Хотя бы с месяц“. А я его два года ждала. Это вот нормально?»
(Boiji. Статус: новичок) «Ну всё: пиши пропало. У меня то же самое было. Ребенку уже месяцев семь стукнуло, а он, сволочь, через три дня, как пришел с армии, говорит мне: „Я охладел!“. Не верьте им и не ждите их!»
(Диффчёнка. Статус: продвинутый) «Да у них там зомбаж какой-то в этой армии. Дебилов из них делают. Мой тихоней раньше был, надышаться на меня не мог. Трех месяцев не прослужил – и шутки какие-то дебильные стали. И писать-звонить перестал. В общем, я ждать его не стала – и сейчас счастлива. Он вернулся – и беспробудно запил. Бог уберег».
(Кучерявый. Статус: новичок) «Вот из-за таких, как ты, мужики и спиваются. Когда девчонке 18, а парню дембель через год, не стоит парню сомневаться: она уже его не ждет».
(Стерvа. Статус: гуру) «Если он говорит: „Мне нужно отдохнуть!“ – значит ни фига не любит уже. Это я сама проходила. Ищи другого, а если можешь – забудь».
***
Будов грохнул велосипедом об стенку остановки и сел на оставшийся брусок лавки. Дело двигалось к весне, но погода этого еще не расчухала, не поняла. Снег валил серыми хлопьями, которые, приземляясь, желтели в свете потерявшегося за остановкой фонаря. На велосипеде Петька ездил теперь всё время: снег ему не мешал, да и без маршруток – сплошная экономия.
– И ездить мне некуда. На фиг, на фиг всех! – сказал он в сторону смутной фигуры, нарисованной на внутренней стенке остановочного павильона. Видимо, кто-то из местных графферов облюбовал эту территорию – в качестве креативного квартала. Черная фигура почти стерлась, и Петьке стало ясно, что графферы сюда не придут. Значит, пить придется опять в одиночку.
Будов достал из внутреннего кармана кожаной куртки небольшой флакон и внимательно посмотрел на изображение красного перца. Затем выудил оттуда же пластиковую бутылку 0,25 л, наполовину наполненную (или – наполовину пустую) водой, и перелил туда красноватую жидкость из флакона. Взбултыхал.
– Вот так, – сказал сам себе Будов. – Забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы…
При последнем слове он вздрогнул, вспомнив недавние похороны. Мать лежала всю ночь в гробу, выставив в потолок заостренный носик, как у синички. Он сидел, облокотившись на край стола, и смотрел на вытянутый огонек свечки, которая иногда потрескивала, будто пустое дерево на морозе. Затем вспомнил слова Старикова, когда они сидели в столовой педуниверситета на поминках.
– Ты, Будов, ведешь себя самым стереотипным образом. Отслужил – и потерял, блин, смысл бытия. Навидался всего, жизнь – боль, одним словом. Наташку бросил, работать не хочешь. Про мать твою я уж молчу…
– Я тебя сейчас ударю! – сказал Будов, у которого выпитый стакан водки лег на старые дрожжи.
– Подожди немного, вот только очки сниму, – спокойно ответил Стариков. И ушел. Петька его тогда возненавидел. Правильная сволочь, отмазавшаяся от армии через учебу в аспирантуре. «Стереотипным образом…».
– И сейчас ненавижу, – добавил Будов и, покосившись на полустертую черную фигуру, начал крупными глотками вливать в себя перцовую настойку.
Наташка звонила ему пару раз. И четыре смски прислала. Петька ответил только на первую. На похороны она пришла, но видел он ее лишь издали – в толпе библиотекарей и учителей. Мать у него полжизни работала в школе и еще лет десять – в библиотеке. Ему казалось, что все те, кто стоял вокруг могилы, разинувшей свою промерзшую черную пасть, смотрят на него с осуждением, и он чувствовал, что может сорваться. Прямо на кладбище. Кинуть в чью-нибудь учительскую рожу могильной землей, чтобы задохнулись все от удивления. И аминь-аминь-аминь, мое слово крепко да лепко. Библиотекари, блин. Тишина должна быть в библиотеке…
Он приложился к пластику и одним глотком вогнал розовую, дезодорированную муть в горло. Затем вытянул из кармана еще один двадцатирублевый пузырек. Серые хлопья продолжали парашютить вниз и желтеть, попадая в круг фонарного света.
***
– Посылочку, значит, отметил? Ага. Держи еще одну посылочку! – сержант быстро и точно всадил ему кулачищем в под дых. Петька согнулся пополам. Кофейный цвет плиточного пола казармы поплыл у него перед глазами.
– Ты, мать твою, дух, тебе до дембеля, как мне на карачках до Китая. А он посылочку от мамочки решил отметить с офицерами! Ты у меня «летать» будешь, понял? Знаешь, что такое «летать», тварюшка?
Сержант Сохеев вызывал у срочников только две эмоции: ненависть и веселье. Веселились, когда он произносил свои коронные фразы, к примеру: «Эй вы, трое! Ну-ка оба ко мне!». Или: «Молчать, когда я вас спрашиваю!». Но смеялись только тогда, когда он уходил. Потому что заметь он улыбку на лице рядового – тому только и останется, что молиться святой Демобилизации.
Будов лишь потом узнал, как сержант пронюхал об их небольшом празднике с Лехой-Михой, двумя офицерами-близнецами из соседнего корпуса. Глупость человеческая не знает границ, а социальные сети, где близнецы выставили фотку их пирушки, сделанную на мобильник, есть зло. И «Вконтакте» – зло, и ЖЖ – зло, а про фейсбук и твиттер Петька тогда еще не слыхал.
– В противогазе будешь все время, пока здесь работаешь. И бронежилет – чтоб надел и не снимал. Это первое. Второе позже скажу. Пшел выполнять, – вообще Сохеев был большой выдумщик на наказания. Поговаривали, что несколько дембельских поколений тому назад кто-то из срочников повесился в туалете из-за сохеевских выдумок. Но это были только слухи, а противогаз, который запрещено снимать целых семь часов подряд, – вот это реальность. Врагу не пожелаешь такого…
Как там Стариков сказал: «Жизнь – боль?».
– Сука он, этот Леша, – решил по-тяжелому опьяневший Будов. – И Наташка такая же. И мать… Нет, мать свою ты, Будов, не трогай. Для солдата – это святое. О мертвых ведь как – только хорошее можно…
Петька повернул чугунную голову в сторону творчества графферов, и человеческая фигура, чернеющая на остановочной стене, показалась ему до боли знакомой.
– Да это же Сохеев! Он, он. Ух ты, гнида! – заревел Петька и, сжав опустевший стеклянный флакон, с размаху швырнул в ненавистного сержанта. Из-за резкого движения рукой его пьяное тело не смогло удержаться на бруске лавки и скользнуло вниз. Затылок Будова неудачно встретился с железным основанием лавочки. Петька вздрогнул и, обмякнув, распластался на заиндевевшем бетоне.
Глава 2. Баба Поля
– Аннушка Златоуст, спаси и сохрани! Спаси и сохрани, святая заступница… – баба Поля привычно перекрестила дверь и оба окна спальни, выходящие «в улицу». После тщательно наложила еще три креста на угол, откуда прошлой зимой чудилось.
– Детишки какие-то зовут и зовут, Катерин… – рассказывала она своей подруге, живущей за две улицы на Новой линии.
– Эт какие-такие детишки, Полин? Что за чудеса? – тетя Катя лет десять проработала техничкой в местной школе и почиталась в Астрадамовке за грамотную. К бабе Поле, которая была намного старше ее, она относилась покровительственно, часто советовала и направляла.
– Подлинно чудеса, – быстро закивала седой головой ее сухонькая собеседница. – Вот, Кать, веришь, нет ли: лежу ночью, а уж часа два пропикало, ага, и вот с угла-те, где иконы, слышу – детские голосочки. Один кричит вроде: «Поля-а-а! Поля-аа». Я лежу – ни жива ни мертва. А он опять. И знаешь: голос-то вроде как Петьки, это сына мово старшого…
– Совсем сбрендила, старуха! – ворчливо, но по-доброму заключила благоразумная соседка. – С одинокой-то жизни и не такое представится. Ведь какой год не заявляются, сыновья-то твои? Оболтусы оба.
– Седьмой годик пошел уж, Катерин… – баба Поля наморщила маленький нос, будто от возобновившейся зубной боли.
– И не пишут-не звонят?
– Они, може, и желали бы, да уж адрес-то не помнят, наверно. А телефон-то у меня лишь третий год как поставили.
– Же-ла-али, – передразнила тетя Катя и, махнув рукой куда-то в сторону, повела приятельницу в свою избу пить чай. – Держи карман шире, как же. Если бы захотели – давно бы приехали. Оболтусы…
Помолившись своей любимой святой, баба Поля вытянула худые холодные ноги на кровати и задремала. Она спала неглубоко, так как привыкла за последние годы прислушиваться: а вдруг зазвонят или постучит кто? А может, Петечка с Самары приедет, а она и не услышит! Петя работает в Курумоче в аэропорту, должность большая, – она всё забывала, как называется. Ему некогда – вот он и не едет. Зря Катька оговаривает его и оболтусом зовет… Впрочем, за Петра она беспокоилась меньше, чем за младшего. Петечка всегда был большой, надежный – такой где хошь устроится и дорогу себе пробьет. А вот Федя – тот кто? Гармонист, одним словом. Она видела младшего сына в последний раз лет шесть назад – перед его отъездом в Новосибирск. До сих пор ей помнилась его синяя рубашка и серый, отцовский «спинжачок», в котором она его провожала.
– Как доберусь, мамк, напишу! Всё, мол, в порядке, доехал, устроился. Всё путем будет, не переживай, – уговаривал он плачущую мать, торопливо прощаясь.
Он и написал. Один раз. Письмо было короткое, на полстранички – ровно, как он и обещал: приехал, дескать, ищу работу, не переживай. Баба Поля это письмо хранила в полиэтиленовом пакете вместе с лекарствами. Таблетки она пила часто, часто и читала-плакала над письмом.

***
Большой дымчатый кот приходил к ней сначала редко, а потом повадился наваливаться на ноги и грудь еженощно.
– Вот дыхнуть не могу, ей-богу! Мочи нет. И ведь дымчатый, мохнатый – сроду никогда такого не бывало, Кать. Неужто домовой? – в очередной раз докладывалась она соседке.
– А ты возьми да и спроси его, черта лохматого: «К худу или к добру?» – может, ответит! – подзуживала ее тетя Катя, которая сама верила во всё это мало.
– Думаешь, спросить? – сомневалась баба Поля. – А вот и спрошу – може, не придет больше, а то ведь я и без того плохо сплю. А тут – придет, навалится, сам лохматый, большой и глазами так и зыркает! Какой уж тут сон-то…
Но спала она плохо не только из-за странного кота. Всё ей думалось и вспоминалось, всё что-то вставало перед глазами; выцветший, сероватый в свете неполной луны ковер, висевший на стене, расплывался и растекался странными пятнами. Она припоминала свекровь, бывшую хозяйку этой избы, своего мужа Колю и всю жизнь и до него, и после него…
Отец уехал, когда ей было восемь. Она пыталась вспомнить его лицо всю дорогу – смотрела в мутное стекло вагона на проносящиеся мимо редкие фонари станций и пыталась угадать, сильно ли он изменился. У нее в сумке между маминой черной юбкой и пакетом с куском хозяйственного мыла лежала его фотокарточка. Но там он молодой – там он такой, каким она его запомнила, когда он уезжал. Сейчас ей было почти шестнадцать, она ехала одна по длинной дороге, протянувшейся из Казахстана. Название «Астрадамовка» ей казалось таким же чудным, каким, наверное, представлялись для русского уха Балхаш или Чимкент.
С Ульяновска до села она добиралась на попутках. На повороте у Усть-Уреня ее подобрал неразговорчивый водитель грузовика. Он молчал всю дорогу и, высадив ее на остановке, лишь слегка качнул подбородком в ответ на девичье «спасибо».
Странница нашла отцовскую избу, где он жил вместе с новой женой и еще четырьмя детьми, уже в «сутисках» (сумерках). Ей помогла местная фельдшерица тетя Фаина – полная, разговорчивая женщина, в пять минут выведавшая у приезжей и кто она такая, и кому приходится родней, и даже – в какую цену хлеб в Казахстане и «правду ли говорят, что у вас там наркоманов полно?».
Полина отвечала односложно, а сама боялась: «Как он ее встретит? Примет ли? Что скажет, узнав, что мама умерла?»…
По улице проехал автомобиль, светом фар ненадолго остановивший расходящиеся круги на сером ковре. Баба Поля вздрогнула, вздохнула и, перекрестив зевнувший рот, снова начала забываться сном…
Ей открыла дверь женщина с овальным, вытянутым лицом и светло-синими, почти бесцветными глазами. Узнав, кто она и зачем, без лишних слов пустила Полину в коридор и, понизив голос, сказала: «Иди, там он – спит. Устал. Сегодня и в колхозе был, и в МТС мотался. Работает».
Поля в полутемноте прошла через большую комнату в боковую дверь и там увидела на тяжелой, с металлическими прутьями кровати спящего человека. Он лежал на спине, закинув правую руку, согнутую в локте, на лоб. Грудь его медленно поднималась, а концы черных усов смотрели в разные стороны.
И тут что-то оборвалось у нее в груди, она вспомнила его сильные руки и как они однажды ездили с ним в Алма-Ату, и как вместе с мамой ели мороженое. «Папка! Папка!» – он вздрогнул, приподнялся, пытаясь, понять, что происходит и кто его обнимает. Затем сразу все понял, сгреб ее в охапку и хрипло со сна начал смеяться…
***
Ноги совсем замерзли – шерстяное, изъеденное молью одеяло не спасало от холода. Надо было вставать и зажигать печку. Слава Богу, дров у нее этой зимой было вдосталь – муж Нины Степанны из Аркаева навозил. Степанна слегла по осени, муж кормил ее с ложечки, думал – умрет не сегодня-завтра. Как-то поздним вечером он притащился в Астрадамовку – и прямиком на порог к бабе Поле.
– Христом-Богом тебя прошу, Полина Павловна, пропадаю – уж ты помолись, уж я тебя не забуду! – говорил он.
– Аннушке помолюсь, помолюсь, Анна Златоуст в беде-те никого не оставит, – кивала баба Поля. И при нем же молилась в своем уголку с бумажными иконами. Через три дня звонок – пошла, мол, на поправку Нина Степанна. А потом он и дров ей на тракторе привез: вот пользуйся, дескать, Полина Павловна, – честно заработала.
К ней многие обращались по разным поводам – Анна Златоуст никого помощью не обделяла…
Печка разгоралась плохо, отсыревшие дрова дымили и заполняли избу сизым туманом – видимо, труба забилась. Старуха пособляла огню кочергой и снова вспоминала-вспоминала…
– Ей работать надо, у нас четверо своих по лавкам – ведь не потянем. Сдохнем с голоду, Паш. Времена-то какие щас – говорят, война скоро, – услышала Полина голос мачехи на третий день, как приехала. Девушка тихонько поставила ведро с водой в сенцах – так, чтобы не загреметь.
– Дура баба! Какая война! Ты смотри не скажи кому – посадят обоих. А Полинка – девка хорошая. Я ее на эМТэсС возьму, – пробасил в ответ голос отца.
– МэТээС-МэТээС, – передразнила его голос жена. – Заладил одно и то же. Ну и кем она там будет? Тракторы твои, что ли, водить-ремонтировать? Пускай лучше в доярки…
– Не тваво ума дело, – отрезал отец. – Моя дочь, не твоя. Как сказал – так и сделаю.
Полина внутренне возликовала. Она с отцом хоть навоз ногами месить пойдет. А ведь через полтора года слова мачехи про войну сбылись. Полинка тогда уже водила и ремонтировала колхозные тракторы не хуже мужиков.
Глава 3. 417-я
В аудитории пахло пылью, старыми прялками, выцветшими чернилами и еще чем-то таким, что у Старикова всегда ассоциировалось с Шаховым, его учителем. И с фольклором, конечно. Когда Лешка впервые попал в 417-ю, первое, что он заметил, – черно-белую фотографию мужика-горшечника. Его поразили руки сфотографированного – какие-то изрезанные и искромсанные, словно поверхность Марса.
– Это мастер из Сухого Карсуна. Мы туда в 1970-х годах ездили – великолепная была экспедиция, – говорил Шахов, подпирая бороду кулаком правой руки.
417-я была сакральным местом – пространством чаепитий, народных песен и игр, репетиций масленичных представлений и – рассказов, рассказов, рассказов. Сам Лешка именно через 417-ю попал в фольклористику. Точнее, даже не через 417-ю, а через заднюю часть лошади. Была такая масленичная сценка: барину пытались продать клячу, играть которую обычно соглашались студенты-первокурсники.
– Я как раз был тогда задницей, а ты – передницей лошади. Помнишь? – пытался развеселить друга Стариков.
– Врешь – не возьмешь, – бурчал из-под бинтов голос Будова. – Никогда я не играл клячу. Я всегда балаганным дедом да барином подвизался. Ты помнишь, какая у меня бородень-то была? Чуть ли не до пуза! И это на втором курсе!
– Тут Мишка Сланцев отыскался, представляешь! – перебил его Стариков. – Из Москвы нагрянул, и сразу – в 417-ю, конечно. А там сейчас ремонт – шаром покати. Знаешь, о чем спросил? Дождался, пока я лекцию закончу, и выскочил, как черт из табакерки. «Когда, мол, в этом году экспедиция? У меня сногсшибательная тема – сам Шахов закачается!»
– Шахов-то как? Всё с бородой? – спросил Петька и поднял руку, чтобы почесать обмороженную и прооперированную щеку, но наткнулся, понятно, на бинты.
– С бородой. Только уже поседевший. Но все так же бегает – со скоростью пять Шаховых в час. Помнишь? – Лешка расхохотался.
– Угу… Ты Наташку когда видел-слышал в последний раз?
– Ну, на похоронах, наверно, – Лешка посерьезнел. – А что? Мириться хочешь?
– Лешка!.. Не касайся этого, прошу. А то опять поссоримся!
– Да ладно-ладно. Слушай, у меня к тебе есть предложение на миллион. Отказаться просто не имеешь права, так как я с Шаховым уже договорился. Старик не против. Поехали с нами в экспедицию, а? Осталось всего ничего – два месяца с хвостиком.
Будов встал со скамейки, установленной в больничном коридоре, и махнул на него рукой.
– Бредишь ты, Леш. Я студентом-то был – никогда не ездил. Мне хватало 417-й: чаек, девчонки красивые да песни под гитару. Ну, правда, на Масленицу в село съездил пару раз. Какая, к черту, экспедиция?
– Брось, говорю! Тебе надо отвлечься, ты даже не представляешь, что это такое. Мы тебе тему даже придумали. Ну?!
– Не-а. Пойду я, Леш. Чё-то у меня голова кружится. Видать, здорово я к лавке приложился тогда, – Будов направился в палату.
– Стой, Будов, – Стариков разозлился. – Хрен, с тобой, не хочешь – не езди. Сиди в городе, как сыч. Но знай: если опять начнешь «перчик» пить, я из тебя душу вытрясу!
– Тоже мне мамочка нашлась! Блюститель порядка. Вали отсель. Созвонимся, если жив буду, – Петька зашагал по коридору, шаркая тапочками. Кстати, тапочки эти Лешка ему и привез – при втором посещении больницы.
Стариков раздраженно сплюнул себе на бахилы и повернул в противоположную сторону – к выходу.
***
– Ты снимай, когда кто-нибудь говорить будет или петь-плясать, а не всякую ерунду! И Шахчика побольше: смотри, какой он сегодня задумчивый – как позавчерашнее молоко, – Ташка Белорукова глядит прямо в видеокамеру Старикова. Крупные черты ее лица, увеличенные небольшим расстоянием до объектива, смешат Лешку, но он важно кивает, стараясь, чтобы камера не дернулась в его руках.

Ташка – вечный завхоз, по крайней мере, она всегда берет на себя покупку консервов (одну банку тушенки и банку кильки в масле на каждого – согласно сакральным указаниям Шахова). Она же верховодит на кухне во время экспедиции, давая указания, что, когда и как приготовить.
Стариковская камера плавно перемещается, показывая лица сидевших в 417-й. Гул веселых девичьих голосов заполняет собой всё: шкафы, зыбки, ступы, фотографии и каждую архивную папку с расшифровками фольклорных текстов. Басовитый рокот парней, сосредоточенный лишь в одном углу, теряется и пропадает на этом звуковом фоне. В объективе на пару секунд появляется седая борода Шахова, затем видеокамера застывает на напряженных фигурах первокурсников – очкариках Пашке Трошине и Ольге Водлаковой. Они в 417-й в первый раз и пока мало понимают смысл веселой суеты «старичков» и печальных глаз Шахова; запах старых прялок им ни о чем пока не говорит.
– Лешенька, вы нам что-нибудь сегодня сбацаете на прощание? – озорные и опасные глазки-бусинки Юльки Дожжиной сверкают на маленьком экране камеры. Стариков снова кивает, на этот раз уже без важности. Юлька – песенница и заводила, которая всегда напоминала ему цыганку из фильма «Жестокий романс». Момент, когда Паратов приезжает куда-то, и – «Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая…». Там в паре кадров мелькает Дожжина – Лешка готов был поклясться, что это именно она.
Стариков делает поворот всем телом и выхватывает Сланцева, настраивающего домру: у Мишки – премьера очередной прикольной пьесы про прошлогоднюю экспедицию. «Этого мы еще сегодня наснимаемся…» – уговаривает Лешка себя и свою неизменную записывающую технику. У него, как выражался еще до армии Будов, на «фиксации повседневности случился бзик»: Стариков записывал на видео и на диктофон разговоры с матерью, посиделки с друзьями, общение с продавцами на рынке и даже – агитацию старшей по дому за очередную управляющую компанию.