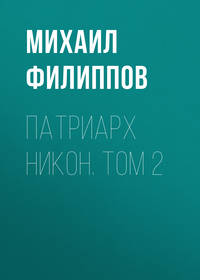полная версия
полная версияПатриарх Никон. Том 1
Достиг же значения Матвеев единственно уменьем жить и ладить; вот почему Посольский приказ был почти весь в его руках, хотя первенствующий голос имел во всех государственных делах Никон.
Матвеев принял радушно гостей, попотчевал их романеею и спросил, с чем приехал пан войсковой судья в Москву.
Тот рассказал о бедственном положении Малороссии и закончил, что гетман хочет отдать себя под высокую руку русского царя.
– Что значит, что гетману и всему войску запорожскому быть под царского величества высокою рукою?
Богданович объяснил, что он не получил по этому предмету подробных наставлений, но гетман просит только, чтобы царь полякам помощи на них не давал.
Матвеев возразил, что для этой цели нечего было ездить в Москву: православный царь и без того не будет сражаться против своих братьев по вере; в заключение же он присовокупил:
– Власть теперь в твердых руках: всеми государевыми делами ведает светлейший патриарх Никон, и если он скажет, чтобы принять под царскую высокую руку Малороссию, то тогда весь народ русский подымется, как один человек, и все пойдут на ляхов.
– Так что же нам делать? С чем ехать домой? – спросил судья.
– Едем сейчас к патриарху и услышишь, пан судья, его слово.
Втроем взгромоздились они на сани монастырские и тронулись к патриаршим палатам.
Никона они застали дома, и он тотчас их принял.
Выслушав благосклонно судью, патриарх сказал:
– Великий государь наш Алексей Михайлович не любит пустословить, как это прежде делала Боярская дума: у нас слово и дело все едино. Принять мы примем Малороссию, но пущай присягает весь народ в подданстве, тогда мы и пойдем войной против ляхов. Но чтобы идти на них войной, нужно показать соседям, что это неспроста, а что ляхи вызвали нас на войну. Пущай пан гетман пришлет послов к нам и бьет с народом и с войском челом о присяге, тогда и мы пошлем послов в Польшу и к соседям, что мы идем войной на ляхов.
После того, благословив Богдановича, патриарх продолжал:
– Мы готовимся день и ночь к войне: много казны и ратных людей собирается, но не сделаем мы ни шагу без присяги казаков и гетмана. Так передайте ему и великому войску запорожскому вместе с моим благословением и скажите им, что я молю Богородицу, да защитит она их, детей их, грады и веси Малой и Белой Руси от лихого супостата.
– Аминь, – произнесли присутствовавшие и удалились.
Судья Богданович на другой день выехал в обратную дорогу и передал гетману в Чигирине о той перемене, которая произошла в московской политике по милости Никона; из холодного и равнодушного бездействия Русь готовится к серьезной борьбе с Польшей.
Весть эта облетела всю Малую и Белую Русь, и гонцы за гонцом стали приезжать в Москву изо всех окраин, что Малая Русь как один человек вся желает поступить в подданство России, так как Никон человек разума, совета и дела.
Узнав об этом, поляки послали на Украину лучшего своего полководца Чарнецкого со значительным войском, а сами начали укрепляться и вооружаться.
Чарнецкий страшно опустошал Украину: всюду выжигал села и города, резал, топил и сжигал жителей, церкви и попов.
Двадцать второго февраля 1653 года собрана по этому поводу Никоном Боярская дума: он на ней говорил с обычным своим красноречием; бояре и царь хотя и соглашались на присоединение Малороссии, но, по обычаю, отложили окончательное решение до новых вестей.
Пришли новые вести, и Никон в понедельник, на третьей неделе поста, 14 марта, вновь собрал думу и говорил с таким вдохновением, что, по словам летописца, «совершася в тот день государская мысль в сем деле», то есть решено принять Малороссию под высокую руку государя.
Дали об этом знать в Малороссию, и в апреле приехали в Москву от гетмана послы Бырляй и Мужиловский, прося от имени Малороссии принять ее в подданство.
Выслушав послов и не давая им прямого ответа, царь отправил в Польшу 24 апреля послов: князей Бориса Александровича Репнина и Федора Федоровича Волконского с дьяком Алмазом. Послы огромным поездом и с сильной стражей двинулись в путь, и когда прибыли на польскую границу, то с такой медленностью двигались вперед, что попали в галицийский Львов, где находился тогда польский король Ян Казимир, только 20 июля.
По всему пути русские послы имели различные встречи: Белая Русь и Литва, где было много православных, встречали их радушно и с любопытством, но галичане приняли их прямо восторженно. От границы до Львова народ встречал посольство со святыми иконами, хлебом и солью, и их удивляло, что, начиная с одежды, языка и веры, русские имели с ними все общее.
Но всюду слышались жалобы на угнетение русского народа жидами и панами; всюду глядели на русского царя как на спасителя, и слава о Никоне дошла до крайних пределов Руси.
Когда же посольство прибыло во Львов, его разместили в так называемой посольской избе, и пока шли переговоры о церемониале их приема Яном Казимиром, проживавшим в католическом монастыре, послы осматривали церкви Львова и принимали депутации разных русинских братств.
Тут-то князь Репнин понял впервые, как важно было присоединение Малороссии к России: киевский митрополит был митрополитом и галицким, так что от этого титула и ныне митрополия киевская не отказывается, слияние же корон – польской и русской – показалось ему еще настоятельнее, так как огромное большинство Польского государства состояло из русских. Ян Казимир, спустя несколько дней после приезда послов, сделал им торжественный прием, и после того пошли переговоры о цели их приезда.
Князь Репнин и Волконский предъявили свои требования очень умеренно: они хлопотали, чтобы восстановлен был только зборовский договор Польши с Хмельницким, по которому Малороссия, оставаясь в ее подданстве, получила только внутреннюю свободу, то есть автономию и свободу вероисповедания.
Поляки решительно отказали в этом и требовали низложения Хмельницкого, равно совершенной его покорности Речи Посполитой.
Тогда послы предложили свое посредничество между панами и Хмельницким, но радные паны и в этом им отказали, причем потребовали голову Никона за то, что он позволяет себе ставить попов в местностях, уступленных Польше Русью в предшествовавшее царствование.
Между тем как шли так неуспешно мирные переговоры наши с панами, Богдан Хмельницкий дал знать в июле в Москву, что если царь будет медлить, то он отдается в подданство султану.
Никон отвечал именем царя: «Мы изволили принять вас под нашу высокую руку, да не будете врагом креста Христова в притчу и в поношение, а ратные наши люди собираются».
После того были вновь получены гонцы от гетмана, и Никон послал в Малороссию дьяка Фомина с дарами от царя и с царским словом, что он принимает гетмана и запорожское войско под свою защиту.
В сентябре же отправлены к гетману послами Стрешнев и Бредихин, но в это же время князь Репнин возвратился из Польши, и когда царь и дума узнали, что паны упорствуют не только в удовлетворении требования Москвы, но требуют даже головы Никона, то негодование всех было так сильно, что послано вслед Стрешневу и Бредихину, чтобы они объявили гетману, что царь принимает подданство Малороссии.
Но боясь начать войну с Польшей без общего согласия народа, Никон 1 октября собрал в Москве собор, на котором подробно доложено было все дело о Малороссии и вместе с тем о том, что Хмельницкий прислал посланца Капусту, что король Польши идет на Украину войной и казаки, «не хотя монастырей, церквей Божиих и христиан в мучительство выдать, бьют челом, чтобы государь прислал в Киев и в другие города своих воевод, а с ними ратных людей хоть 3 тысячи человек».
Собор решил: принять Малороссию под высокую руку русского царя и объявить Польше войну.
В это время Богдан Хмельницкий после смерти сына его Тимофея, тяжело раненного в Сочаве, собрал огромное войско и вместе с татарским ханом двинулся на польского короля, который стоял на берегах Днепра у Жванца, в пятнадцати верстах от Каменца.
Ян Казимир был окружен неприятелем и погиб бы, но крымские татары изменили Хмельницкому, и он отступил в Чигирин.
Поляки, за эту услугу татар, разрешили им в продолжение сорока дней грабить, разорять и уводить в плен русских жителей польских областей.
Это окончательно убедило Хмельницкого в необходимости докончить дело с Москвою.
В Чигирине Богдан застал царских послов Стрешнева и Бредихина, но вскоре после того гонец дал знать, что приехал от царя в Переяславль боярин Бутурлин для принятия присяги от Богдана и от Малороссии.
Гетман выехал туда.
Восьмого января, после Рады, войско запорожское и малороссийское приняло в соборе присягу.
В марте же месяце царь утвердил для Малороссии полное внутреннее самостоятельное управление.
XXXIV
Собор
Когда собор одобрил войну с Польшей, Никон принял энергичные меры, чтобы не посрамить земли русской и быть готовым к сильной и продолжительной войне, – поэтому нужно было немного оттянуть войну, чтобы собраться с силами, и для этой цели он вновь послал князя Репнина в Польшу для последнего слова.
Но в этом случае Никон имел еще другие виды: он знал, что без исправления книг ему не подчинится киевская митрополия. Вот почему в то время, когда Малороссия присягала русскому царю, Никон в начале 1665 года собрал собор.
Накануне этого собора патриарх был в сильной тревоге и сомнении. Предложенное им исправление книг было важным шагом для тогдашнего времени, а общество и духовенство были еще так невежественны, что сомнительно было, чтобы они могли усвоить их без потрясения церкви, без раскола.
Это Никон отлично понимал, но без этого нельзя было соединить весь русский народ, что сделалось заветною его мыслью, в особенности после возвращения первого посольства князя Репнина и уверений его, что уния насильственно привита и в Белоруссии, и в Литве, и в Галиции.
Но Никон не был такой человек, чтобы остановиться пред какими бы то ни было препятствиями, и если он добился от собора – начать ожесточенную войну с сильною еще тогда Польшею, то борьба со староверами показалась ему, в сравнении с этим, ничтожною. Нужно было поэтому заручиться только большинством на соборе.
В этих мыслях он вызвал Епифания Славенецкого, и тот явился к нему накануне собора.
Когда Славенецкий вошел к нему, он застал патриарха, расхаживающего в волнении по рабочей своей горнице.
– Я насилу дождался тебя, – сказал он навстречу Епифанию.
– Я объездил, – отвечал тот, – всех митрополитов, архиереев и епископов; все согласны на исправление того, что собор найдет нужным, только один епископ Павел кричит: «По старине хочу жить!..»
– А отец Степан, царский духовник?
– Он на все согласен, только не трогайте его сугубого аллилуйя и двухперстного знамения.
– А протопопы и попы что говорят?
– Молодые все стоят за исправление книг, а старики ничего и слышать не хотят…
– Очень жаль, а они ведь в церкви все: вся пастырская власть у них в руках. Между тем Куракин из Киева доносит, что он хотел близ Софиевского собора основать крепость, так митрополит Киевский запретил ему и велел сказать, что гетман с войском запорожским поддался государю московскому, но он, митрополит, со всем собором о том бить челом государю не посылал. Значит, он и меня не захочет знать, и предлог есть: патриарх молится и крестится не по-нашему. Но как уломать наших-то попов?..
Никон быстрыми шагами начал ходить по комнате.
– Вдвоем, светлейший патриарх, с Божьей помощью мы поборем врагов, и истина восторжествует. Мы же должны исповедовать греко-восточное православное учение как оно есть, а не так, как исказили его переписчики и горланники-устав-щики.
– Однако ж, – прервал его Никон, – некоторые говорят, что если ломать что-нибудь, то ломать все, а не часть, то есть нужно поступать подобно Лютеру: ведь и монашества не признает наша древняя церковь…
– Это, – возразил Епифаний, – можно бы было сделать, если бы весь русский народ был уже соединен; а теперь, для того чтобы соединить, нам нужно приблизиться только к учению православных церквей – малорусской и белорусской, которые сохранили в чистоте учение восточной церкви.
– Но если это у нас самих произведет распадение церкви? – заметил Никон.
– Едва ли это совершится, коли мы, нововводители, будем действовать братолюбиво; коли же отпадут сотни или тысячи, так все же вместо них мы приобретем во всероссийском патриаршестве миллионы нашей братии из Малой и Белой Руси, из Литвы и Галичины.
– Коль так, то да благословит тебя Господь Бог на путь грядущий.
С этими словами Никон отпустил Епифания, а сам стал на колени перед иконой Спасителя и горячо молился, чтобы Господь смягчил сердце его врагов, так как исправление книг нужно для блага целого русского народа, разрозненного и стонущего под игом ляхов, иезуитов и папы.
Когда так молился Никон, забывая в это время о собственной безопасности и готовясь самоотверженно вести борьбу с невежеством и предрассудками, в стрелецкой слободе, где мы уже видели в одном из его подворий синклит белого духовенства, и теперь собрался тот же собор, только с прибавкою новых двух лиц: чернеца Никиты и епископа Павла.
Первый был постник и благочестивый человек, но по невежеству фанатик Стоглава и полоумный аскет.
Собрание это было тайное, и потому все пришли с большими предосторожностями.
Попы были уже в соборе, когда вошел епископ с Никитою.
Попы поклонились в ноги епископу и усадили его на председательское место.
Начал говорить собору Аввакум; он подробно докладывал о новшествах в церкви: об иконоборстве, согласном служении и пении, о проповедях и, наконец, об исправлении книг и так далее. Все это, по его мнению, было еретичество, и больше ничего, и затея монахов унизить белое духовенство, чтобы изобличить его, что оно неправо служит и раскольничает.
Вопрос был поставлен им ребром: белое духовенство издревле владело правом совершения церковной службы и треб и правом быть духовными отцами; а тут являются вдруг монахи, дерзающие утверждать, что все их древле обычное учение, их иконы, которым они поклонялись, и книги, по которым они молились, все это заблуждение. Нужно отстоять поэтому каждую букву каждой книги, каждую черточку их старых икон, а все новшества объявить еретичеством, а нововводителя антихристом.
Подымается с места Никита: его атлетический вид, хотя он и юноша, его резкий голос, его глаза горят лихорадочно. Он говорит:
«И я, – глаголет апостол Иоанн, – также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слова книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей».
– Благодать Господа нашего со всеми вами, – произнес восторженно епископ Павел и присовокупил: – Как же мы можем прибавить или убавить хоть один аз издревле заветных нам книг? Не поразит ли нас Господь Бог язвами и не лишит ли Он нас участия в книге жизни и Царствия Небесного?..
– Пущай сам Никон изыдет в ад, – воскликнул Аввакум, – со своим еретиком Епифанием и чернецом Арсением.
– Ты прав, отец Аввакум, – подхватил Никита, – апостол Павел глаголет: «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благо глагола Божья и сим будущего века и отпавших обновлять опять покаянием когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются ему» (Посл. к Евр., гл. 6).
Этот довод привел всех присутствовавших в какое-то неистовство: они начали ругать и Никона, и Епифания, и Арсениягрека и нарекли Никона антихристом. Когда же они немного поуспокоились, Аввакум объявил, что извергнуть Никона из церкви еще рано; он-де надеется еще на соборе и его привести к истине; а потому он, Аввакум, просит всех присутствующих только поддержать его.
Синклит разошелся. Епископа Павла пошел провожать чернец Никита до Спасского монастыря, где последний поселился.
Придя в свою келью, Павел был в сильно возбужденном состоянии, он ходил взад и вперед, сердился, кому-то грозил или хохотал безумно.
Долго не мог он угомониться, наконец лег, и снится ему апокалипсическое видение: видит он одного ангела, стоящего на солнце, и тот воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы собирать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел он зверя и царей земных и воинства собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его… Убиты все мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.
Утром другого дня удар колокола Ивана Великого сзывал духовенство в Успенский собор на обедню, а оттуда они должны были идти на собор в Грановитую палату, где ожидали и царя.
Собрались в церковь не только все священство, но всяких чинов люди и Боярская дума.
Светские люди явились не столько из религиозности, как по любопытству: послушать, как, дескать, монахи уличать будут попов в невежестве и ереси.
Это была битва на жизнь и смерть и тех и других, и исход борьбы был интересен и для обеих сторон и для общества, тем более что битва давалась, с одной стороны, царским духовником отцом Степаном и протопопом Успенского собора, с другой – патриархом.
После обедни и краткого молебна за царя все отправились в Грановитую палату; царь с патриархом поехали туда в колымаге.
Никон открыл собор кратким словом; начал докладывать о необходимых исправлениях Епифаний Славенецкий.
Когда он кончил, протопоп Аввакум стал его уличать в неправде в самых резких выражениях. Сподвижники его тоже заспорили с ним, а сугубое аллилуйя они основывали на Апокалипсисе.
Спор был основан главным образом на предании и на том, что, по Апокалипсису, нельзя изменить ни единой буквы из священного Писания, на все же возражения Епифания о том, что речь идет именно о восстановлении правильного текста, раздавались голоса:
– Не хотим, не хотим, будем молиться по старым книгам, по старым иконам.
Стали баллотировать вопросы: держаться ли книг, отпечатанных царским духовником, или же греческих и старых наших книг.
Ответ был в пользу последнего, то есть вставки, сделанные царским духовником и Аввакумом с братиею, отвергнуты во имя старопечатных книг до Шуйского.
Когда это было решено, Никон и царь благодарили собор за его разумное решение; но противники их, рассеявшись по городу, распространяли слухи, что Никон, под видом исправления книг по старопечатным, хочет ввести латинство.
Нужно было унять смуту, и Никон, по соизволению царя, велел посадить в Спасо-Каменный монастырь и епископа Павла, и Неронова, и всех протопопов (за исключением царского духовника), участвовавших в переделке требника и мутивших теперь народ.
Но вскоре все были освобождены, и при этом Никон сделал уступку: он разрешил и отцу Степану и Неронову двуперстное знамение и сугубое аллилуйя; тогда-то враги Никона ополчились на него еще ожесточеннее.
– Если, – вопияли они, – это грех, то не следует дозволять; если же не грех и можно спастись и старыми порядками, то следует оставить нас при старой вере.
С епископом Павлом случилось иное, что вызвало впоследствии на Никона целую бурю.
Чтобы епископ не мутил народ после собора, Никон велел его содержать в Спасском монастыре, но на того нашло бешенство, и он стал кощунствовать над одеждой епископской.
Узнав об этом, Никон велел от него отнять церковное облачение и принадлежности епископского сана.
Коломенская его епархия была упразднена и все имущества, принадлежавшие к епископии, присоединены к будущему Новому Иерусалиму. Епископ же Павел отправлен в Хутынский монастырь Новгородской губернии.
В монастыре, по случаю его болезни, дали ему простое монашеское облачение.
Епископ окончательно с ума сошел и в один прекрасный день бежал из монастыря; след его с того времени простыл; вероятно, он или утонул где-нибудь, или съеден зверями в тогдашних непроходимых лесах России.
Сочинили по этому поводу, что Никон его заточил где-то и держит это в тайне.
Раскольники же распустили слухи, что Никон сжег его в срубе; если бы это была правда, то собор, низложивший Никона, вообще, возбудив вопрос о Павле, не преминул бы воспользоваться этим фактом.
Аввакума же взяли в Андреевский монастырь и по случаю лета поместили его даже для прохлады в палатке; но он сочинил, что будто бы его не кормили, а потому ему явился ангел и поднес ему щец. Аввакум из монастыря этого действовал пропагандой, а потому его выслали в Тобольск и здесь он, заняв священническую должность, свирепствовал против Никона до самого его удаления из Москвы.
Раскольники же распускали слухи о Никоне как об инквизиторе.
Он, однако же, не обращал внимания на эти толки и шел вперед: патриарх послал Арсения Суханова на Афон и в другие места для собирания рукописей, и тот привез пятьсот экземпляров, и греческие архиереи прислали двести.
Эти рукописи дали возможность Никону окончательно исправить церковные книги.
Но Никон недаром так хлопотал об этом: в июле прибыл от митрополита Киевского архимандрит Гизель и требовал, чтобы митрополия Киевская оставалась в подчинении константинопольского патриарха. Никон дал уклончивый ответ: нужно-де ждать окончания предпринятого царем похода в Польшу; рассчитывал он, что к тому времени будут уже исправлены церковные книги и что тогда подчинение митрополии киевской русскому патриарху сделается возможным.
XXXV
Поход в Польшу
Русь поднялась, встрепенулась, раскрыла крылья, отострила когти – и могучий орел собирается на добычу.
То кликнул клич святейший патриарх Никон от имени батюшки царя, ясного сокола, красного солнышка Алексея Михайловича, за веру православную и за братьев единоверных, и поднялась, и ополчилась вся Русь, и убралась она точно на пир великий.
Спешат ратники со степей донских, и с земель мордвы, и черемис, и из Казани; прибывают наемники из немецкой земли и оружие разное – и татарское, и турецкое, и немецкое.
Наполнилась Москва ратными людьми; обозы и пушки день-деньской прибывают со всех сторон, и шумит Первопрестольная, точно улей пчел.
Умолкли и все шумные толки о неправдах Никона – все воодушевлены одною лишь мыслию: нужно сражаться за Русь православную, нужно рассчитываться с ляхами и за все прошлые обиды, и за кровь, пролитую во время смут и в прежнее царствование, нужно взять обратно ключ в Россию – Смоленск, нужно забрать всю Белую Русь, Литву и галичан. Царь, сокол, расцвел – ему двадцать пять лет, и идет он сам в поход сражаться с врагами; а кормило царства в твердых руках мужа мудрого – Никона.
И воодушевляет это и старцев и юношей: препоясывают первые мечи свои, которыми они сражались и у Троицы, и под Москвою, а юнцы слушают от старых ратников о Скопине Шуйском, о Ляпунове, о Миниче и Пожарском, об этих сказочных богатырях, и глаза их пылают, а уста шепчут: раззудись, плечо, размахнись, рука.
Стрельцы же расхаживают по городу и поют песню о Скопине:
Ино что у нас в Москве учинилося:С полуночи у нас во колокол звонили…А расплачутся гости москвичи:А теперь наши головы загибли,Что не стало у нас воеводы,Васильевича князя Михаила…А съезжалися князья, бояре супротиво к ним,Мстиславский князь, Воротынский,И между собою они слово говорили;А говорили слово, усмехнулися,Высоко сокол поднялсяИ о сыру матеру землю ушибся…Движение, радость и веселье – что с юным царем Русь пойдет на исконных врагов православия и русской народности, сражаться за веру, честь свою и отечество.
Между этим народным движением и набором ратников в предшествовавшее царствование была огромная разница: прежде нужно было сзывать служилых людей насильно, под угрозой кнута и тюрьмы, а теперь все шли добровольно и охотно. Много к этому содействовало еще и то, что четыре года до смерти своей царь Михаил Федорович запретил к боярским и вообще дворянским дворам записывать бездомных и беспоместных боярских детей, а потому весь этот люд, желая выслужиться, явился добровольно на призыв; а между людьми служилыми тоже не оказалось так называемых в то время нетей, то есть скрывшихся от ратного дела помещиков и крестьян.
Все ратные люди вступили в Москву в сбруях, латах, бехтерцах, панцирях, шеломах и в шапках – мисюрках; те, у которых имелись пистолеты, должны были еще иметь и карабины; кто носил пики (саадаки), те имели или пищали, или карабины; некоторые, не имевшие оружия, являлись с рогатиной, да и с топором.
Всех их нужно было распределить по полкам, имевшим капитанов, майоров и полковников, или из иностранцев, или из боярских детей, обучавшихся немцами ратному делу.
Работал Никон, и с ним все бояре, день и ночь над устройством этого воинства, и в июне царь осмотрел на Девичьем поле ратников и, оставшись ими доволен, велел думному дьяку прочитать приказ, в котором между прочим говорилось: «Когда же благоволит Бог, по Его святому смотрению супротивные воевать, и вам бы с таким же тщанием, как и ныне видим вас, с радостным усердием готовым быть, да не мимо идет и нас Христово веление: более сия любви нест, да кто душу свою положит за други своя. Воинствующие за святую, соборную и апостольскую церковь и за православную веру против своего достояния и от нашего царского величества милость получат и Небесного Царствия сподобятся, как и первые победоносцы, за православие пострадавшие».