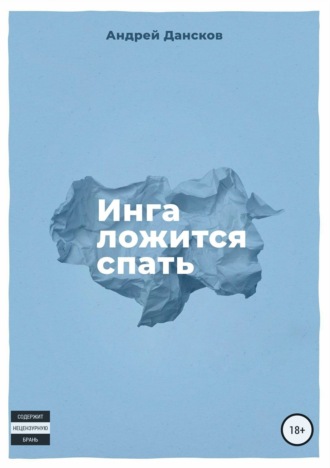 полная версия
полная версияИнга ложится спать
– Меч с огненной рукоятью, – добавила баба, – сам подскажет, куда бить. Тебе главное поближе подойти, чтобы он тебя хвостом по пояс в землю не вбил.
– Нельзя никого по пояс вбить по законам физики… – запротестовал Солодовников.
– Татарина наполовину можно… – вмешался кот. – Когда вобьет, учебники полистаем. Вот в прошлый раз, когда Сидор-пекарь на Непрядве…
Моню прервал протяжный тонкий крик совы, похожий на писк резиновой игрушки со свистулькой. На секунду над озером повисло тоненькое эхо, и тут же раздался второй писклявый вопль. Солодовников вскочил с камня и стал копаться в кармане в поисках ножа. Кот вспрыгнул бабе на руки и спрятал нос в складки рукава, откуда стал неразборчиво шептать что-то похожее на «господи, господи, господи». Вместе с гудком приближающейся электрички по земле прокатилась легкая дрожь, нараставшая вместе с сигналом несущегося электровоза.
– Это считается, что земля затряслась? Чисто технически это просто электри… – стал рассуждать Солодовников, но тут в метрах двадцати от берега вздыбился огромный водяной пузырь, озеро вспенилось и ударило вверх мутной струей, полной тины, водорослей и пластиковых пакетов.
Вместе с фонтаном ила и грязи из воды появилась дуга позвоночника с острыми выступающими костями, в бурунах у берега завозились толстые змеиные кольца, и на песок, поднявшись на задние лапы, вышло трёхметровое существо, похожее на длинную ящерицу. У него были короткие и крепкие задние ноги, напоминавшие кроличьи, длинный и толстый, утыканный роговыми шишками, хвост и пара полутораметровых рук, заканчивающихся почти человеческими ладонями с тонкими когтистыми пальцами. На узкой змеиной морде со свисающим мясистым носом, блестели крупные навыкате глаза, каждую секунду скрывающиеся за полупрозрачными белесыми веками.
– Бля-а-а-а-а-ять… – просипел Солодовников и невольно сделал несколько шагов назад.
– Господи-господи-господи!!! – в голос орал Моня из-под рукава бабы.
Солодовников вытащил нож с янтарной ручкой, расставил ноги пошире и, развернув туловище, выбросил вперед трясущуюся руку с ножом – так в фильмах гардемарины вставали перед боем. Тварь сделала два грузных шага, наклонилась и резко махнула хвостом. Солодовникова пронзила тупая боль в плече, и его ноги по щиколотку погрузились в плотный песок. Он попытался вытащить ступни, завалился на бок, выронил нож и задёргал коленями, стараясь отползти от наступающей твари. Змей уже зацепил острым когтем рукав куртки и наклонился над ним. Солодовников почувствовал сырую вонь из раскрывшейся пасти. Вдруг в налитый багровым свисающий нос змея с мокрым шлепком ударился белый кроссовок «Пума». Солодовников боковым зрением увидел, как баба стягивает с ноги второй и размахивается, чтобы снова бросить в змея. Правую руку Солодовникова что-то защекотало: кошачья морда тряслась рядом с пальцами, дотрагиваясь усами до ладони. Когда второй кроссовок шлёпнул по змеиной морде, Моня выпустил из пасти нож и, поджав хвост, стал отползать задом, оставляя на мокром песке неглубокую борозду.
Солодовников вцепился в янтарную ручку, от которой вдруг разошлось тёплое желтое сияние, зажмурился и наугад ударил куда-то вверх. Что-то громко булькнуло и в лицо Солодовникову брызнуло густое и липкое. Через секунду на грудь тяжело и холодно навалилось. Солодовников открыл глаза и увидел светящуюся рукоятку, торчащую из пульсирующей шеи.
Он выполз из-под шевелящейся еще туши и сел на песок, стирая с лица коричневую слизь. Трясущийся кот что-то нервно закапывал, перебирая лапами у искореженной переноски. Голая Баба стояла на песке босыми ногами, засунув руки в карманы спортивных штанов.
– Всё. Можете ехать. – сказала она и начала стягивать с себя спортивный костюм.
– Как это «всё»? Так просто – «можете ехать»? И всё? – Солодовников снял ботинки и вытряхивал из них песок.
– Да, так просто. А в сказках разве что-то сложно? – ответила голая баба и сбросила детской розовой стопой штанину, оставшись совсем без одежды. – Всё просто. Добро победило, можно ехать.
Баба развернулась и пошла в воду, уверенно рассекая полными колыхающимися ногами усилившуюся прибрежную волну. Солодовников и кот молча смотрели, как она заходит в озеро. Волосы уже расплылись вокруг неё серым пятном, ягодицы почти скрылись в темной воде. Баба обернулась, посмотрела на Солодовникова через плечо и, взмахнув руками, нырнула. Последнее, что увидел Солодовников, был большой блестящий хвост с крупной серебристой чешуёй.
– Стой! Слышишь! А вот это вот всё! – заорал Солодовников, тыкая рукой в сторону мёртвого змея. Обернувшись, он увидел на месте убитой твари только вмятину на песке. – Так! Куда она делась! Куда ОН делся! Моня, отвечай!
– Мя-а-а-а-у! – заорал Моня и стал тереться о ногу Солодовникова. – Мя-а-а-а-а-у!
Инга ложится спать
Инга проснулась от холода. Палатка хлопала набрякшими стенками по рюкзаку, лежавшему рядом. Ноги ломило от вчерашнего перехода. Инга расстегнула молнию и выглянула наружу. Разглядеть что-то было невозможно. Только липкий белый кисель тумана медленно ворочался вокруг. По голенищу зеленого резинового сапога медленно ползла черная точка муравья. Инга густо дышала в сложенные ладони, пробуя согреться. Хлеба осталось на сутки, может меньше. Когда рассветет, она встанет и пойдет по одинаковым сопкам: вверх, вниз, через болото, огибая лесок, и снова вверх, чтобы потом опять вниз. Но это когда отступит туман. А пока только лежать в палатке. Последние спички отсырели еще два дня назад, а воду она набирала в изредка попадающихся ручьях. Но это – когда отступит туман. Инга свернулась калачиком, спрятала подбородок в пахнущий сыростью воротник свитера, закрыла глаза и снова погрузилась в сон. Среди малиновых пятен в темноте возникло лицо Нины – вожатой из пионерского лагеря, в котором Инга была когда-то в детстве. Нина широко раскрыла розовый пухлый рот и закричала:
– Заря-я-я-я-ядка! – крикнула Нина, распахнув лёгкую фанерную дверь двенадцатой палаты. – Ма-а-а-льчики! Четырнадцатый отряд! Зарядка!
Нина постояла, посмотрела, как под одеялами зашевелилось, и пошла открывать соседнюю дверь. Нина не любила будить девочек, потому что с детства стриглась коротко и не могла выносить вида длинных растрепанных волос.
– За-а-арядка! Девочки! Четырнадцатый отряд! – быстро крикнула Нина и захлопнула дверь. Постояла, прислушиваясь: зашуршали тапками по полу, кто-то визгливо хохотнул. Наверное Инга Демьяненко – у неё в отряде самые длинные волосы, которые она закручивает в две крысиные косички. Откуда-то из Мурманска или еще из каких-то никому не нужных городов.
В коридоре заскрипело – это Олег, второй вожатый. Нина пошла ему навстречу:
– Проведи сегодня ты, я не могу уже третий день подряд, они меня затрахали уже, ей богу.
Олег кивнул и что-то плохо и неумело пошутил про “подсудное дело”. Нина уже не слушала его. Она шла по длинному коридору с двумя десятками дверей, откуда выныривали худые, угловатые, пугающе звериные тельца детей, чтобы побежать в умывальные комнаты перед зарядкой. Нина оттолкнула налетевшую на неё девочку пяти лет с длинными рыжими волосами и повернула на лестницу. Внизу были комнаты вожатых. В нининой прохладно – окно всю ночь было распахнуто. Нина закрыла окно, вернулась к двери и в пять скрипучих толчков задвинула ржавую щеколду. Она сняла малиново-зеленый галстук, закрепленный значком “anarchy”, сняла шорты, стащила рубашку, путаясь в рукавах, и легла на жесткую полуторную кровать. Свернувшись калачиком, она спрятала подбородок в пахнущее гниющими кипарисами одеяло, закрыла глаза и погрузилась в колыхающийся под веками утренний сон. Из лиловой взвеси, мелькавшей перед глазами, высунулась узловатая женская рука, в которой была зажата толстостенная мутная стопка с водкой. За рукой вынырнули остатки голоса матери:
– … зря что ли рожала?! Не твоё дело, сопля! Я всех вас еще переживу! – Елена орала на дочь, которая молча стояла перед ней, облокотившись на угол стола. – Иди отсюда! Я сама разберусь, что надо, а что не надо! Двенадцать лет, а уже “мама то, да мама сё”.
Елена схватила Нину за плечи, резко развернула, так, что руки плетьми хлестнули по бокам, и вытолкала дочку из кухни, громко хлопнув за ней дверью.
– Вот, блять, тебе и мяу! – сказала Елена трём котам на большом календаре за 95-й год, который закрывал разбитое дверное стекло. Она подняла стопку, отсалютовала календарю и выпила.
Елена села на табуретку, достала из кармана халата пачку “космоса” и чиркнула спичкой. Огонёк потихоньку забирал у спички жизнь, подползая все ближе к обкусанному ногтю. Елена дождалась, когда боль стала нестерпимой, прикурила и бросила спичку на пол. Выдохнув первую затяжку, она стала шумно сосать обожженный палец.
– Сука, еще учить меня будет. Мама то, да мама сё. Мама может вообще всё может, только тебя бы не было – всё бы по-другому было.
Елена отодвинула стопку и вылила в красную в белый горох кружку остатки водки.
– Да и хуй с вами… – Елена выдохнула слова и залпом выпила. Скомкав под халатом дрожь в теле, она поднялась. Кухню пошатнуло.
Геометрия помещения поползла куда-то влево. Елена вцепилась в стол и рукой выровняла пространство. Открыла котов, прохлопала тапками коридор, наклонилась вперед и расслабилась – дальше просто нужно удариться голенями в разложенный диван и завалиться на бок. Елена свернулась калачиком, спрятала подбородок, икнула и погрузилась в вертящийся, мигающий и воющий водоворот, из которого тут же появился расплывающийся носатый мужской профиль ректора академии Ильи Андреича. Профиль выпустил дым из ноздрей и бархатно сказал:
– А вам не кажется, Елена Васильевна, что ваша девочка крупновата для академии? И зачем, скажите на милость, растить такие длинные волосы? Вы что, в колесницу её запрягать собрались? – Илья Андреич улыбнулся сам себе, вздёрнул брови и окинул взглядом остальную комиссию: кто улыбнулся шутке?
Илья Андреич потушил сигарету, еще раз посмотрел на коренастую маму с длинными узловатыми руками и на худую длинноволосую девочку, которая стояла, уставившись на свои пуанты и мелко тряслась, как карликовые терьеры на морозе.
– Нина, девочка моя, скажи маме, что вам лучше попробоваться на актёрском. Только, молю, не надо трагедий. Балет – это тяжелый труд, и, возможно, я принимаю сейчас главное решение в вашей жизни, отказывая вам.
Илья Андреич поправил воротник рубашки. Он всегда поправлял воротник, когда ему казалось, что он сказал важные и правильные слова.
– Это на сегодня последние? – спросил он у секретаря, сидящего слева. – Если да, то я с вашего позволения вернусь в кабинет, у меня еще непочатый край дел.
Илья Андреич отодвинул стул, наклонился за портфелем, придерживая прядь бывших каштановых волос, и вышел, скрипя сверкающими туфлями. Он прошел длинный коридор, поднялся два пролёта по гулкой лестнице, уворачиваясь от сбегающих вниз и взлетающих вверх учениц. Он еще продолжал приветственно кивать, когда закрывал на ключ дверь своего кабинета. Илья Андреич сел на широкий кожаный диван, расстегнул пиджак, стащил через голову малиновую жилетку мелкой вязки, сбросил туфли и уселся, поджав под себя ноги. Потянувшись рукой вперед и едва не упав с дивана, он подцепил пальцем и притянул к себе тумбочку, на которой стояла печатная машинка и открытая бутылка виски. Илья Андреич налил немного в широкий тяжелый бокал, шумно, с треском вкатил в машинку новый лист, обжег язык первым глотком и, немного подержав пальцы над клавишами, быстро напечатал:
“Инга проснулась от холода”.
Надькин отпуск
Надька перечитала заявление, прицелилась ручкой в правый нижний край и размашисто подписала. Ей нравилось ставить подписи: три твердых уверенных чирка и один лёгкий, округлый, едва касаясь бумаги. Надька называла подпись “автограф” и всегда залезала во все соседние ячейки, когда в день зарплаты расписывалась в ведомости.
Она поставила на прилавок табличку “приём товара”, взяла лист за уголок, чтобы не запачкать, и понесла заявление в кабинет к Ирине – начальнице магазина. Вошла без стука:
– Ирин Пална, можно?
– Да, Надюша, что такое? – хозяйка магазина сидела за старой школьной партой в подсобном помещении, которое считалось кабинетом, и копалась в папке с документами.
– Да вот… – Надька подсунула листок ей под нос .
Хозяйка сняла очки, потёрла глаза пухлыми пальцами, в которые намертво вросли два золотых кольца, и уткнулась в бумажку.
– В отпуск собралась?
– Ну да… – застеснялась Надька.
– Отпускных не дам. Только в августе, не раньше. Квартал закрыли вчера.
– Ну Ирина Пална, я же заранее… За две недели… Ирина Пална, может как-то можно?
– Надь! Ну ты дура или как? Говорю же: квартал за-кры-ли. Только в следующем. Займи пока у кого-нибудь, в августе отдашь, как получишь. Никуда они не денутся.
– Ну Ирина Пална, ну где я займу…
– Не ты первая, не ты последняя. Так. Надь! Иди! У тебя там уже полмагазина вынесли, пока ты тут канючишь!
Хозяйка подписала надькино заявление двумя простенькими короткими закорючками, которые обычно бывают у тех, кто каждый день ставит сотни подписей, и положила лист в большую стопку рядом с собой.
******
– Ты, говорит, Сивохина, дура, иди вообще отсюда, мы тебе отпускные не нанялись платить! – Надька сделала глоток из банки и передала пиво Фроловой, с которой они сидели на лавочке.
– Чо, прям так и сказала? Вот сука! – Фролова поставила пиво на землю и стала прикуривать.
– Ну да. Говорит, займи иди, тебе не в первый раз…
– Вот тварь. Не зря мы ихней Натахе по харе дали с Ленкой. Ты куда собралась-то? Или тут просто?
– Я в Египет поеду, чо мне тут с вами делать. Всё включено.
– В Херипет! Где ты столько денег возьмёшь? – Фролова наконец-то зажгла сигарету и глубоко затянулась.
– Займу. Что мне, негде взять, что ли? Я ж не ты! – Надька разозлилась.
– Ну ладно, чо ты начинаешь… – Фролова поняла, что Надьке и без неё тошно. – А может у Сашки?
– Ты с дуба рухнула? Мы с ним вообще в говно разругались – он даже обручальные кольца забрал. И цепочку.
– Да ладно? Даже кольца? Он же у бати твоего занимал на кольца… – Фролова докурила, кинула окурок на землю и пыталась попасть в него крошечной набойкой сапога на шпильке.
– У бати? Вот куркуль, сука! И молчит! Вот чего он на поминки-то не пришёл! – Надька резко встала с лавочки, одёрнула юбку, схватила сумочку и Фролову, – Пошли! Заберем у него мой ол инклюзив, блять!
******
– Саня, открывай, что ты гасишься?! – кричала Фролова, прислонившись, к замочной скважине. – Мы знаем, что ты дома – мотоцикл под подъездом стоит и ключи в зажигании. Саня, открывай!
Защелкали замки, в проёме появился Саня: высокий, черный, короткостриженый. С щербинами на обеих щеках.
– Фролова, хватит орать. Надька – зайди. А ты подожди.
Надька вошла в квартиру, привычным движением скинула кроссовки и прошла в комнату. Саня вошёл следом и сел на прикрытый старым клетчатым пледом диван.
– Чего вам надо?
– Деньги мои отдай.
– Ты чо, дура что ли? Какие деньги?
– Кольца, на которые ты у отца семьдесят косарей занимал – мне Юлька все рассказала. Если не отдашь, я Гончарихе расскажу, кто у её зятя гараж обнёс.
– Ну чо ты сразу, Надюха… – Сашка привстал и попытался взять Надьку за плечо.
Она резко одёрнула руку и отшатнулась, стукнувшись ногой об ножку кресла. Она машинально наклонилась, чтобы погладить ушибленную голень. Короткая Надькина юбка задралась, приоткрыв кружевной ободок чулка.
Сашка снова сел на диван. Помолчал, наблюдая, как Надька разглаживает юбку.
– Хочешь кольца? Я отдам. Только ты мне сделаешь как тогда в сауне…
– Ты охренел что ли, Арсеньев? Я что, трахаться с тобой пришла?!
– В ломбарде на Кирова косарей за шестьдесят сразу заберут – я уже сдавал и выкупал…
Надька покраснела. Она почувствовала, как в районе подмышек разрастается мокрое и холодное.
– Давай только быстрее – там Юлька ждёт – щаз ломиться опять начнет. – Надька стянула юбку.
******
Когда у крыльца ломбарда, прямо под вывеской “МИДАС”, кричащую и упирающуюся Надьку заталкивали в полицейский газик, была уже половина девятого. Старушка на обочине мелко крестилась, не выпуская из руки полиэтиленовый пакет. От перпендикулярных жестов старушкиной руки пакет бутылочно позвякивал. Газик завелся со второго раза и с трудом тронулся. Старушка на всякий случай перекрестила уезжающую машину.
******
Дежурному лейтенанту было 26 лет. Он учился с Надькой в одной школе, только на два класса старше. У них даже была общая компания, и они один раз целовались на дискотеке.
– Сивохина, я не могу тебя отпустить, чо ты как дура-то? Приходишь с краденым средь бела дня, а я тебя “отпустить”.
– Да какое краденое, Игорь, эти кольца мне Сашка дарил. На батины деньги!
Надька сидела на стуле. Юбка порвалась, и она все время набрасывала ногу на ногу, чтобы хоть как-то прикрыться. Рукав куртки тоже был порван. “Хорошо, что по шву, – подумала Надька, – зашью, не видно будет”.
– Да вот такое краденое! Арсеньев этот твой – да, приносил, сдавал. А ограбили вчера: охранника вырубили и вынесли миллиона на три.
– Три?
– Ну где-то так. Надька, я знаю, что ты вообще ни при чем, но кольца-то ты принесла… И заявление уже приобщили.
– Ну и чо делать теперь? – Надька уставилась в пол, разглядывая завитушки на линолеуме.
– Да ничего уже не делать. Максимум – могу тебя под подписку о невыезде оформить. Но это нарушение будет так-то… Нафиг мне это надо… Только если ты… Ну то есть мы с тобой…
Надька посмотрела на лейтенанта и тихо встала со стула.
– Только давай быстрее, а то Юлька скоро ломиться начнет.
Клаполга
В огромном купе было столько уступов, крючков, перекладин и сеток, на которых можно было повиснуть, уцепиться, схватить и поковырять, что Валерка не знал с чего начать. Он тихонько поглядывал на чернеющие на фоне ослепительного окна фигуры матери и отца, между которыми тремя пароходными трубами торчали стаканы, обхваченные железным.
Валерка хотел начать проситься на вторую полку, но понял, что пока поезд не поедет, родители не будут стелить бельё, а значит на полку запрещено. А стелить белье в неподвижном поезде нельзя – это Валерка знал из опыта.
– Пап, а какая птица вот так кричит: ку-ку…
– Кукушка, конечно… – отец повернул голову к Валерке и превратился из черного профиля в обычное лицо со светящимися ушами.
– Да, кукушка… А вот так кто кричит: уи-и-и-и.... – валеркино "и" заполнило купе, ударилось об мать и тут же прекратилось.
– Не знаю… Может… Наташ, кто так кричит?
– Я так кричу, господи. Да не знаю я. Иволга… – раздраженно ответила мать.
Валерка несколько раз повертел в голове слово "иволга", ничего в нем не нашел и спросил:
– Иволга?
– Иволга, Иволга, Валер. Птица такая. Ну, она такая – как все птицы, только иволга.
– Понятно… А кто вот так вот кричит: клап-клап-клап! – Валерка подражал любимому звуку, с которым отщелкивались замки на отцовском дипломате.
– Клаполга – ответил отец.
– Клаполга? – удивился Валерка, – А разве такая бывает?
– Бывает, конечно. Обитает только у нас в городе, – Валерка заметил, что отец чиркнул глазами по материному лицу. – Только у нас и больше нигде. И живет себе клаполга, живет. Долго живет с одним самцом-клаполгой. У них рождается клаполжонок. А потом летом клаполги все вместе улетают на юг на поезде, и самочка клаполги находит там другого клаполгу.
Мать загрохотала стаканами, передвигая весь пароход поближе к окну, чтобы поставить на стол большие круглые локти, сцепить ладони птичкой и положить на них злое лицо.
– А зачем же другой клаполга, если уже есть один? – удивился Валерка.
– А вот это, сын, еще орнитологами не разгадано. Наверное, потому что клаполги-девочки не очень умные. – ответил отец.
– Зато клаполги-мальчики больно умные! При ребенке-то зачем! – мать вскочила и стала разматывать полосатую копну матраса.
Поезд тронулся. Валерка с ожиданием смотрел, как мать расправляет простыни: рывками, поднимая волны пахнущего крахмалом ветра. Он тут же решил, что как только залезет, будет все время смотреть в окно, чтобы самому увидеть клаполгу.
Трусы с балясинами
– Я тебя, сучку, если еще раз мать мою тронешь, как шпротину достану оттуда, поняла?! – Валерка Силихин глухо колотил в дверь, мясисто обитую синим дерматином, и орал на весь подъезд.
– Поняла, кто подол подняла, баран! – из-за двери вырвался визгливый голос, пробивавший даже дерматиновый панцирь. – Иди вон к своей Ленке, там тебя ждут небось в трусах с балясинами!
– Юлька, не выводи меня! Я, блять, сто раз уже все объяснил! – еще громче орал Валерка.
– В задницу себе крикни, дебил тряпошный! Или Ленке в жопу орани, может сиськи голосом надуешь, козел!
– Юль, давай спокойно, – Валерка выдохнул, понизил голос, и в этот момент вниз по лестнице прошмыгнула похожая на трость старушка-соседка. – Юль, давай снова: мы увидели, что хата ленкина горит. Саня в пожарку побежал, а я дверь ломать стал, может живой кто или вещи выносить.
– А чо-то ты-то не побежал в пожарку-то? Голых баб там не валяется, что ли?
– Юля-а-а-а… – Валерка прислонился спиной к двери и вытянул ноги на площадку. – Я сломал дверь, в хате пиздец дыму. Я на полу у двери её увидел: лежит – мордой в коврик, жопой вверх. Я вытащил её на лавку и искусственное дыхание стал оказывать. Я виноват, что ли, что она там в одних трусах батистовых шарахается по пожарам?
– Мне Лидка рассказала, кто там шарахется, и что ты там оказывал руками своими сраными. Вас, наверное, просто Файка с третьего раньше засекла, а вы и хату подпалили, чтобы алиби.
– Юль, ну ты дура что ли?! Скажи, что да, так я встану и сам в поссовет на развод пойду подам. Ты думаешь, я сестру твою за жопу хватал, пока из квартиры тащил? Ты совсем, что ли, дура? Дура, да?
– Манда! Я тебе подам на развод, сволочь! Я на тебя в суд подам за аморальный ущерб!
– За моральный, Юль… – Валерка улыбался. Он, да и весь подъезд давно знал, что если до суда дошло, то скоро откроет.
– За всё подам!
– За всё… Хлеб-то есть дома?
– Нету хлеба. И дома у тебя нету!
– Ну серьезно, Юль…
– Да завались хлебу! За неделю не сожрешь. Винограда лучше купи. Без косточек.
– Хорошо.
– И сыр. И не приходи со всем этим! И возьми вина полусладкого, у меня горе: муж-придурок и сестра-шлюха.
Спасибо
Когда Рыбникова уволили, он переехал в общежитие на окраине города. В комнате, где он поселился, стояла хрусткая полуторная кровать с плоским матрасом, бывший белый холодильник, и телевизор, всем корпусом умоляющий не включать. Рыбников сидел на табуретке и рассматривал глубокие царапины на коричневом крашеном полу. Наверное, предыдущего жильца вытаскивали за ноги, а он отчаянно цеплялся за свои бюджетные двенадцать квадратов. У Рыбникова пока не было никакого плана. Единственное, чего он хотел – это забрать два оклада в кассе НИИ и больше никогда не видеть коричневый каракуль химии на голове кассирши Антонины Григорьевны.
В дверь постучали. Рыбников встал, поправил рубашку и пошёл открывать. В коридоре, который на самом деле был общим холлом с дырявым диваном, телевизором и высоким полумёртвым растением, стояла женщина в халате.
– У Витьки день рождения в пятницу. Мы скидываемся всем блоком, хотим подарить магнитофон… – незаметно картавя, сказала женщина. – Я Саша. Деньги мне сдавать.
– Но… Я же только что въехал… – Рыбников смутился.
– Ну это невежливо, в конце концов. Ну и что, что въехал. Что, Витька не человек, что ли? – она сунула руки в карманы, взволновав нарисованные на халате бледные от стирок пионы.
– Нет, ну человек, конечно, я же не говорю, что… Я наоборот, вежливо же…
– Просто из вежливости сдавать не надо… – обиделась женщина-Саша, – если решишь скидываться, то шестьсот рублей в пятнадцатую комнату занеси.
– Хорошо, спасибо… – закончил Рыбников.
Саша развернулась и пошла в сторону кухни, раскачивая пионами. Шестьсот рублей Витьке на магнитофон. Пятнадцатая комната. Все понятно. Соседку слева зовут Саша. А справа живет какая-то семья – их рыжая коляска стоит у двери. Значит, Витька занимает одну из двух оставшихся комнат: направо в угол или налево в угол. Наверное, направо, потому что налево – ярко-синий махровый коврик, каких у людей по имени Витька просто быть не может. Рыбников вернулся к себе, накинул куртку и пошёл на остановку.
******
В троллейбусе было жарко. Большая оранжевая кондукторша развалилась на двух сидениях: до ближайшей остановки ехать минут десять, а кроме Рыбникова никто не вошёл. Рыбников с удовольствием подпрыгивал на пружинистом сидении у окна и смотрел на проезжающие по встречке машины. До НИИ было полчаса езды, и пока можно было подумать про то, как он будет жить в своей новой комнате, что нужно купить, а что есть в коробках, которые он увёз из однокомнатной квартиры на улице Беринга. Две кастрюли, ковшик, глубокая сковородка: переложены газетами, на самом дне, под тарелками. А вот заварника нет – Светка забрала, потому что “таким дебилам как ты, Лёша, чай нельзя пить, а то чаинками подавишься”. Рыбников ей сказал “Спасибо, Света, я новый куплю”. Надо купить.



