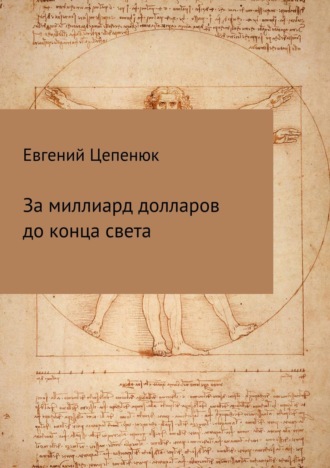 полная версия
полная версияЗа миллиард долларов до конца света
Но отставной вояка (или кто он там был) не имел намерения падать в обморок. Вскинув голову после девятого кивка, он навел взгляд прямо в глаза Степанову, и улыбнулся. И сделался на миг чрезвычайно похожим на Александра Венедиктовича Гаврилова. Только улыбка Гаврилова производила двойственное впечатление: от неё на душе становилось легко и спокойно, и в то же время где-то в затылочной области появлялось ощущение напряжения, неловкости, даже почти что стыда – непонятно за что; а хоть бы и за то, что минуту назад позволял себе беспокоиться. Стариковская же улыбка казалась одновременно благостной и задорной; мудрой и дурашливой; жизнерадостной и печальной; всепонимающей, всепрощающей – и невыносимо насмешливой. Все это непостижимым образом уложилось в одно короткое движение губ, в стремительную пробежку морщинок по уголкам глаз. Спустя мгновение старик отвел взгляд, нахмурил брови. Пробормотал задумчиво: «А может, это и хорошо, что ты выгрёбываешься. Может, в этом оно и есть…». А затем, резко выбросив руку, схватил Олега за нос и дёрнул. Несильно так, но чувствительно. После чего развернулся кругом и, не произнеся более ни слова, отбыл.
Коллеги остолбенело смотрели вслед, пока он, чеканя шаг, не скрылся за углом.
– М-да… – протянул, наконец, Олег. Порывшись в сумке, вытащил оранжевую пластиковую тубу, извлёк из нее влажную салфетку для очистки монитора и принялся тщательно протирать нос. – Похоже, у Государя Императора появился достойный наследник.
Государем Императором величал себя знаменитый (лет семь тому назад) городской сумасшедший. Совершенно безобидный, опрятный и весьма забавный, только с очень уж зычным голосищем. Он никогда ни кому не приставал, требуя почестей. Он вообще нечасто снисходил до общения с подданными – разве что иногда по выходным, сидя на скамеечке в парке, выдавал прогуливающимся гражданам предписания типа: «Немедленно бросить пить, жениться на блондинке», или «В связи с бесперспективностью сменить пол». Степанов удостоился такой формулировки: «Для Отечества бесполезен, жить дальше».
По будним дням августейшую особу чаще всего можно было встретить в салоне автобуса. Там Государь Император зачитывал (стоя, даже при наличии свободных мест) свежие указы, постановления и, конечно же, воззвания. Особенно сильно его волновали две проблемы: истощение генофонда и оскудение культурного наследия. К ним он обращался регулярно, всякий раз изобретая свежее, небанальное решение. Но и про упадок науки, и про загрязнение окружающей среды, и про вымирание села, и про все вообще что угодно ему тоже было что сказать. Не раз и не два, заслушавшись, Семен проезжал свою остановку…
А потом юркие, но мелковатые для монарха микроавтобусы постепенно вытеснили «Лиазы» и «Икарусы» с городских маршрутов на пригородные. И живая достопримечательность куда-то запропала. Возможно, Государь Император и сейчас посвящает дачников в свои грандиозные планы. А может, излечился и стал полноценным, то есть тихим и незаметным, членом общества. Или его до смерти избили какие-то подонки – ходил и такой слух. В любом случае, жалко… Жизнь без него стала скучнее.
Степанов уж совсем было собрался погрузиться в ностальгические воспоминания о совсем недавних, но уже безвозвратно ушедших временах, когда он был чуточку здоровее, капельку беззаботнее и намного увереннее в себе, но тут Олег шумно задышал, широко раздувая ноздри.
– Ты прикинь, насколько салфетки-то, оказывается, универсальные! – воскликнул он между вдохами. – Насморк, блин, сразу прошел! Чем их там пропитывают? Я дышу, я даже чувствую запахи!
И тут же скривился:
– Но лучше бы и дальше не чувствовал. Ну и загазовано же тут у нас всё!
Степанов решительно сгрёб со стола пятачок. На самом деле, ему совсем не хотелось даже прикасаться к монетке. А хотелось, вернувшись в кабинет, сначала взять чайник, сходить набрать воды, вскипятить, залить кипятком чайный пакетик, дождаться, пока заварится, взять кружку, подойти к столу и поставить кружку донышком прямо на монетку, а потом, как бы невзначай, отодвинуть к краю стола и забыть. Благо, кружек у Семена было две: первую он сам притащил когда-то из дома, а вторую ему подарили на двадцать третье февраля (как и всем работающим в организации мужчинам, кроме Олега, который отказался из принципа – потому что, видите ли, не служил и, следовательно, не считает этот праздник своим). Правда, дареная кружка Степанову не нравилась: слишком объёмистая. Если заваривать в ней два пакетика чая, напиток получался чересчур крепким. Если только один – слабым. В таких случаях, по уму, следует просто наливать воды на три четверти, но это у Семена почему-то никогда не получалось: посудина словно бы сама собой наполнялась доверху, порой даже с «горкой»…
Стоп! Какие, к черту, кружки-чашки, какие еще пятачки-денежки?! Совершенно не о том следует думать. Не о том и не так!.. Степанов машинально подкинул монетку. Ничего не загадывая – просто подкинул и замер, наблюдая, как металлический кругляшок, вращаясь, взмывает в воздух, зависает на долю секунды под самым потолком, устремляется обратно, отскакивает от полировки столешницы, перепрыгивает через край, ударяется об пол ребром, катится по полу и закатывается прямо под нагроможденную в углу огромную груду электронного хлама.
Опустившись на четвереньки, Семён заглянул в щель между допотопным монитором и матричным принтером (всему этому антиквариату давно бы уже пора на помойку, да жалко же выкидывать, потому как ведь все в рабочем состоянии!). Ничего, разумеется, не разглядел. Просунул руку – ничего не нащупал, только расцарапал до крови запястье о какой-то острый выступ.
И впервые по-настоящему вышел из себя. Озверел и взбесился! Вскочил с намерением разметать барахло к чертовой матери! Но в этот момент отбойные молотки за окном внезапно смолкли, и Степанов в ужасе обомлел, услышав в наступившей тишине свой собственный нецензурный рык. Заозирался в панике – уфф, да нет же, слава богу: в помещении он находился по-прежнему один, без свидетелей.
А потом сразу же прозвучал сигнал телефона: звонила Нада.
Нада сказала, что, собираясь на работу, нашла часы Семёна на тумбочке в прихожей. Вот и замечательно, но главным для Степанова было отнюдь не это. Главное – что Нада о нём беспокоилась, переживала за его состояние, и вообще… И пусть на протяжении разговора она трижды обозвала его придурком и один раз – идиотом, но закончила-то «любимым, хорошим»!
И вот тут-то его и осенило.
Да-да! Вот именно это и есть то, что важнее всего. Для него, любимого. И хорошего. Не для начальства, сколь угодно высокого. Не для сил, сколь угодно влиятельных. И не для человечества, с большей частью которого он, между прочим, даже не знаком лично. Для него самого. Вовсе не служебный долг, не деньги, не справедливость, не слава, не всеобщее благо, а всего лишь любовь одного-единственного человека – вот что, оказывается, интересует его в первую очередь. Все остальное – постольку-поскольку. А чтобы Нада продолжать его любить – она должна быть, как минимум, жива, здорова и, по возможности, счастлива…
Степанову было очень стыдно за свой эгоизм. Но зато он испытывал огромное облегчение от того, что наконец-то в нём себе признался. И, хотя он отнюдь не был уверен в том, что это и есть то самое прозрение, о котором говорил Гаврилов – но теперь он твердо знал, как ему следует поступить.
И гори всё синим пламенем!
Степанов искоса глянул в угол, где пряталась злосчастная монетка (наверняка она там стояла на ребре, облокотившись на облупленный бок системного блока, и злорадно подхихикивала). И набрал номер.
Тот самый.
– Управление!..
– Здравствуйте. Могу я услышать Николая Вениаминовича?
– Ба, Семён Валерьевич! Богатым будете, – с каждым словом тембр голоса, показавшегося поначалу незнакомым, неуловимо менялся, постепенно приобретая узнаваемые модуляции, – если, конечно, верны мои предположения относительно причины, побудившей вас совершить этот звонок.
– Верны, куда уж вернее.
– Вот и чудненько! Выходите, в таком случае, прямо сейчас на крыльцо. Или желаете благ земных в какой-либо нестандартной форме?
– Да нет, наличными вполне устроит. Только вот что… не сейчас.
– Простите, не понял?!
– Вечером. После работы. В парке, возле лодочной станции. Там и передадите. И, пожалуйста, без этих ваших ретивых коллег.
– Ну, положим, унять коллег мне, по такому случаю, не составит особого труда… а всё ж таки к чему, как говорится, тянуть-то?..
– Не хочу изменять привычкам. Я всегда всё откладываю на последний момент.
– Ну что ж: клиент, как говорится, всегда прав. Забавная пословица… я имею в виду, какому-нибудь патрону она показалась бы чрезвычайно забавной… Значит, вечером – так вечером. Только учтите, Семён Валерьевич, я в очередной раз беру на себя большую ответственность, и мне крайне неприятно было бы думать, будто вы что-то замышляете.
– Да ничего я не замышляю! – отрезал Степанов и оборвал звонок. И ведь не соврал ни на полслова: он и в самом деле ничего больше не замышлял. Надеялся, конечно, втайне на что-нибудь… да хоть бы и на чудо. Но это было всё, что он мог себе сейчас позволить: надеяться и тянуть время.
И время потянулось – столь мягко и плавно, так нежно и деликатно, словно бы вся родная планета, со всем своим населением – и разумным, и просто двуногим, и всем прочим животным, насекомым и растительным, вдруг задалась целью убедить Степанова в совершеннейшей своей лояльности. Дорожные рабочие переместились на другой объект. Назойливые мухи и шальные осы вдруг научились самостоятельно находить открытую форточку. Погода установилась прекрасная, но не настолько, чтобы было мучительно больно за штаны, просиживаемые в душном офисе. Очередь в столовой к приходу Степанова успела рассосаться; бухгалтерия продлила срок, отведённый на инвентаризацию оборудования, на две недели; встреченная в коридоре Анечка улыбнулась и спросила «как дела» таким тоном, будто ничего особенного между ними не произошло. Террористы сдались, батискаф подняли с живым экипажем, на выходных пообещали дать горячую воду. Кактус расцвел. И даже уборщица дождалась, пока Семён освободит кабинку в туалете, прежде чем приступить к исполнению служебных обязанностей.
Увы, но сам Степанов пребывал совершенно не в том состоянии, чтобы расслабленно наслаждаться всей этой благодатью.
В естественном освещении господин Осмодуй смотрелся не так уж и импозантно: на висках его обнаружились проседи, под глазами залегли иссиня-чёрные мешки, лоб прорезали морщины, и вообще он был какой-то потасканный и белёсый, словно застиранная гавайка. Тяжело поднявшись навстречу Степанову, Николай протянул руку для приветствия. Степанов руки не подал. Не переставая улыбаться, Николай протянул левую руку, в которой сжимал ручку небольшого чёрного чемоданчика. Степанов, демонстративно проигнорировав и этот жест, достал сигарету и не спеша закурил. Николай вопросительно вздёрнул бровь.
– Я предпочёл бы символическую сумму, – горделиво заявил Семён (всё-таки попонтоваться напоследок – это святое).
– Тридцать серебренников вас устроят? – в тон ему осведомился Осмодуй. И расхохотался (добродушно и даже, кажется искренне – и оттого ещё более неожиданно), увидев, как Степанов выпучил глаза и закашлялся, поперхнувшись дымом.
– Вы бы, Семён Валерьевич, поосторожнее с символами. А то ведь, знаете, всякая вещь, исполненная смысла, на поверку может оказаться двусмысленной. Не говоря уж о слове или жесте. Вот, примите.
Николай протянул Степанову монетку достоинством в пять рублей. Внимательно проследил, чтобы Семён не только взял её в руки, но и спрятал в карман. После чего, широко размахнувшись, зашвырнул чемоданчик в пруд. Пояснил:
– Всё уже списано – и саквояж, и его содержимое. Думаете, в нашей бухгалтерии иные порядки, нежели чем у вас? Ах, если бы!.. Впрочем, для вас с формальностями покончено.
Степанов уж собрался уйти, но Осмодуй, задумчиво пожевав губами, добавил:
– Да, и вот ещё что, молодой человек… В качестве премии, или, как сейчас принято выражаться, бонуса. От меня лично – бесплатный совет. Вы, надо полагать, слышали, что в этом мире ничто не даётся даром. Вообразите себе: это правда. За всё приходится рано или поздно расплачиваться: не презренным металлом, так своим драгоценным временем, молодостью, талантом. Самое дорогое достанется ценой здоровья, личной свободы, а то и самой жизни. Так вот, что бы вам не понадобилось, чего бы ни возжелала ваша душа… Послушайте эксперта: всё, что можно купить за деньги – покупайте за деньги.
Ничего не ответив, Степанов метким броском отправил сигарету в урну и зашагал прочь – точнее говоря, побрёл.
На третьем шаге растянувшееся до предела время наконец лопнуло, как гигантская резинка от трусов; в небесах (и когда они успели затянуться тучами?!) громыхнуло, и хлынул мощнейший ливень. Потоки мокрых, озлобленных отдыхающих устремились к узкой горловине ворот на выходе из парка, забурлили водоворотами на автобусных остановках.
Трижды более проворные пассажиры оттирали Степанова от дверей маршрутки, а, кое-как втиснувшись в четвёртую, он получил по ногам тяжеленной сумкой. Беспардонная владелица сумки («А куда ж я тебе её дену?!») весь остаток пути пронзительно перекрикивалась через его плечо с водителем насчёт некоей Танюшки и её безуспешных попыток отыскать подходящего хахаля.
Возле подъезда дорожные рабочие за день разворотили весь тротуар, да так и оставили. И теперь, как минимум до понедельника, дом превратился в подобие замка, укреплённого рвом.
Короче говоря, жизнь вернулась в своё обычное русло.
Нада лежала на диване, натянув одеяло по самые свои огромные, прекрасные глаза.
– Не включай свет, – попросила она жалобным голосом, – и не шуми, пожалуйста. Обними меня. По телевизору весь вечер всякие ужасы показывают. Ладно бы фильмы ужасов, а то – новости. А у меня и так самочувствие паршивее некуда, голова болит… А теперь вот и настроение испортилось.
– Это давление скачет из-за перемены погоды. Скоро пройдёт, – бормотал Степанов, скидывая тапочки.
– Заткнись, ладно? Я же тебя попросила не шуметь! А ты как будто не слышишь… И не надо меня успокаивать, это у тебя плохо получается. Просто обними.
Степанов крепко обнял Наду, прижал к себе и затих.
– Ну, – осведомилась Нада через некоторое время (теперь в её голосе сквозило раздражение), – и долго ты собираешься так лежать, как бревно?!
Семён неловко погладил жену по плечу.
– Идиот! Ну что это за телячьи нежности?! Я тебя что, совсем не привлекаю?
– Милая, единственная, ну что ты – ты самая привлекательная, самая красивая, самая…
– Не верю! Если бы это было правдой, ты бы сделал так, чтобы я поверила.
Степанов отнял руку и весь съёжился. Всё сказанное им было чистой правдой; по крайней мере, сам-то он в это верил. Но меньше всего на свете ему сейчас хотелось что-либо делать. Что угодно, только бы не делать ничего. А заниматься сексом без обоюдного желания казалось ему… неправильным, что ли. И унизительным, прежде всего для самой Нады. Хотя, конечно же, она была права: что значит «не хочу»? Если уж он действительно любит её, должен захотеть сделать так, чтобы ей было хорошо…
– Ладно, не напрягайся, – сказала Нада, снова другим голосом: на сей раз – усталым, но нежным и ласковым, и легонько взъерошила ему волосы. – Я тоже сегодня вымоталась. Ничего, завтра уже выходной.
– Завтра всё будет хорошо.
– Обязательно. И завтра, и послезавтра, и всегда-всегда…
Супруги лежали, убаюкивая друг друга в объятиях, пока, наконец, не задремали.
На проходной Степанова ждала записка с приглашением немедленно зайти к замначальнику службы безопасности.
– Ну, коллега, принимайте поздравления! – Александра Венедиктович Гаврилов так обрадовался появлению Степанова, так заторопился пожать ему руку, что, кажется, с трудом удержался, чтобы не перепрыгнуть прямо через стол. – А я-то, каюсь, поначалу сомневался. Как-никак, Надежда Константиновна к вам, по понятным причинам, небеспристрастна, а уж своему-то собственному мнению я и подавно доверять не привык… Но вы не подвели. И ещё как не подвели!
– Кто-кто, говорите, ко мне небеспристрастен?
– Хе-хе, Семён Валерьевич! Думаете, на свете так уж много существ, неравнодушных к вашей персоне?.. Да, их много. И даже гораздо больше, чем вы думаете. Но Надежда Константиновна среди них – единственная.
Гаврилов, лукаво подмигнув, отпустил, наконец, ладонь Степанова – чтобы мощным хлопком по плечу усадить его в кресло. Сам пристроился на подлокотнике соседнего кресла, чуть откинувшись назад, облокотившись локтем о спинку, ладонь другой руки уперев в колено: поза получилась одновременно расслабленной и динамичной.
– Ваше смятение понятно и, я бы сказал, вполне обоснованно. Я даже мог бы принести вам свои извинения, но лучше я просто всё объясню – и вы сами увидите, что волноваться более не о чем.
Степанов был скорее растерян и подавлен, чем взволнован. Слова доносились до него как сквозь толщу воды, и чтобы воспринимать их, требовалось прилагать усилие. Но если это усилие и в самом деле имело шанс оказаться последним, хотя бы на сегодня – значит, оно того стоило.
– Ну-с, Семён Валерьевич. Как вам уже известно, та же самая личность, что уже несколько лет является вашей верной супругой – также является и нашим сотрудником. Смею заметить, одно другому никоим образом не мешает – и, надеюсь, не помешает и в дальнейшем. Да, и я, право, не берусь предполагать, имеет ли для вас хоть какое-то значение нижеследующее обстоятельство, но, для полной ясности, сообщаю: в сферу служебных полномочий Надежды Константиновны не входит доступ к вашему личному делу, а равно к каким-либо иным материалам интимного свойства. Всё, что ей о вас известно – она узнала из, так сказать, открытых источников. А это хотя не так уж и мало… в определённом смысле, существенно больше того, что знаете о себе вы сами – но далеко не всё.
– Далее, – Гаврилов ненадолго задумался, по-видимому, подбирая слова; при этом он легонько поскрёбывал обивку кресла кончиками скрюченных пальцев. – Некий господин, чьё имя мне не хотелось бы упоминать без особой необходимости, счёл сложившиеся обстоятельства идеальными для осуществления своих планов. Тайно вступив в контакт с Надеждой Константиновной, он без особого труда завербовал её…
– Простите мне профессиональное дурновкусие, но детективный жаргон в данном случае представляется уместным, – Александр Венедиктович виновато развёл руками. Так широко, что покачнулся, потеряв равновесие (похоже, он нарочито старался казаться немного неуклюжим, чтобы без нужды не смущать собеседника своей значительностью). – Итак, этот господин полагал, что тайно завербовал её – на самом же деле, она действовала в соответствии с нашими указаниями. Да-да, Надежда Константиновна любезно согласилась исполнить роль двойного агента!.. Ну, а дальнейшие события развивались уже при вашем, Семён Валерьевич, непосредственном участии: наши… скажем так, конкуренты исчерпали практически все локальные ресурсы, полностью раскрыли свою агентурную сеть – одним словом, пошли на огромный риск, оказавшийся, в конечном счёте, неоправданным. Ибо (с вашего позволения, перехожу прямо к развязке) контейнер, который вы уже не далее как через пару десятков минут выдадите курьеру – не совсем тот, который они так жаждут заполучить. Соответственно, изобретение, которое один весьма одарённый человек совершит на рассвете – будет также, в своём роде, революционным, и даже имеющим смежную область практического применения – но значительно более своевременным, а потому эффект от его воплощения окажется, в итоге, принципиально иным.
– Скажите, – спросил Степанов (не поинтересовался, не осведомился, а просто и прямолинейно спросил), – а если бы я всё-таки проявил верность долгу и не принял их предложение, то вы ведь сейчас точно так же поздравляли бы меня с победой? Получается, на самом деле от меня ничего не зависело? А почему нельзя было и меня заранее поставить в известность?..
Александр Венедиктович окатил Степанова долгим, многозначительным взглядом, в котором среди прочего явственно читалось «мне бы ваши проблемы», но вслух сказал по-другому:
– А потому, Семён Валерьевич, что на самом деле всё зависело от вас. И ключевая роль, уготованная вам в этом деле – вовсе не роль, и сыграли вы её столь блестяще именно потому, что никого не играли. Видите ли, я не имею ни права, ни желания лгать. Верите вы или нет – мы и в самом деле не можем сделать ваш выбор за вас. Но зато, если верите – можем сделать его беспроигрышным…
Гаврилов вскочил на ноги и приставным шагом пододвинулся в направлении двери, недвусмысленно намекая, что время, отведённое на аудиенцию, подошло к концу. На прощание он ещё раз ободрительно улыбнулся и добавил:
– Впрочем, если мои объяснения представляется вам слишком уж иррациональными – можете для удобства считать, что дело лишь в отсутствии у вас таланта к лицедейству. Надеюсь, вы не в обиде? У вас немало иных, не менее ценных талантов!..
Степанов шёл знакомым коридором на своё привычное рабочее место. Поводов для беспокойства больше не было. Он и не беспокоился. Только очень хотелось проснуться…




