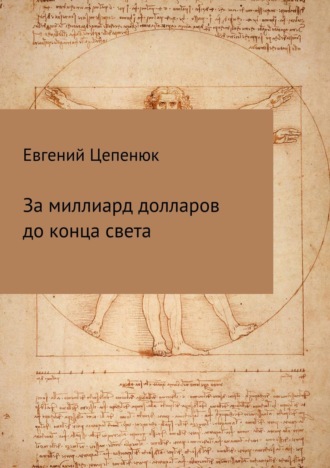 полная версия
полная версияЗа миллиард долларов до конца света
– Ты её, бедняжку, не несёшь – ты её порешь, жестоко и беспощадно. Чего это с тобой?! – удивилась Нада: обычно, сколько бы Серёга-поэт ни выпивал, до распускания нюней дело у него не доходило (байроническая сумрачность не в счёт). Иногда только заводил «как же оно всё зае…» – да и то, падал и засыпал прямо на полуслове.
– У меня мозговой запор, – объяснял Серёга, взволакиваясь по лестнице (ни у Семёна, ни у Нады не возникло и мысли послать его подальше), – причём осложнённый словесным поносом… То есть как же это я смею: о Столь Высоком – и в таких выражениях!.. Анду. У меня трудные роды. И не смейте смеяться! Да, роды. Да, как у бабы. Да, все творческие люди в этом смысле – бабы… Причём, что обидно, не просто бабы, а в основном бляди! Опять Анду. Ундо. Японская борьба, школа пьяного юзера… Блин. Вы же знаете: как некоторые отдельные, на которых я всегда буду показывать средним пальцем… разумеется, когда они будут смотреть в другую сторону… вот как они привыкли к роскошной жизни, так я привык к осмысленной жизни. Не смотрите на меня так: я не знаю, что такое смысл жизни, но я знаю, что сейчас его у меня нет!
Приземлившись на диванчик у Степановых на кухне, Серёга значительно снизил интенсивность причитаний. Собственно, пока Нада выгуливала собаку, а Семён нарезал закуску, он вообще только гулко вздыхал, уставившись в окно. А после первой рюмки словно бы даже слегка протрезвел – по крайней мере, выражаться стал гораздо яснее. Оказывается, до такого состояния его довел первый в жизни настоящий творческий кризис.
– Чую я, пришёл мой час «Ч», день «Д», месяц «М»… год – так вообще полное «Г»… в общем, острый вопрос под ребро: либо я прямо вот в ближайшие двое-трое суток осеняюсь чем-то до боли эпохальным, либо так и застреваю навеки в этом дурацком переходном периоде, ни туда – ни сюда. И остаюсь в памяти ваших потомков… вы же будете про меня потомкам рассказывать, когда их заведёте? Ибо воочию они меня вряд ли сами увидят, алкоголики столько не живут, а я обязательно сопьюсь… и останусь я для них только лишь автором каламбуров. Которые они всё равно не поймут, потому что русский язык умрёт вместе со мной.
Нада порекомендовала Серёге поискать добра от худа, то бишь отнестись к вынужденному простою как к подобию отпуска. И, соответственно, употребить его на что-нибудь полезное: сделать, к примеру, в квартире ремонт. И вообще заняться, наконец, обустройством личной жизни. Или, на худой конец, подумать о душе.
На что Серёга резонно возразил, что переводить отпуск на ремонт – удел семейных людей. И именно поэтому он, собственно, и не торопится обзаводиться семьёй. Ну, а думать о душе – это всё равно, что говорить о музыке или танцевать об архитектуре. Хотя, конечно, случаются и исключения. Вот, кстати, не далее, как сегодня он завёл весьма любопытное знакомство с заезжим мелкооптовым распространителем веры…
Тут же выяснилось, что речь идёт о том самом клиенте с переливными визитками, которые так заинтересовали надиного начальника, и до самой пятой рюмки Серёга с Надой обменивались впечатлениями. Степанов даже не пытался внимательно вслушиваться, тем более – вклиниваться, но понял, что Наде новое учение показалось красивым, но слишком уж заумным, Серёге же – интересным, но недостаточно комфортным с точки зрения массового потребителя.
– Я вот насчёт морали как-то не въехала. То он говорит, что видеть мир чёрно-белым, без оттенков – это юношеский максимализм, поскольку, дескать, ни добро, ни зло в чистом виде не существуют в природе, а существуют только в сознании людей. А потом вдруг заявляет, что любое человеческое деяние и любое вообще явление – в каждый момент либо доброе, либо злое, в зависимости от точки зрения. А точка зрения у человека только одна, потому и называется точкой… а если, значит, попытаться увидеть сразу всё – то не увидишь вообще ничего.
– А мне зато понравилось, как он предлагает замирить религию с наукой: через жабу! У которой глаза так устроены, что видят только движущиеся предметы. А значит, с точки зрения жабы – не бывает неподвижных мух. А они есть! Так же вот и с точки зрения человеческих учёных чудес не бывает, потому что их нельзя проверить экспериментом. Жаль, конечно, что академии с церквями такими рассуждениями не проймёшь – но тут уж ничего не поделаешь: где замешаны бабки, там и мессии лучше не вмешиваться.
После пятой Серёга пришёл в норму настолько, что принялся травить коллекционные байки из жизни местечкового бизнеса. Нада, напомнив Семёну, что кое-кому, в отличие от некоторых, завтра с утра на работу, выдала Серёге постельные принадлежности и отправилась на боковую. Степанов и сам от выпитого и пережитого вовсю уже клевал носом, но спать не хотел. Точнее, боялся. А потому, поминутно невероятным усилием воли разлепляя глаза, сидел и пытался слушать.
– Или вот ещё такой был случай. Сугойкин Гриша… ну, ты его не знаешь… в общем, неплохой музыкант. Так вот, вычитал он где-то, что бывают в природе такие миди-кабели, посредством которых можно синтезатор с компом соединять. Не спрашивай, зачем – но это, типа, круто. Ну, и отправился наивный юноша по магазинам. В музыкальных продавцы ему вежливо объясняли, что здесь компьютерными комплектующими не торгуют, в компьютерных, само собой – наоборот. Но это только присказка, настоящую сказку ему в «Нетинфо» рассказали. Заходит, значит, Гриша в торговый зал, и уже без особой надежды интересуется: у вас, мол, миди-кабели в продаже есть? А ему в ответ: были, но уже закончились. Гриша, естественно, делает вывод, что раз были – значит, вероятно, и ещё будут. И спрашивает, приободрившись: «Когда же следующий завоз?». А менеджер в ответ: «Не знаю даже, мы их привозим иногда по нескольку штук, и их буквально за пару дней раскупают». Гриша: «Так что ж вы их больше да чаще-то не возите?!». Менеджер: «Так ведь товар-то экзотический, спроса на него нет!». Не правда ли, забавно: пока высоколобые интеллектуалы обсуждают проблемы интеграции технологических фокусов, называемых ими «виртуальной реальностью», в реальность, воспринимаемую ими как единственно подлинную – тем временем простые люди умудряются безо всяких там электронно-вычислительных устройств создавать подлинно виртуальные миры. В которых популярные товары не пользуются спросом, Иегова изгоняет Адама и Еву из рая за попытку заняться сексом, а национальная принадлежность гарантирует право на ношение идеи. И эти маленькие демиурги не только сами проживают в этих своих мирках практически безвылазно, но и затаскивают туда подчинённых…
Степанов рывком поднял голову от скатерти. И точно: напротив него за столом вместо Серёги Струева расположился, уперев подбородок в переплетённые пальцы, Николай Вениаминович Осмодуй собственной персоной.
– Спите-спите, Семён Валерьевич, я ненадолго. Так, знаете ли, заглянул проведать… убедиться, что всё у вас в порядке. Ну и, разумеется, поинтересоваться, не готовы ли вы, наконец, принять положенное вам вознаграждение.
– А вы, часом, не готовы ли оставить меня, наконец, в покое?!
– Знаете, ваше упорство было бы достойно восхищения, если бы только вы нашли ему лучшее применение. Семён Валерьевич, вы же не только культурный человек, вы – интеллигент. В подлинном смысле слова. Когда вы читали и перечитывали повесть Стругацких «За миллиард лет до конца света» – ваши симпатии безоговорочно принадлежали тому из персонажей, который не устрашился борьбы за истину против воли самой вселенной. И вот, когда вам, наконец, представилась счастливая возможность самолично поспособствовать прогрессу – вы колеблетесь, словно какой-нибудь замшелый бюрократ…
Хотя в голосе Николая звенели отзвуки сильных эмоций, а брови так и прыгали вверх-вниз, руки оставались неподвижными.
– Хотя нет, бюрократ ведь опасается нарушить свою священную Инструкцию – от вас же и того не требуется. Чего вы ждёте? Ну не знамения же свыше?! Разве вам ещё в детстве не опротивели чужие решения «ради вашей же пользы»?..
Прежде, чем ответить, Степанов шумно и продолжительно вздохнул. Уж очень много ему пришлось сегодня выслушать – как несомненно правильного, так и сомнительного; и в свой собственный адрес, и вообще. Он очень устал. Вот честное слово – он предпочёл бы сейчас вымыть всю скопившуюся в раковине посуду, или заняться какой-нибудь тупой и монотонной работой, чем спорить или даже просто размышлять о серьёзном. Увы, но усталость Степанова была Осмодую только на руку – так что отложить разговор на утро, которое вечера мудренее, он вряд ли согласился бы.
– Знаете, Николай, а я ведь с тех пор повзрослел. И теперь мне кажется, что переть, как танк, по направлению к истине – не так уж, на самом деле, и трудно. Если знаешь, что последствия скажутся не раньше, чем через миллиард лет… тогда и пропереться не страшно. А я вот никак не могу перестать думать о последствиях. Вы мне скажете, наконец, что там в этом чёртовом ящике, или нет?!
– Вы бы ещё сказали «дьявольском», – брезгливо поморщился Осмодуй. – А почему, позвольте спросить, не «божественном»? Впрочем, это вполне закономерно: людям свойственно демонизировать всё, что вызывает перемены, и сакрализировать стабильность. Но отчего, скажите на милость? Ведь неизменная твёрдость – свойство, присущее мёртвой материи, тогда как изменчивость, гибкость – признаки жизни!
Степанов решил промолчать.
– Почему вы молчите? – Осмодуй повысил голос. – Вам нечего мне ответить?
– Ну почему же «нечего»…
– Если вам приходится подыскивать аргументы – значит, у вас их нет.
– Ну почему же «нет»? Просто неожиданная точка зрения…
– Зачем вы мямлите?! Зачем пытаетесь укрыться за нагромождениями логических конструкций? Мне не нужны ваши оправдания. Вам, Семён Валерьевич, самому не нужны оправдания. Так перестаньте же их искать!
Николай энергично выбросил перед собой кисть руки с растопыренными пальцами; затем неторопливо сложил ладони перед собой на столе (правую поверх левой).
– Я знаю, что вы любите со вкусом поспорить – не столько ради того, чтобы в чём-либо убедить собеседника, сколько ради самого процесса. Бывает даже, что, услышав интересный аргумент, вы принимаетесь увлечённо отстаивать точку зрения, прямо противоположную той, которой обычно придерживаетесь. Милая, более чем простительная слабость. Но сейчас я обращаюсь не к вашему рассудку, а к вашей совести. К вашим простым человеческим чувствам.
Осмодуй привстал, перегнулся через стол, доверительно наклонившись к Степанову.
– Уж не серчайте, что я вынужден выразиться столь прямолинейно, но вы, Семён Валерьевич, только о себе думаете. Вас настораживает вознаграждение, фигурирующее в нашем предложении? Полагаете, что благое деяние в принципе несовместимо с корыстью? Не буду сейчас объяснять, почему данное воззрение является ложным; замечу лишь, что вы вправе распорядиться вознаграждением по своему усмотрению. Вы имеете возможность пустить его на какое-нибудь безусловно благое дело – ну хоть, сажем, пожертвовать детскому дому. Однако же такая простая мысль вам даже в голову не приходит! Впрочем, это всё частности. Но скажите честно: неужели вам всё в этой жизни нравится? Всё устраивает, ничего не раздражает?! Вы ни к кому не испытываете сострадания? Неужели, по-вашему, в этом мире нечего менять? Я, конечно же, не имею в виду вашу личную жизнь. Она может быть сколь угодно прекрасна, даже счастлива – но не кажется ли вам, что, затворившись в своей маленькой уютной вселенной, вы уподобляетесь вышеупомянутым господам, запутавшимся в ими же сплетённых виртуальных тенётах?..
– Давайте об этом не сейчас! – взмолился-таки Степанов.
– А когда же, Семён Валерьевич?! – изумлённо воскликнул Осмодуй, опускаясь обратно на стул. – Да и какая разница, когда? Думаете, в другой раз вам будет легче говорить на эту тему? Сомневаюсь, и весьма. Вы чувствуете мою правоту, вы сами, в сущности, считаете точно так же, потому и сопротивляетесь. Не мне сопротивляетесь, не с моими словами боретесь, а сами с собой. Я могу умолкнуть, и я вскоре умолкну, вне зависимости от того, примете ли вы решение, или же продолжите удерживать себя в этом бессмысленном и болезненном состоянии – но от себя самого вам никуда не деться.
Состояние Степанова, и в самом деле, было мучительным. Хотя Осмодуй не загонял ему под ногти иголки, и не прижигал пятки, но происходящее всё сильнее напоминало изощрённую пытку. Семён обхватил голову руками, заткнув уши ладонями, и хотел прокричать, а получилось – простонал:
– Я не хочу вас слушать! Я не буду вам отвечать!
– Вас, Семён Валерьевич, никто и не заставляет, – усмехнулся Николай. Как и следовало ожидать, голос его слышался ничуть не менее отчётливо. – Не хотите слушать – что ж, извольте, не буду ничего больше говорить. Я вам лучше покажу кое-что.
Он извлёк откуда-то из-под стола и пододвинул к Степанову обычную пластиковую папку для документов.
– Это личное дело курьера. Того самого, который, спустя менее чем сутки, предъявит вам запрос на контейнер, содержимым которого вы так живо интересуетесь. Видите ли, по очевидным причинам мы не имеем возможности поручить данное задание штатному сотруднику – так что пришлось воспользоваться услугами волонтёра. Разумеется, это мог быть только преданный делу прогресса, каковое мы, в определённом смысле, представляем, носитель высоких моральных качеств… впрочем, вы не хуже моего знакомы с её многочисленными достоинствами. Да вы раскрывайте, ознакомляйтесь.
Степанов покорно раскрыл папку. В левом верхнем углу единственного бумажного листа была аккуратно подклеена фотография, цветная и радостная: волонтёр был запечатлён на фоне памятника Пушкину, с букетом тюльпанов в одной руке и недоеденным мороженным в другой. Семён сам сделал этот снимок в начале лета. Ниже значилось: Степанова Надежда Константиновна… дата и место рождения… образование… состоит в законном браке…
Семён прочитал и понял каждое слово. Но перечитал ещё раз, и ещё – потому что не понял самого главного: что из этого следует, и как ему теперь следует поступать.
– Вы уж не обессудьте, но остальные страницы я вынужден был изъять, – развёл руками Осмодуй. – Зафиксированная на них информация в основном такова, что вы либо уже и сами всё знаете, либо же вам этого знать и не следует. Надежда Константиновна – взрослый человек, и в таковом качестве имеет полное право иметь секреты даже и от собственного супруга. А мы, как я уже упоминал, крайне щепетильно относимся к вопросам приватности.
Николай, широко разведя локти, взялся руками за край стола, словно бы собираясь опрокинуть его на Степанова.
– Откровенно говоря, я только что совершил должностное преступление. Но для меня это вопрос принципиальный. Я твёрдо уверен, что вы имеете полное право знать то, что вас непосредственно затрагивает. И, поверьте, это нелегко – объяснять поросёнку, что его соломенный домик хотя и, несомненно, мил и комфортабелен, но совершенно не годится в качестве убежища.
– Да уж верю, – оторвавшись, наконец, от бумаги, в тон ему ответил Степанов. – И даже сочувствую. Трудная у вас, должно быть, работа…
Простые эти слова оказали на Осмодуя неожиданное действие: он дёрнулся всем телом и побледнел, как если бы Семён его ударил. Резко вскочил, выдернул у Степанова папку.
– Приберегите сочувствие для более подходящего случая, – прошипел он сквозь зубы. – Если вас интересует, что станется с курьером в случае, если вы всё-таки продолжите упорствовать – проконсультируйтесь у этого вашего… хранителя. У него наверняка найдётся парочка-тройка успокоительных предписаний. А я удаляюсь.
Свет пред глазами Степанова привычно померк, и он без всплеска погрузился в беспокойный, мутный поток обычных сновидений.
Степанов проснулся без будильника, минут за пятнадцать до выставленного времени, в прекрасном самочувствии. Полежал немного, глядя в потолок, пытаясь вспомнить что-то очень важное, случившееся накануне – но так и не вспомнил; в конце концов, плюнул, поднялся тихонько, стараясь не разбудить сладко посапывающую Наду, и направился к окну, возле которого на стуле лежала его одежда, сложенная аккуратной стопочкой. Стараясь ступать легко, Степанов с каждым шагом всё слабее касался ковра и, в конце концов, совсем потерял с ним сцепление, и пошёл прямо по воздуху. Лишь проделав большую часть пути, он начал соображать, что что-то не так; лишь натянув джинсы (возможность поднять одновременно обе ноги оказалась очень кстати) – догадался, что именно не так. Лишь задумавшись, понял: ещё один сон, только хитро замаскированный!
Первым порывом было, раз уж такое дело, выпрыгнуть в окно и насладиться полётом по полной программе. Но тут вдруг накатила и ударила, пригибая к полу, другая мысль: а ну как он спустя время проснётся, думая, что пробудился уже по-настоящему, но это будет на самом деле ещё один сон, ещё более коварный, который запрячет улики в самые укромные места и уже не позволит себя так легко раскусить, и вот так вот он проживёт день, два, а может, и всю жизнь во сне, и состарится… и, возможно, даже умрёт. А может, это уже случилось, и всё, что он считает своей настоящей жизнью – это и есть такой сон? Как проверить всамделишность всего, если он не помнит, как всё должно быть на самом деле?! Степанову стало так невыразимо горько и страшно, что он горько заплакал… и проснулся.
«Вот прибредится же такая хрень! Да ещё и такая банальная…» – только и сказал он себе, а щипаться не стал за ненадобностью: настолько паршивой могла быть только самая, что ни на есть настоящая и окончательная действительность.
Дело было не в головной боли – она, можно сказать, и не ощущалась вовсе. И даже не в аромате серёгиных носков (друг не позволил другу провести ночь мордой на столешнице, оттранспортировав Семёна на лежанку; сам же пристроился рядом, для экономии места – валетом). Дело было в совокупной дерьмовости положения дел.
«А неплохо было бы, наверное, взять да и сойти с ума, – подумалось Степанову, – тогда-то уж точно отстанут». Но как этого добиться специально, и к тому же за достаточно короткий срок, он не знал – по крайней мере, ни один из описанных в книжках способов не казался подходящим. И потом, сбежать от ответственности можно было и куда как более простым и коротким путём: например, напиться в мегазюзю и прогулять дежурство. Или напиться кофе и, опять же, прогулять…
Но что если на складе его просто заменят кем-нибудь другим, а Осмодуй с подельниками не успеют или не захотят отменить операцию? Что тогда будет с Надой?!
С другой стороны, Нада – взрослый, самостоятельный человек. Значит, должна сама отвечать за решения, принятые самостоятельно. С чего это он обязан на неё оглядываться – она ведь не сочла нужным посоветоваться с мужем. Хотя чего тут советоваться: он не вправе решать за неё, она – не вправе решать за него…
Нет-нет, нельзя так думать. Рассуждать подобным образом – малодушно и недостойно мужчины. Пусть даже и логично…
Хотя ведь удобней и логичнее всего – просто принять вознаграждение, выдать груз и всё равно остаться в белом. Если, конечно, верить Осмодую с Гавриловым.
– Вы мне, конечно, не поверите, если я ещё раз скажу, что в любом случае ничего такого особенного с вашей супругой не сделается? – послышалось со стороны открытого окна.
Степанов не особенно-то и удивился примостившейся на подоконнике говорящей вороне. Тем более – вороне, говорящей голосом Александра Венедиктовича.
– Не поверю, – прокряхтел он, усаживаясь. – Я же знаю, как это бывает: над вами своё начальство. Оно сейчас распорядилось так, а вечером вдруг передумает – а вы и не при чём. Уж извините.
– Да чего уж там… В обстоятельствах, не предусмотренных должностной инструкцией, я не вправе требовать от вас слишком многого. Тем более во внеслужебное время.
– Я ведь не то, чтобы лично вам не доверяю, а как должностному лицу… – Степанов, на столь быстрое и полное понимание никак не рассчитывавший, пришёл в некоторое замешательство. Но ему уже надоело постоянное чувство вины. – Вы, небось, пришли… то есть прилетели… прибыли, чтобы снова меня мотивировать? Знаете, я устал от разговоров. Мне нужна помощь. А вы, вместо того, чтобы защитить, всё норовите оставить меня наедине с проблемой. Между прочим, это в первую очередь ваша проблема.
– Ну разумеется, Семён Валерьевич. Скажу больше: в определённом смысле, вы и есть наша проблема. Памятуя вашу давешнюю реакцию, спешу напомнить, что «нет человека – нет и проблемы» – это, как вы остроумно выразились, не наш метод. И, поверьте, мы делаем всё, что в наших силах. Но бывают, знаете ли, такие напасти, от которых даже мы не способны защитить человека.
– Например?..
– Ну, например, от него самого… Да ладно вам, не морочьте себе голову! – хоть и без помощи лицевой мимики, одним лишь движением оперённых плеч, птица сумела придать этому «да ладно!» более чем достаточную выразительность. – В конце концов, что бы вы ни решили – то и окажется единственно верным.
– Опять не верю. Если всё так просто, тогда чего ради тогда вся эта нервотрёпка?! – возмутился Степанов.
– Вы уж не обессудьте за невольную грубость – но исключительно ради того, чтоб вы спрашивали.
– Кого?
– Вот и об этом тоже, причём не в последнюю очередь! – невпопад ответила птица. – Ладненько, прежде чем вы спросите, зачем я, в таком случае, так сказать, припёрся – позвольте откланяться.
С этими словами она и в самом деле проделала нечто вроде поклона, но затем, вместо того, чтобы сразу выпорхнуть в окно – принялась чистить перья. Задумчиво и тщательно. Спустя пару минут Семёну надоело ожидать то ли продолжения, то ли завершения визита, и он деликатно прокашлялся. Крылатая гостья отвлеклась от своего занятия лишь для того, чтобы бросить в его сторону один пристальный взгляд, и снова продолжила прихорашиваться. Тогда Степанов демонстративно потянулся и зевнул. И тут ворона, стремительно соскочив с подоконника на стол, подхватила клювом наручные часы Степанова (в блестящем хромированном корпусе, пластмассы он не признавал) – и была такова!
В то же мгновение из спальни донеслось нестерпимо противное пипиканье будильника, и с тем начался новый день.
Ни бог, ни наследственность, ни социальная среда – словом, никто из тех, на кого Семён мог бы возложить ответственность за свои недостатки, не одарил его актёрскими способностями. Как бы Степанов не старался вести себя так, будто ничего не случилось – получалось непохоже. Зато его заморенный вид, тяжелый взгляд и односложные реплики органично складывались в образ человека, слегка перебравшего накануне вечером, но полного решимости перебороть слабость и отправиться на работу, чтобы там выполнять свой долг. Так что Нада с Серёгой не только ничего не заподозрили, но и отнеслись с сочувствием.
Нада даже посоветовала Семёну выпросить ещё один отгул и никуда не ходить – но он отказался. Во-первых, из упрямства. А во-вторых, потому что прекрасно понимал: не обременённые щепетильность коллеги Осмодуя всё равно его достанут – где угодно, и лучше уж тогда где-нибудь подальше… хотя кой смысл отводить беду от дома, раз уж его жена увязла ещё глубже, чем он сам?.. Ну тогда, значит – из чистого упрямства.
А прогуляться пешком он решил просто так. Чтобы немного проветрить мозги (упорядочить мысли Семён уж и не надеялся). И приблизительно через тысячу шагов пришёл к выводу, что это было единственное правильное решение из всех, что он принял за последние сутки.
Когда в точке «А» оставляешь тревоги, а в точке «Б» ожидают заботы, тогда путь между этими двумя точками становится для тебя состоянием покоя. Фоновый (то есть не сообщающий лично тебе ничего важного) городской шум звучит тише тишины; отсутствие необходимости с кем-либо общаться вполне заменяет одиночество; мелькание незнакомых лиц и затылков на фоне привычных пейзажей и бессмысленной рекламы расслабляет глаза не хуже полумрака.
Радуясь своему открытию, Степанов буквально споткнулся о тело, растянувшееся ничком на тротуаре, на дальнем от проезжей части краю.
Тело, не подававшее признаков жизни, было одето в костюм – ещё вчера, по-видимому, неплохой, но сегодня уже изжёванный и грязный. Сквозь зияющую прореху на локте виднелась ссадина, покрытая запёкшейся кровью. На затылке поблёскивала седина.
Прохожие и проезжие следовали мимо, не снижая скорости. Семён, пожалуй, тоже прошёл бы мимо, будь он твердо уверен, что на земле валяется просто пьяный бомж, которому уже всё равно, как и где спать, и вообще жить, и даже умирать. Кое-кто из знакомых Степанова счёл бы такой поступок своеобразным проявлением милосердия.
Но Степанов не был уверен, а утро выдалось прохладным. Поэтому он присел рядом с человеком на корточки и принялся трясти его за плечо, приговаривая с нарочитой грубостью:
– Эй, вставай давай! Нечего тут лежать, замёрзнешь ещё. Поднимайся, домой к себе иди, там выспишься!
Лежащий застонал, оторвал голову от асфальта, повернул к Степанову землисто-серое лицо. И неожиданно ясным голосом сказал:




