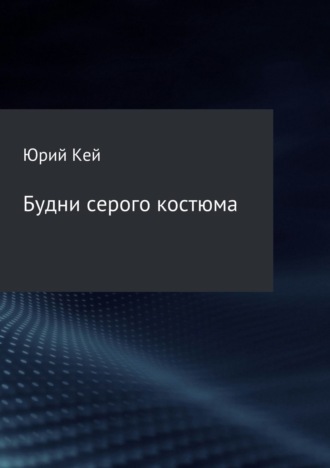 полная версия
полная версияБудни серого костюма
А вот через неделю, в эту опасную ситуацию, попал уже Мокшан, и гораздо серьезней. Он шёл слегка подшофе и с девушкой, его стали задирать издалека. Непонятно, кстати, зачем – ребята были налегке, без какой либо поклажи. Видимо, почувствовали вкус крови и безнаказанности. Когда в них сзади кинули пивной бутылкой, добродушный великан Саша, разумеется, не выдержал, и развернулся навстречу хищной стае. Струя газа прилетела сбоку, ошеломлённый согнувшийся студент тут же получил ногой в голову. Он закрыться толком то ли не успел, то ли уже не смог, нападавшие накинулись на него, как шакалы. Как он сам потом выразился – «Вёлся прицельный огонь в голову, но никак не могли меня вырубить, так что били жестоко, пробивая руки». Истошно кричащая девушка догадалась, наконец, рвануть в их комнату за подмогой. А там как раз были гости, сидело человек пять парней, мирно и со вкусом попивавших холодную водочку. Вылетевшая из дверей общежития на помощь «группа экстренного реагирования», никого из нападавших не застала, только отдельные тени шарахнулись в дальние дворы. Сашу они так и не сумели вырубить, но лицо выглядело ужасно, синяки, ссадины, рассеченная голова, весь в крови, даже врачи «Скорой помощи» ужаснулись, повезли его в Центральную больницу имени Семашко. Ребята отправились ему вслед, на троллейбусе, и забрали его оттуда с перевязанной головой и сотрясением мозга, и увезли лечиться остатками водки. Через пару дней в комнату зашёл со скучающим видом участковый района, так, поговорить – заявление он принимать не хотел, и вообще делал удивлённый вид: «Что? Банда?! На моём районе?! Да ни в коем случае, не было сигналов! Что вы такое говорите, третий уже случай? Нет-нет, у меня тихий район, но я пройдусь по нему вечерком». Студенты не стали настаивать, о чём с ним говорить, но весь следующий месяц по трое патрулировали район, взвинченные и готовые на решительные действия. Видимо, участковый сказал таки главарю правильные слова – больше шантрапа не появлялась, хотя все жаждали с ними встречи. Саша быстро отошёл, даже шутил над собой, синяки сошли, но остался шрам на голове, ради которого он стал носить другую причёску. Этот случай из всех ребят сделал ещё и «братьев по оружию», единство их комнаты было всем известно.
Комнату они оставляли родной общаге настолько фешенебельной, что были идеи продать её долларов эдак за 200 новым абитуриентам при выписке. Голуб даже вел переговоры с кем-то из знакомых – те собирались «поступать» своего сыночка, он бы переехал в другую – уже подобрал! – но дальше разговоров дело не пошло. Но комната не пропала – худой Саша учился годом младше, и он остался жить там со своей подругой Маринкой, в почти семейном уюте, о чём – спустя годы – от души благодарил. В итоге, сумбурный дипломный июнь закончился так внезапно, так резко, что они не то что посидеть не сумели напоследок, а даже и не попрощались толком. График экзаменов у них троих вообще никак не совпадал. Саша Голуб поблагодарил их за годы вместе простой прощальной запиской, пожелав «Дай вам Бог в жизни, парни!», с Мокшановым в одном городе они имели больший шанс встретиться, но за месяц до отъезда так и не встретился – закрутила пучина неоконченных дел и незакруглённых отношений. Зато был пополнен багаж знаний и получена профессия…
Учёба.
… В институте с первых дней пришлось расставаться со многими «розовыми очками», настолько отличалась реальность тех дней, от каких-либо здравых ожиданий о минимальном комфорте бытия и качестве обучения. Точнее, само обучение было первоклассным, наверное, для кого-то, но какое-то странное по составу в первые годы для начинающих экономистов. Огромный упор шёл на тяжёлую и опасную дисциплину, незабываемой «вышки», высшей математики во всех её коварных проявлениях. Вёл её два года обучения профессор Гольдберг, «Золотая гора» в прямом переводе, так и называемый студентами, за глаза, с почтением и опаской. Он запросто мог рубануть на экзамене от трёх до пяти раз, обладая очень быстрым умом и речью, сразу понимал глубину знаний студентом любимого предмета, пару резких вопросов – и можно было идти долой, либо соглашаться на позорный «тройбан», в лучшем варианте.
Особенно незабываемо было преподавание им в потоковой аудитории для всех пяти больших групп, которое он вёл в манере, большей похожей на шоу или стэнд-ап. Обращаясь виртуозно с длинным столбиком мела, он исписывал тройную доску мелкими цепочками формул, иногда через слово комментируя и громко вскрикивая связки «…отсюда абсолютно очевидно вытекает что эта производная равна…» и сам важный отрывок фразы пропуская, видимо, уплывая внутрь этой формулы, прерывая речевой поток, зато резко чёркая мелом стрелку «отсюда равно», и перепрыгивал как тигр к соседней, девственно чистой пока доске, ускоряясь вдвое, выводил абсолютно очевидный (только ему одному, конечно) искомый ответ. Пружинисто развернувшись, он впивал внимательный взгляд темных глаз, быстро сканируя аудиторию и лица студентов. – Понятно всем?
Аудитория дружно и честно отвечала: «Нет. А можно повторить, мы запишем?»
На это профессор искренне недоумённо всплёскивал руками с возгласом: «Ну как это -непонятно! Это же очевидно! Ну, я не знаю…» – и, глубоко обидевшись, переставал говорить с аудиторией, иногда, положив мел, просто уходил восвояси до конца пары. Говорили, заедал стресс в столовой, пирожки и вишнёвый компот.
Аудитория же оставалась на месте, которая лихорадочно всё переписывая с доски, просто отчаявшись это понять. Просто записать, попробовать проанализировать подробно попозже дома, вооружившись учебником. Юра разговаривал со старшекурсниками экономфака, мелиораторами, ребятами с промышленно-гражданского строительства, даже с архитектуры. Все знали Гольдберга, он вёл у всех, и все, даже завзятые отличники его опасались, и подтверждали, что его лекции абсолютно непонятны неподготовленному человеку. Со временем, ребята наловчились к его манере подачи материала, и научились немного разбирать цепочки заключений, и быстро записывать эти формулы. А время у них было, два года их тока и пичкали этой вышкой, как будущих светил математики. Тихие вопросы от студенчества, адресованные деканату, остались непонятыми, вышка прдолжалась по-прежнему, напрягая каждую сессию подвигом по её сдаче. Странно, кому пришла вообще в голову мысль, что эта дисциплина столь важна будущим экономистам, рекламщикам или даже бухгалтерам? Уже на пятом курсе последние остатки знаний этой головоломной дисциплины выветрились из головы у всего потока, кого Юра не спрашивал из любопытства – все подтверждали теорию её ненужности. Похоже было, что она осталась в программе просто по инерции советского времени – ведь по ней была кафедра, преподаватели, твёрдо знаемый материал – и можно было нарисовать много-много часов, «поклонившись» преподавателям могучей кафедры.
Нелогичность процесса обучения вызывала удивления не только этим. Предыдущий набор, первый самый, по инерции ещё и учил предмет «Сопротивление материалов», и сдавали по нему полноценный экзамен на первом курсе. Пока не взбунтовались и не прислали большую делегацию на приём к декану, убедительно обосновывая, что эта не самая необходимая именно им дисциплина. Пытались обсудить варианты улучшения своего образования, предлагая ввести некоторые новые предметы. Декан со всеми покорно соглашался, но ничего особо в процессе не изменилось. Сопромат, правда, ребятам отменили, однако ввели предмет «Материаловедение», с теми же преподавателями, что и были. Экзамен превратился в зачёт, но изучался активно ещё и следующим набором целый год. Это вызывало лёгкое недоумение студентов, на что из деканата отвечали «Ничего, вам не повредит. Мы всё-таки строительный вуз!». Студенты вздыхали, и смирялись с мыслью о необходимости продолжать изучать строение кристаллической решетки берилла и отличительные свойства слюды, безусловно, необходимые будущему финансисту данные. Спасибо хоть, «Историю КПСС» уже штудировать и конспектировать не заставляли, и политинформации не проводились – эти вещи канули в лету год-два назад, как и комсомол с его членскими взносами и бесполезными значками.
При этом в обучение первого курса зачем-то вставили дисциплину «Медико-экологические проблемы», МЭП. Робкие первокурсники, с удивлением, на этих занятиях открыли для себя, в принципе, новые вещи – что природа живое существо со своими законами и ритмами, человек существо, имеющее онлайн-связь с высшим разумом, сны бывают вещие и ретроспективные, и надо уметь их отличать. Нет, конечно, разгул свободомыслия в обществе начинал зашкаливать – ещё бы, после стольких лет глобальной цензуры! – и всякие колдуны, Аум Сенрикё и прочие шарлатаны, то есть, пардон – парапсихологи! – повылезали из всех щелей, проникнув в массы, газеты и даже телевидение. Но облечь это в оболочку приличной дисциплины, и внедрить в учебный план первого года обучения – это было как-то чересчур… Слушая выступление «преподавателей», худого блондина дохлого вида лет 20 и тонкой девчушки с безумными глазами, тех же лет, студенты недоумённо переглядывались, но послушно писали в тетради. Однако, неглупые люди сидели за партами, хоть и молодые, и на втором уже занятии одногрупник Лёха Мельницкий, весёлый крепыш и боксёр, острый на язык, попросился в туалет, и демонстративно покинул пару. Эта парочка «преподавателей» даже глазом не моргнула, продолжая монотонным голосом «нести пургу» более выдержанным студентам. Потом, между собой, они обсуждали происходящее, и мнения разошлись. Резкий на словцо Лёха высказывался так:
– Вот их послушать, так холод продирает до костей! Вот, слышали, как этот тип втирал – человек, мол, существо такое, что может получать энергию из любых продуктов! То есть, что получается?! Человеку нужно кушать не колбасу, а – по его мнению – прям можно смело употреблять навоз или там, сено?! И это он НАМ преподносит «на полном серьёзе», как будто мы пятилетние дети. Да пошли они, я к ним ходить не буду, лучше полтора или три часа своей жизни в спортзале грушу поколочу.
Одногруппники хихикали, поддакивали, соглашались, но на предмет продолжили ходить. Серёга Чарин, громадный парень, уже отслуживший в армии, на этих парах только улыбался и записывал лучшие «перлы», потом зачитывая на переменах и смеша всю группу. Ходить же на пары большинство продолжало, относясь к дисциплине разными чувствами: от скепсиса и иронии до полного погружения в предмет. Юра придерживался умеренной позиции, ходил, смеялся над шутками других, но – раз уж жизнь вынудила посещать данную дисциплину – старался взять оттуда хоть что-то полезное. И, с удивлением понял, что там есть рациональное зерно. Например, один из первых семинаров по предмету, ребята проводили на полянке недалеко от основного здания, уютно расположившись на травке. Немногие студенты туда дошли, а парочке «преподавателей» на посещение было, казалось, совершенно всё равно. Парень тихонько рассказывал о такой вещи, как сны и их энергетическую сущность, а Юра вдруг с удивлением понял, что несколько лет назад он видел сон об этом дне – очень чётко, явственно и красочно ему тогда показали кусочек фильма с его участием – он хорошо его запомнил тогда, но не понял ничего. Этот парень, сидящий по-турецки на своей серой курточке напротив него, здание институтской столовой за его правым плечом, девочек-отличниц из его группы, сидящих в широком кругу – он всё это видел во сне! Его словно молния поразила, он аж покачнулся слегка, а преподаватель глянул ему прямо в глаза, проницательно улыбнулся, как будто прочитав его мысли. А может быть, и – прочитав, потому что дальше он рассказывал, глядя на только на загипнотизированного Юру, и именно про вещие сны. После этого события Юра внимательнее относился к их словам, не присоединяясь к насмешкам, но и не делясь своими открытиями с другими, доказательств-то у него не было. Но внутри он знал правду, и эти люди и их знания открылись ему в новом свете.
В декабре того же 93-го года, помнится, он возвращался в общежитие от тётки, через весь город, поздним вечером. Было ужасно холодно, больше 15 градусов мороза, а ехать надо было с пересадкой на Самокиша. Зайдя в заледенелый троллейбус, он пристроил тяжёлый рюкзак между креслами, выдохнул наконец, поднял глаза в салон троллейбуса, и просто остолбенел. Печки не работали, все стёкла заиндевели, изо рта шёл пар, даже в салоне была явно минусовая температура. А на два ряда впереди, сидел их блондин-преподаватель, в одной белой футболке, спокойно беседуя с какой-то девушкой рядом, одетую в шубу. Юра аж рот разинул, видя эту картину – на коже у парня не было никаких следов мурашек или холода, казалось, что он сидит на летней лужайке, так комфортно тот себя чувствовал. Не он один глазел на невероятную картину – полупустой троллейбус весь был в изумлении, молча выдыхая струи пара, а посреди этой тишины сидел морозонепроницаемый человек. И никакой куртки или шубы рядом с ним не было и в помине. На ум сразу всплыли его недавняя лекция о возможностях терморегуляции организма, которую он тщательно, но механически записывал, не вникая, так же. Как и товарищи, снисходительно посмеиваясь. А выходит – зря!
Одну из следующих пар на этой дисциплине ребята посвятили соединению с космосом. На их занятия уже почти никто не ходил, они на это внимания не обращали, зачёт всем выставили недавно спокойно, ну скептики и забили на предмет. Юра же тщательно вникал, даже задав пару практических вопросов. Они спокойненько говорили о таких вещах, как «соединение с космосом», «огненном луче из макушки», учили правильной посадке при этом (лучше всего – по-турецки!), синхронному дыханию и мышлению. На удивление, ему понравилось мысль сделать что-то невозможное остальным, и вечером, в пустой холодной общажной комнате, он попробовал всё сделать по их инструкциям. Как же он был поражён, когда активная медитация ему внезапно удалась! Несколько минут сосредоточения и правильного дыхания, нацеленной мысли – он всё почувствовал взаправду – и горячий, почти ощутимый столб золотого огня из его макушки в небеса, и громкий гул при этом, и ощущение соединения с чем-то безбрежным, умным и добрым. Ощущение длилось всего несколько минут, кто-то резко постучал в запертую дверь, он резко вздрогнул, дёрнулся, и незримая связь распалась. Дверь открывать и включать свет он не стал, но повторить успех он уже не смог. Воспоминания об этом жгли его, но ни с кем и никогда он не делился ими, не желая подвергать себя недоверием и насмешками, он то реально это чувствовал! Очень скоро после этого предмет из курса исключили, мгновенно о нём забыв и не обсуждая больше – видимо, жалобы студентов на трату их времени, оплаченного государством, достигли ушей руководства ВУЗа. А Юра даже немного жалел – только с ними он мог бы обсудить увиденное со знанием дела, но ребята из ВУЗа пропали мгновенно, оставив о себе только одну запись в зачётной книжке. Ну, еще и новый нарицательный термин «Секта радостных», иначе их студенты до конца обучения и не называли.
С 3-го курса учение, конечно, пошло веселей. Появились профильные предметы, звучащие полезно: «Банковская система», «Статистика», «Бухгалтерский учёт», «Макроэкономика». На поверку всё оказалось не так уж и радужно – «Макроэкономика» была парой раз в неделю хотя бы, на которой престарелая дама, надев очки, важно читала вслух замечательный труд «Экономикс» великого американского экономиста, мистера Самуэльсона. Другого ничего не рассказывалось, не задавалось и не существовало, причём следить за своими вопросами надо было крайне внимательно. Толик Иночкин например, одногрупник Юры, однажды ляпнул, не заметив преподавателя в подсобке: «Ребята, я с пары линяю, чё тут делать – опять время терять на декламации Самуэльсона? Ха-ха..» Резко появившаяся дама молча его запомнила, ни слова не сказав в тот раз, но предмет Толик сдавал после этого 9 раз, его технично ловили всегда на новых, изобретательно появлявшихся вопросах, и законно срезали, ставя упорный «неуд» в ведомость. Дабы не потерять стипендию, Толик выучил наизусть весь труд, и всё равно весь третий курс, с января по июль ходил упрямо пересдавать, пока она не насладилась своей местью. После этого весёлый Толик пытался себя сдерживать в публичных комментариях, но при виде увесистого тома Самуэльсона его начинало мелко трясти, и он отворачивался. Друзья его подкалывали, одногрупники сочуствовали, от отшучивался, находя пользу и в подобном жизненном испытании – преодолении внезапной трудности.
С 4-го курса им начали преподавать «Базы данных». Молодая девушка, ненамного старше самих студентов, полкурса морочила им голову подробным изучением программы анализа данных FoxBase. Тщательно записывая все сложные команды на английском, студенты только диву давались, для чего нужны эти знания устаревшей уже в тот момент программы, написанной для Norton Commander? Но продолжали трудиться, пустой труд уже стал привычкой. До тех пор, пока спокойная и весёлая Оля Первых, ласково называемая одногруппниками «Первышка», не взорвалась прямо на занятии: «Скажите, а для чего нам вот это ерунда нужна? На дворе 1996 год, на всех нормальных компьютерах уже стоит как минимум, Windows’95 и пакет Microsoft Office. И совсем скоро, после выпуска, нам всем понадобится уметь на них работать! Неужели вы не можете учить нас этому, а не глупому FoxBase?».
Преподаватель опешила, потом накинулась на Олю, но ребята загудели одобрительно, поддержав эту позицию. Более того, Наташа Мадленова веско поддержала Ольгу, сказав что у них в бухгалтерии все уже так и работают, нужен для жизни Word, Excel, ну может, еще Outlook для переписки. Вовремя поняв, что бунт воистину народный и общий, преподаватель согласилась с ними, отменив это занятие и отпустив всех домой пораньше. Следующее занятие началось с теоретического изучения Windows 3.11, компьютерного класса в институте ещё не было, формировался только на бумаге. Юра только усмехался на этом занятии – у него, к счастью, была возможность поработать на относительно современных компьютерах, у родного дяди в его компьютерном хозяйстве. Тот работал, как бы сейчас сказали, системным администратором в богатейшем предприятии Крыма, Агрофирме «Дружба народов». К слову сказать, директор фирмы был человеком энергичным и прогрессивным, и занимался своим предприятием по-серьёзному. Вот и купил в бухгалтерию 20 компьютеров, которые родственник как раз и объединял в «сетку». Вскоре, его как крепкого хозяйственника, узнал весь Крым – директор фирмы Василий Алексеевич Киселёв двинул на резкое повышение по партийной линии, в октябре 1996-го оказавшись в кресле Председателя Верховного Совета Крыма. Юра погостил тогда, прошлым летом, у дяди неделю, в базовом варианте освоив Windows, Word и Excel, и на эту дисциплину продолжал ходить только из добросовестности.
На последнем курсе, Слава Богу, пошли необходимые дисциплины: «Основы налогообложения», «Страховое дело», «Биржа и фондовый рынок». Это уже было неплохо и необходимо, только, к сожалению, длились они всего один семестр. Всё что успели, это ознакомиться с базовыми терминами и понятиями, однако даже этих знаний вполне хватало, чтобы нормально читать современные российские журналы «Деловые люди» и «Деньги. Коммерсантъ». К этим изданиям он пристрастился в прочтении, ходя за этим раз в неделю в областную библиотеку, невзирая на долгие поездки туда и обратно. Делать он это начал с подачи интеллигентного дедушки-преподавателя курса «Банковское дело». Сам он ничему особенному научить студентов не мог, ибо, как он однажды стыдливо признался, «в современном банке? Нет, не работал… Знакомые? Да нету… Зато я досконально знаю теорию банковского дела!». Но, по крайней мере, внушал студентам уважение и любовь к своему предмету, немного, но очень интересно рассказывая про основы инвестиционного или даже VIP-банкинга, в том виде, в котором это существовало на Западе в то время. Источники знаний он не раскрывал, однако Юра, регулярно читающий в оригинале посоветованные тем журналы, понимал, что именно в них он и почерпнул – Юра уже даже записывал для себя, в каком именно номере тот взял тему для очередной лекции. Но на смех препода не поднимал, эту информацию не разглашал – ведь тот хотя бы любил свой предмет, и старался дать эту любовь своим подопечным.
Парню казалось важным регулярное чтение тематической периодики для будущей карьеры, и он заставлял себя вникать в устройство российского успешного бизнеса, что волнует эти компании, как они развиваются, и куда движутся? Однажды в руки попал толстенный, весь такой из себя роскошный и почти иностранный, журнал «Forbe’s» в российском варианте. Обстоятельность аналитики статей, рассказы о успешных взлётах в бизнесе, тенденциях экономики и происходящих в мире событий завораживали его, громкие имена и дорогие бренды, манили в сердце финансовых сфер, в загадочную, опасную, и такую притягательную Москву. Журнал он теперь читал регулярно, делал выписки, запоминал ведущие компании в разных отраслях экономики, даже делал выписки для себя и заметки.
Между тем, дело плавно подходило к государственным экзаменам, так называемым ГОСам. Юра, очень хорошо учившийся, начал узнавать поподробнее о параметрах получения красного диплома, и опять ему преподаватель начал рассказывать, что он не потянет эту награду, что нужно сдать ГОСы только на отлично, безупречно написать и защитить дипломную работу. Парня покоробило, что его стали отговаривать от мысли добиться награды, и он стал ещё подробнее разбираться в вопросе. Улучив момент, переговорил о себе подробно с секретарём деканата, та пообещала уточнить информацию. И не подвела, через три дня выложившая перед Юрой копию аттестационного общего листа с подчёркиваниями. По листу выходило, что у него нормальное соотношение 4-ок к 5-кам (не более 25%), портило картину только одно обстоятельство – «тройбан» по дисциплине «Размещение производительных сил», по курсовой за еще 1-ый курс, самую первую сессию, когда вчерашние школьники становились именно студентами. Говорили, что только после последнего экзамена менялся статус – абитуриенты становились настоящими студентами. Видимо, правило было из наследия Страны Советов, когда студентов безжалостно отчисляли по итогам первых экзаменов, а экзамены были нереально жёсткими. На их курсе, из 150 студентов, на первом курсе не было ни одного случая, на 2ом курсе – двое, и то, за пьяный дебош в ресторане с битьём лиц, посуды и зеркал.
Чтобы не получилось ситуация, схожая с обломом по серебряной медали, Юра, сцепив зубы, пообещал себе добиться этой вожделенной награды. Из совсем неглупой ихней группы, только двое претендовали на красный диплом официально, со всего курса – пятеро. Соответственно, начать следовало с устранения преграды, в виде тройки за старую курсовую. Тот предмет вёл строгий и принципиальный доцент Осадчий, и он, к счастью, всё ещё преподавал в институте, все работы у него ранились в архиве в полном порядке. Переговорив с ним, объяснив мотивы исправления, парень поймал уважительный взгляд преподавателя.
Доцент молча пододвинул бумагу для заявления о пересдаче, надиктовал сухой текст, завизировал. Ушёл в подсобку своей кафедры, и долго там шуршал бумагами и стучал папками. Вынес торжественно его сшитую работу, слегка покрытую пылью времён, раскрыл перед собой.
– Да, работа до «хорошо» явно недотягивала… Вот смотрите – здесь у вас не раскрыта тема, здесь – грубая ошибка, а вот тут со знаками препинания намудрили, лишние запятые и недостающие тире, юноша… Так что переделывайте, старайтесь, и если я это увижу – обещаю исправить на «отлично» и лично переправить в экзаменационных ведомостях. Сроку вам – три дня, успеете?
Юра только кивнул, забирая свою работу в пакет ко всем учебникам. С небрежностью работы он был согласен, навскидку даже увидев свои тогдашние ошибки. Он даже помнил причину – дело было на первой сессии, с большим количеством зачётов, которые проводили в последнюю предновогоднюю неделю. Запарка тогда была жуткая, всё наложилось друг на друга, и эту курсовую он дописывал глубокой ночью перед семинаром, закончив в 2 часа ночи, а в 8.30 уже надо было работу сдавать. По этой же причине он тогда махнул рукой на свою оценку и не пошёл пересдавать, стипендии государственной не лишают – ну и ладно! Но сейчас, ощущая проснувшиеся амбиции «краснодипломника», он твёрдо себе пообещал запомнить этот жизненный урок и сделать выводы. Если сразу не обратить внимания на промашку, и не устранить её сразу – она всплывёт потом сама, как правило – в самое неудобное и напряжённое время, всё равно заставит себя решать.
Той же ночью в общаге, он углубился в чтение своего старого труда. Их разделяла пропасть – почти пять лет интенсивного обучения, и сейчас он смотрел на «курсовик» совсем другими глазами, более придирчиво. Ошибки бросались в глаза, но он заставил себя дочитать 15 куцых страниц до конца. Прочитав, задумался – работа была, в принципе, неплохой, достаточно глубокой и стройной. Исправления преподавателя при этом касались только 2-го, главного листа, где была указана структура изложения. Остальной текст не был замаран красной ручкой, и это был плюс для исправления – она была сшитой в клеёнчатую папку со скоросшивателем.

