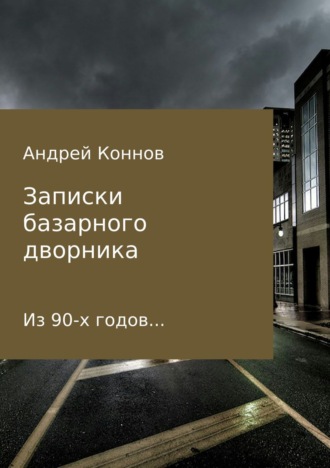 полная версия
полная версияЗаписки базарного дворника из 90-х годов
Сурен насупился, задумавшись, глядя в сторону. Потом опять разлил коньяк, выпил, молча, чего с ним никогда не водилось, и произнёс грустно:
– Ти прав, ара-джан! Её нэлзя покупать!
– Её надо завоевать, её надо добиться, – добавил я со вздохом, – и она должна почувствовать, что нравится мне! К тому же, мы вовсе не знаем друг друга! А мне, совсем не хочется, чтобы и второй мой брак оказался несчастливым.
– А первий твой жена – савсэм тебя нэ любиль?
– Любила, но простить не смогла. Я много гадкого сделал по глупости, по слабости! Скоро она выходит замуж за американца, и уезжает из России навсегда! – я выпил налитый в мою рюмку коньяк, и попрощался с гостеприимным Суреном.
Случайные встречи с Ануш, с того вечера, и доверительного разговора с её родственником – теперь волновали меня необычайно. Меня тянуло к ней неведомая сила, не осознаваемая мной до конца, но непреодолимая. Так, словно я был семнадцатилетним юношей, влюбившимся в первый раз. Она не строила мне глазки, не кокетничала. Отвечала на приветствия, глядя вниз. И только раз, вновь обожгла меня огнём своих бездонных зрачков, и улыбнулась – когда я сообщил им с матерью, что все заминки с регистрацией и получением вида на жительство – решены. Эрмина же, только молча плакала, судорожно сцепив у груди ладони.
8.
После общего корпоративного вечера, Новый год наш коллектив отмечал – каждый по-своему… В Европе, у поставщиков, начинались рождественские каникулы, поэтому и у нас, до восьмого января следующего года, объявлялся вынужденный отпуск. Вика укатила на праздники в Донецк. Я проводил её до поезда, при прощании мы горячо поцеловались, она мне шепнула, перед тем как запрыгнуть в плавно тронувшийся вагон:
– Я буду скучать за тобой! И все выходные – буду о тебе думать, – я усмехнулся про себя: «Скучать за тобой…», а сам, несколько фальшиво ответил:
– Я – тоже, Викуля… – и прозвучала моя фраза, как-то принуждённо, фальшиво, без душевного тепла. Неужели она не ощутила этого?
Прямо с вокзала я собирался ехать к себе в родной городок, ночью, потому что на следующие сутки обещали метели. Даже свои вещи и сумку с подарками родне, уложил в багажник. Но по пути к автостоянке, в моём мозгу засвербела шальная мысль: доехать до нашего дома, и пригласить с собой Ануш… И я погнал с Павелецкого вокзала через пол – Москвы, попадая в вечерние пробки, чертыхаясь, и уже ругая себя за глупость. Ведь мне ничего не стоило проехать по Кожевнической улице, по Павелецкой набережной, взяв затем правее, в гору – попетлять по пустым в это время переулкам, минут через сорок, выскочить на Каширское шоссе – и прочь из суетного огромного города, с его заторами и несметным количеством машин! А до Н – дки добрался я за полтора часа, попадая то и дело в пробки, нетерпеливо протискиваясь между рядами оголтело сигналящих машин, выскакивая, на свой страх и риск, на встречную полосу, останавливаясь и чертыхаясь. Как предложить чужой девушке такое – я понятия не имел, поэтому, с колотящимся от неуёмного волнения сердцем, зашёл, сначала, в шумный, прокуренный «Арарат», к Сурену за советом.
– Вай, ара! – наморщил в раздумьях он лоб, – нэ знаю, дажи! Как Эрмина скажит?
– Уговори, друг! – упрашивал я его, – тебя они послушают! Ящик виски, или джина с меня, после праздников. Сам выбирать будешь, какой марки!
– Ничего не нада, – замахал Сурен руками, – пайдём к ним вместе, Саша-джан! Одын – нэ пайду!
Обе женщины жили в комнате на четвёртом этаже. Лифт мы дожидаться не стали, оправились пешком. Шагая по ступенькам, мой приятель всё время что-то взволнованно бормотал по-армянски, и качал головой.
– Сурен, – объяснял я ему по пути, – скажи им, мол, у моих родителей – дом большой! Спать она будет в отдельной комнате. Без её согласия – я к ней пальцем не прикоснусь! Слово даю! Богом клянусь!
– Скажю, ара! – задумчиво отвечал он, – и опять принимался что-то говорить самому себе, временами подкатывая глаза.
У двери их секции мне стало, вдруг, страшно неловко. Но менять решение – уже было поздно. Да, и что бы подумал обо мне Сурен, как о мужчине! Мы вошли. Постучавшись, шагнули за порог их комнаты. Женщины смотрели телевизор, увидев нас, торопливо вскочили с дивана, на котором сидели, стали хлопотливо приглашать присесть, предлагать кофе и пирожные. Но Сурен жестом руки остановил их, и начал горячую речь на родном языке. Женщины застыли в изумлении. Ануш растерянно смотрела то на меня, то на Эрмину, то закрывала пылающие щёки ладонями. Её мать слушала молча, слегка склонив голову на бок, потом повернулась к дочери, что-то спросила у неё по-армянски. Та молчала, потупившись. А Сурен продолжал говорить, жестикулируя, обращаясь поочерёдно, то к одной женщине, то к другой. Наконец, он выдохся, и замолчал. Тут я почувствовал, что настал мой черёд:
– Эрмина, Ануш, – начал я солидным тоном, пытаясь подавить в себе непрекращающееся волнение, – даю слово чести – ничего плохого я не хочу! Просто – познакомлю Ануш с родителями, с братом, его семьёй. Покажу родной город, отпразднуем Новый год. У Ануш будет отдельная комната в большом доме. Всё в нём есть! Ехать всего-то часа четыре, к утру будем на месте. Ануш звонить будет, хоть каждый день… Пятого января приедем в Москву.
– Можно подумать немного? – наконец произнесла Эрмина, а Ануш отчаянно стала что-то доказывать матери на родном языке, подкрепляя слова энергичными жестами, и взглядом, полным отчаяния.
Тут опять подключился Сурен. Начал, видимо, возбуждённо возражать, размахивая руками, даже ногой слегка притопнул. Я сильно занервничал. А в комнате опять, вдруг, наступила тишина. Сурен наклонив голову ко мне, прошептал в ухо:
– Ани гаварат – савсем приличным адежда нэт ехат! – Ануш услышала громкий шёпот, резко отвернулась к окну.
– Это вообще – не проблема! – воскликнул я, – в центре магазины круглосуточные есть – всё купим. Для тебя ничего не жалко, Ануш!
Эрмина бросила Сурену короткую фразу, тот повернулся ко мне, проговорил негромко:
– Давай вийдем, Саша-джан. Им гаварит нада, дваим…
Мы вышли в коридор, потоптавшись, направились на общую кухню – покурить у окна. И едва успели выкурить по сигарете, как в коридоре появилась смущённая Ануш, в старенькой своей дублёночке, шерстяной шапочке, с дорожной сумкой в руках. Следом шла Эрмина, в глазах её поблёскивали слёзы. Она обняла дочь, поцеловала и перекрестила, потом повернулась ко мне, и проговорила чётко:
– Храни вас Бог, в дороге.
Радости моей не было предела. Я пожал крепкую руку Сурена, и мы направились к лифту. Ануш оглянулась на стоящих за нашими спинами, мать и дядю, и помахала им ладошкой.
К одиннадцати вечера пробки рассосались, до Центра мы добрались довольно скоро, но потратили часа два ещё, чтобы приодеть мою спутницу с ног до головы, во всё новое. Её старые сапоги тут же полетели в урну, дублёнку свернули и положили в багажник. На Ануш была модная коротенькая шубка, сапожки на сплошной подошве – под джинсы, и для прогулок. Модельные сапоги на каблуках – решили обуть, когда приедем и пойдём по родне – знакомиться. Свёртки с остальными нарядами – разместили на заднем сидении.
Ночная трасса с заснеженными неширокими полями по краям, которые сменяли вдруг тёмные, казавшиеся угрюмо – враждебными, хвойные леса Подмосковья – всё это поразило и очаровало Ануш, своим диковатым, первозданным видом. Она постоянно вертела головой в разные стороны, и повторяла:
– Как красиво у вас! И – страшно. Никого нет! Тишина… А бензина нам хватит? – вдруг всполошилась она.
– Возле поворота на Домодедово – будет заправка, – покровительственно успокаивал я свою спутницу, – зальём полный бак, а перед Ефремовым – ещё добавим, на всякий случай!
– Далеко этот Ефремов?
– Часа три с половиной езды… Машина скоростная, дорогу держит отлично, трасса пустая. Так, что – будем нажимать на газ!
– Бог мой! – удивлённо воскликнула Ануш, – а твой город, далеко от него?
– Ещё – часа полтора пути.
– И ты – выдержишь за рулём всё это время?
Я засмеялся в ответ:
– Ануш, я же половину Центральной России на машине исколесил! От Новгорода до Ростова на Дону! Не беспокойся. А ты – можешь вздремнуть. Хочешь, иди назад, там ляжешь, ножки вытянешь, и спи до утра.
– Нет! – возразила она, – я не могу тебя бросить одного… И мне – интересно на настоящую Россию посмотреть. Когда ехали в Москву поездом – ничего толком не разглядела.
– Где ты, так хорошо по-русски разговаривать научилась?
– Ходила в русскую школу! У нас в Степанакерте. Там дети военных были, в основном. А мой папа – прапорщиком служил в Советской Армии. Вот, и приняли в школу. А теперь мой папа – майор нашей армии! – добавила Ануш с гордостью.
На языке у меня вертелся вопрос о её погибшем муже. Я, сначала, стеснялся затрагивать эту, несомненно, очень больную, для неё тему. Но после решил: сразу внесём ясность – и забудем!
– Скажи, Ануш, ты любила своего покойного мужа?
– Да! – с горечью ответила она, прямо и честно, и добавила, – и сейчас – люблю и помню! Только – люблю по-другому. Его нет, а для меня – он есть. Просто – не со мной…
Мы замолчали, думая, каждый о своём.
– Я – тоже свою жену любил, – нарушил я неловкое молчание, – но жизнь нас развела… – и начал свой рассказ о прошлом.
Она слушала, глядя пристально в темень за стеклами, и казалась совершенно безучастной, отрешённой. Только густые, чётко очерченные природой угольно-чёрные ресницы – то взлетали, то опускались, а тонкие, длинные пальцы её рук с аккуратно остриженными, ненакрашенными ногтями, были плотно сплетены. Когда я закончил, Ануш задумчиво произнесла:
– У вас, хотя бы, есть сын… А, будут ли у меня ещё дети… – и прерывисто вздохнула.
От Москвы до Богородицка – дорога казалась бесконечной, как всегда. В этом городке мы попили на стоянке кофе, отдохнули немного, и до Ефремова доехали незаметно. Город, где я жил дворником, мне хотелось скорее проскочить по окружной, но, в последний момент, я передумал, и решил проехать его весь. Напротив центральной площади остановился полюбоваться на убранную, весело перемигивающуюся разноцветными огоньками, ёлку. Ануш была в восторге, словно в ней, взрослой, вдруг, проснулся ребёнок из далёкого детства:
– Как здорово! – засмеялась она, и захлопала в ладоши, – подойдём ближе!
В этот ранний час – площадь, и улицы были безлюдны. Мы, взявшись за руки, обошли ёлку со всех сторон, восторженно разглядывая её. В нас поселилось чувство беспричинного, лёгкого веселья. Дорожная усталость растаяла от декабрьской морозной, утренней свежести. И только, взглянув на то место, где я стоял в полном одиночестве год назад, и тянул украдкой коньяк из «чекушки» – мне на миг взгрустнулось. «Однако, как всё круто и хорошо поменялось в моей жизни!» – подумалось мне, и неожиданно, даже для себя самого, я притянул Ануш к себе, и поцеловал в сочные вишнёвые губы. В тот же миг я ощутил, как из её груди вырвался глубокий, взволнованный, судорожный выдох. Она легонько высвободилась, повернулась ко мне спиной, и что-то быстро проговорила по-армянски, глядя на кресты старинной церкви, вознесшиеся над площадью. И показалась она мне, тогда, какой-то бесконечно далёкой, чужой…
– Что случилось? – встревожился не на шутку я.
– Ничего. Просто попросила у Бога и у мужа прощения, – с печалью в голосе ответила Ануш, и серьёзно взглянула на меня. Потом, резво развернувшись, вдруг заявила:
– Хочу съехать, вот с этой горки, на попе! – и побежала, расстёгивая на ходу шубку.
Она прокатилась несколько раз, тихо и радостно взвизгивая, а я наблюдал за этим неожиданным озорством с таким теплом на душе, будто бы эта молодая женщина – моя дочь.
Стали появляться первые прохожие. Я стряхнул с новых джинсов Ануш налипший снег, и мы отправились дальше, в дорогу к моему дому. После нашего поцелуя, незримая стена, которая, всё же ощущалась между нами, растаяла… Правда, в пути, она робко поинтересовалась:
– Слушай, как встретят меня твои родители, а? Я ведь – нерусская, нищая беженка, к тому же! Боюсь даже.
– Поздно бояться! – деланно сурово ответил я, и, рассмеявшись, добавил, – так же, как и меня – с радостью! Увидишь, Ануш! Не волнуйся. У меня – прекрасная семья, уютный дом, замечательная родня. Все – люди простые, душевные.
– Всё-таки, будь рядом, – попросила она, а в это время впереди, в рассветных серых декабрьских сумерках, уже показались любимые с детства пейзажи моего городка. Мы быстро скатились с крутого спуска к мосту через замёрзший, кое-где дымящийся в промоинах Дон, миновали его, свернули влево, затем – на первом перекрёстке – направо, и стали подниматься в гору, по нашей тихой улочке, заканчивая путешествие.
– Я скажу твоим родственникам, что меня Аней зовут, – почему-то объявила вдруг Ануш.
Я пожал плечами, и не стал возражать. Аня, так Аня! В том, что она придётся по душе всем моим близким – я не сомневался нисколько! Приближаясь к дому – прочёл ей краткое наставление:
– Запомни, Ануш, в русских семьях – всё немного по-иному бывает. Не как, на Кавказе. У нас в семье, командует мама. Она – человек нрава крутого. Донская казачка… Но, добрая и радушная. Зовут её – Клавдия Васильевна. Отец – человек мягкий, тихий подкаблучник. Слушается её, ни в чём не перечит. Не удивляйся, прими, как должное. Отца зовут – Михаил Андреевич. К родителям моим, и ко всей родне – отнесись с почтением, но, и держи себя с достоинством, без приниженности. Помни, я всегда с тобой! Не стесняйся меня спрашивать, если не знаешь, как поступить.
– Я боюсь, – прошептала, съёжившись Ануш, и вцепилась мне в рукав.
А я, затормозив, повернул ключ зажигания, и спокойно объявил:
– Приехали, Анечка!
В доме горел свет, со двора слышались торопливые, визгливо скрипящие по снегу, шаги. Открылась калитка, выглянувший отец, одетый в ватник и валенки, всматривался секунду в мой автомобиль, а потом радостно крикнул, оборачиваясь:
– Клава, Сашок приехал! – и полез обниматься, колясь щетиной.
Мама выскочила мгновенно, набросив длинный цветастый павловский платок, который в конце лета я передал ей в подарок ко дню рождения, когда брат приезжал за товаром, и запричитала, по обыкновению:
– Ну, наконец-то, сыночек! Мы уже все жданки проели, пока тебя дожидались! Позвонил бы Мите, хотя бы предупредил! – и тоже обняла меня.
– Я не один, мама. Со мной – Аня. Мы собираемся пожениться, – сразу объявил я родителям, подошёл к машине, открыл дверцу, подал руку Ануш. Она несмело вылезла, замерла в нерешительности…
– Какая красивая девушка! – воскликнула изумлённо мама, – и молодая какая! Ну, здравствуй, Анечка! Добро пожаловать, мы очень с отцом рады. Наконец-то, Саша нашёл себе вторую половину!
– Здравствуйте, – застенчиво пролепетала Ануш, и смущённо улыбнулась.
– Проходите в дом, детки! – продолжала моя мама между тем умильным тоном, а отцу скомандовала твёрдо, – помоги ребятам вещи внести!
Чтобы сразу была ясность, я коротко изложил родителям историю моей будущей жены. Так я начал её называть теперь. Отец слушал, покачивая головой от удивления, а мама – вдруг порывисто обняла Ануш, прошептав:
– Бедная девочка! – и они обе прослезились.
– Проходи, Анюта, не стесняйся, – суетился отец, помогая ей снять шубку, – сейчас завтракать будем.
– Умоемся сначала, еда – потом… И – спать! – оживлённо, между тем, говорил я, довольный такой встречей.
– Может быть, ванну? – предлагала мама.
– Ванну – потом! Всю ночь ехали, сил нет. Аня будет в гостевой комнате жить, приготовь всё, мам!
– Не волнуйся, – с достоинством домовитой хозяйки, отвечала она, – гостей мы принимать умеем!
Спал я так крепко, что казалось – не проснусь никогда. Вставать, после пробуждения, не хотелось. Ленивая истома одолевала, и не давала никакой возможности силе воли себя проявить. Но, вспомнив о том, что отец выстроил баню в огороде – сразу вскочил, сгорая от нетерпеливого желания скорее попасть туда, попариться от души с дубовым веничком, а потом – не спеша пообедать, и пить чай.
Ануш мылась в ванне, и после, шёпотом, призналась мне, что с таким удовольствием, с такой роскошью, не купалась несколько лет. К позднему обеду появился брат. Огромный, как медведь, громогласный, он сначала испугал мою невесту, но это было – лишь первое впечатление.
– На Новый год – поедем на ту сторону Дона, на подворье к Семёну! – гремел Митя, – там красота, воля! Салюты пускать будем, я уже десятка два накупил! Попляшем, подурачимся – от души! Шашлыков наделаем! Аня, ты умеешь шашлыки жарить?
– Нет, – покраснев, отвечала Ануш, – у нас этим, только мужчины занимаются…
– Не беда! – трубил брат, будто слон, – и тебе дело найдём!
– Она такие торты и пирожные печёт – ты в жизни вкуснее не ел, – заступился я за Ануш.
– Вот, и ладно! От пуза налопаемся, – обрадовался он, и захохотал так, что кот, сидевший возле стола в ожидании подачки, стремглав вылетел с кухни.
Поздним вечером мы пошли проводить Митю, и прогуляться, заодно. Было безлюдно, тихо, не очень холодно, возбуждающе свежо от обильно выпавшего нового, ещё совсем не надоевшего снега. Спокойствие и умиротворение баюкало засыпающие улицы. Светящиеся ласково и таинственно звёзды в ночном небе, обещали назавтра морозную, ясную погоду. По дороге брат всё шутил, веселя Ануш. Когда возвращались назад, я спросил её:
– Вот видишь, как тебя приняли? Зря боялась? – она в ответ улыбнулась, и ответила:
– Как здесь хорошо, как тихо! – и добавила с невыразимой печалью, – а у нас – война! Люди каждый день гибнут, дети… – и замолчала, вспомнив, наверное, что-то своё, о чём не хотелось говорить вслух.
Несколько предновогодних дней, и сам праздник – пронеслись вихрем. Я торжествовал. Я мог позволить себе развернуться, потешить своё самолюбие, доставить радость женщине, к которой испытывал самые тёплые и нежные чувства. Я не настаивал на физической близости с ней – не хотел торопить события. Установить тонкий душевный контакт с Ануш, вот что мне нужно было, в первую очередь. Я хотел, чтобы она привыкла ко мне, узнала меня лучше, привязалась, и поняла: мы с ней – пара! Хотя, мы и целовались… С ней, наш, невероятно скучный и неказистый зимой, утонувший в снегу городок – показался мне совсем другим. Наверное, потому что эта женщина источала внутренне тепло и свет, в незримых лучах которого, купалась и согревалась моя душа.
За два дня до Сочельника, перед отъездом в Москву, мы с Ануш направились в монастырский храм – навестить отца Илию, и поздравить с наступающим Рождеством. На месте его не оказалось – он проводил репетицию с детским хором в Доме школьников. Там нам пришлось дожидаться окончания занятия, около получаса. Слушая слаженное, проникновенное пение, я умилился:
– Будто ангельские голоса… – шепнул я своей невесте.
– Очень хорошо, – закивала Ануш, – правда, у нас по-другому поют… Но, так же красиво, – и добавила вдруг, – я думала, что русские – все, такие как в Москве: злые, замкнутые, считающие себя лучше всех остальных… А оказалось, что люди у вас – совсем другие! Встретили меня, как свою. Гостеприимные, словно армяне, щедрые, весёлые. Душа открыта…
– Москва – не вся Россия, дорогая моя! В провинции – вся сила! Здесь народ добрее и проще. Не испорчен всякой дрянью… Я хочу тебе предложить, вот что: когда мы поженимся, я подкоплю ещё деньжат, и мы переедем сюда жить! Маму твою возьмём… Откроем здесь кондитерский цех, ресторанчик, дом новый построим, двухэтажный, с башенкой посредине. Там будет просторный зал с камином… В деревне домишко прикупим – отдыхать ездить!
– Ты, вправду хочешь, чтобы я пошла за тебя замуж?
– Да! – убеждённо воскликнул я, – лучше жены мне не найти! К тому же, я полюбил тебя, Ануш. И если ты дашь согласие… Я, так думаю, сыграем свадьбу в июне, и сразу – в путешествие. На юг, к морю… Потом – сюда, на недельку. Здесь летом – такая благодать, как в раю. Увидишь… – и заглянул в её глаза вопросительно.
Ануш отвела взгляд, и стала что-то внимательно рассматривать в окне, выходившем в заснеженный парк, с мрачными стволами голых и, каких-то, неприкаянных зимних деревьев, на которых густо расселись грачи и галки. Я не стал продолжать этот разговор. Пение смолкло, дети потянулись из зала, где они занимались. Я просунул голову в приоткрывшуюся дверь. Отец Илия собирал со стола ноты, сосредоточенно раскладывая их по порядку.
– Разрешите, батюшка, – негромко произнёс я.
Он быстро поднял глаза, смотревшие сосредоточенно, даже отрешённо, и в тот же миг широко и радостно заулыбался, а взгляд его сразу потеплел:
– Са-а-ша! – нараспев произнёс мой друг, – заходи, конечно же! Очень тебе рад! Молюсь за тебя частенько. У меня всегда время найдётся, чтобы побеседовать с тобой.
Я пропустил вперёд свою спутницу, и направился следом.
– Это моя невеста, батюшка, Ануш. Можно звать Аней. Приезжали на праздники к нам, с родителями познакомиться, с родственниками. И всем она приглянулась! – не удержался я от хвастовства, а, скорее, от гордости за свою избранницу.
– Радостно слышать и видеть вас, – лёгким полупоклоном ответил мой друг, обращаясь к Ануш, – полагаю, выбор Александр сделал верный, до конца земной жизни. Я ведь просил Господа помочь ему!
Ануш поздоровалась и скромно потупилась. Я подошёл под благословение. Затем, помня наш разговор перед моим отъездом тогда, весной, тихо произнёс:
– А тот брак – оказался мёртвым, батюшка! Правда, сын меня не забывает, и я его… Но, в этом году – он уезжает из России навсегда… В Америку, к матери. Она вышла замуж за американца, и уже там! Прилетала на западное Рождество в Питер, с новым мужем… Мне сын звонил, перед сам моим отъездом из Москвы, рассказывал…
Отец Илия печально покивал головой, провёл пальцами по своим усам и бороде, и кротко произнёс:
– Значит, так Ему угодно было. Браки заключаются на небесах…
– Я денег принёс, батюшка. Пожертвование на ремонт монастыря… Прими, от души даю, а не ради какой-то выгоды!
Отец Илия молча, неторопливо, равнодушно взял пачку стодолларовых купюр, сказав только:
– Спаси Христос, – добавил потом с нотками печали в голосе, – я скоро уеду отсюда, Саша. Далеко, в Сибирь… Старинный монастырь возрождать будем. Меня настоятелем утверждают. Вопрос уже решённый.
– Жаль, – искренне расстроился я, – мы ведь, ещё о многом не поговорили! А теперь, когда увидимся? Жаль! У меня не так много друзей, которые рядом… Станет на одного меньше…
– Даст Бог, встретимся ещё! Ну, а если, случая не будет, то вспоминай обо мне… Идите, благословлю вас обоих, и отправлюсь к вечерней службе готовиться.
Дома я долго рассказывал Ануш, кто этот монах, кем он приходился мне в прошлой, мирской его жизни, показывал старые фотографии, и вдруг почувствовал нестерпимый гнёт на душе, от которого, как бы я не старался, избавиться не смог…
Вечером, перед отъездом, я побренчал немного на гитаре, ловя себя на мысли: в Москву возвращаться – нет никакого желания. Взглянув на Ануш, понял – ей тоже, особо не хочется. Но, так распоряжалась судьба… Обратной дорогой, тоже, ночной и муторной, Ануш все время оживлённо делилась своими впечатлениями, чем отвлекала меня от мрачных предчувствий, чего-то неизбежно надвигающегося, и не сулящего добра. Я попытался перевести разговор на наши с ней отношения, и она ответила мне откровенно и просто, за что я был ей благодарен:
– Саша, я тебе говорила, что очень любила мужа… Я не представляла себе ни одного мужчину рядом с собой, кроме него. Он у меня – до сих пор вот здесь! – и постучала себя кулачком по груди, – это на всю жизнь, наверное. А, к тебе – я должна просто привыкнуть. К твоему присутствию… Ты – очень хороший. Я благодарна тебе за всё… Но, ты попробуй понять меня, как женщину! Я – должна перемениться… Как сказать по-русски? – с отчаянием вскрикнула она, – переключиться на тебя! Пройдёт время – это будет… Ты же, не хочешь меня сломать, я же вижу! Ты сдержал все свои обещания, честь свою… – тут она махнула рукой, недоговорив, и, почти с мольбой произнесла, – дай мне время!
– Не бросай меня только, – глухо проговорил я, растроганный таким порывом откровения, – мне очень тяжело, я, как будто, задыхаюсь. А ты – глоток воздуха …
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КОНЕЦ МОСКОСКОЙ ЭПОПЕИИ.
«Всё это – было, было, было.
Свершился дней круговорот.
Какая боль, какая сила,
Тебя, прошедшее, вернёт?..»
А. Блок
1.
Приехав в Москву, я сразу же позвонил Витину.
– Ну, наконец-то объявился! – возбуждённо закричал он в трубку, – завтра, прямо с утра, шуруй ко мне на дачу! Знаешь, где это?
– Помню, не заблужусь… Ч то за спешка-то?
– Не по телефону! Будь один. Разговор – не для лишних ушей. Дело предстоит архисерьёзное, как говорил вождь вождей. Будешь выезжать – позвони. Всё, жду! До завтра…
– Ясно, – коротко бросил я в трубку, и стал ломать голову над такой необыкновенной взвинченностью Гарика, но объяснений, сколько-нибудь вразумительных, не находилось.

