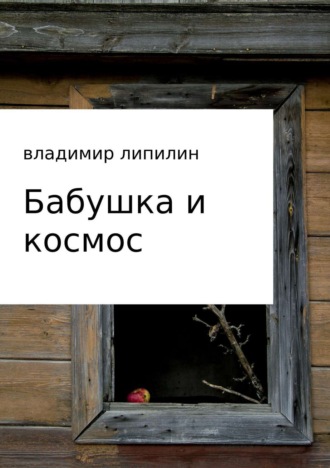 полная версия
полная версияБабушка и космос
Бабе Тане Максимовой была Катя дочь. У Кати отсутствовала членораздельная речь (только умное мычанье), она не попадала ложкой в собственный рот. И так с детства.
Днём, если тепло, Катю можно было видеть сидящей на скамеечке под белёным окном. Она о чём-то думала и раскачивалась, как великий тренер Лобановский.
Иногда Катя брала в левую руку упавший с ветлы под ноги ивовый прутик, и рисовала им в пыли. Какой-то огромный глаз, а в нём линии и ракету. Бывало, такими рисунками она доводила себя до исступления, рисовала, на что-то указывала, раскачивалась, обхватив грудь, и выла. Поэтому баба Таня, прежде чем усадить Катю на лавочку, убирала из-под ног все предметы, любой сор, которым можно было произвести графику.
За поспевшими яблоками или сливой из соседней деревни приезжали на великах пацаны. Они были старше, нахальнее, и какие-то более житейские, что ли, чем я.
Если Катя была на посту, а баба Таня где-нибудь в огороде, они просили:
– Кать, покажи цветочек.
Катя охотно задирала юбку, раздвигала пышные белые ляжки. И так басовито смеялась, смеялась, что даже те пройдошные пацаны убегали.
Всю жизнь Катя была главной привязью бабы Тани. Муж умер от ранений в конце войны. А Катя родилась в самый День Победы. Если баба Таня куда-то отлучалась надолго, бабушка шла к ним в избу и жила с Катей, кормила её из ложки.
И вот Филин предрёк, наухал, «выписал» от силы «вот это лето, осень, ну, может, зима». И та готовилась.
А в августе, в самом конце, сгоношила всех аборигенов на футбольный матч. Мы с июня уже не играли, и надо же было как-то закрыть сезон, закончить эту историю.
На лугу – табуретки, калоши, ковёр с оленями, тяжелый, но прохладный на ощупь; стол, два ведра и аптечка с валидолом да нашатырем. Баба Таня – мой любимый хавбек. Дед Куторкин, как обычно, соскочил на судейство. Зато все остальные заведённые.
Из зрителей две козы, привязанная лошадь Аня, вернись. И Бог.
Баба Нюра Чёрная постоянно нарушала правила, дед Куторкин на свой страх свистел, а та каждый раз обещала проверить, полезет ли этот свисток в дедову глотку.
Бабушка стояла на воротах нашего с Таньжой соперника в варежках и потихоньку распускала их – «всё равно моль пожрала, перевязать надо».
Таньжа, мой прекрасный хавбек с живым раком в организме, ловила летящий мяч фартуком, оттопырив его за два конца. И когда мяч туда падал, неслась, как оглашенная, калоши сверкали на солнце, шерстяные носки, как гетры в полосочку, торчали из них. Баба Таня вываливала мяч «из подла». Как допустим яблоки или грибы. И аккуратненько, «щёчкой», закатывала его мимо распускающей варежку бабушки в левый нижний угол.
– Это не по-футбольному! – голосила Чёрная. – Слышь ты, чертов судья? Это не по-футбольному. Штрафани эту гадину.
Дед Куторкин разводил руками: мол, касания ладоней не было, чо я могу? Разве что зафиксировать пробежку, но это ж и не баскетбол вроде. В общем, на почве этой английской игры старухи ссорились вдрызг, невольно начинали играть в вышибалы. А Катя сидела на табурете под деревом, ухахатывалась, и, повизгивая, хлопала в ладоши. Ей нравилось всё, ей нравилось все до умопомрачения.
Дед Куторкин, решивший пресечь безобразие, типа: вы в футбол играете или дурака валяете, был нещадно закидан калошами и прочими артефактами, попавшими под руку.
Потом все пили эмалированными кружками воду, отдувались, унявшись, улыбались и обсуждали со смехом самые горячие моменты.
Так закончилось лето. Минула осень. Зимой, готовясь на небеса, баба Таня отвезла Катю в дом престарелых. Та сперва объявила голодовку, но, видно, таких там уйма, и с ней не особо чикались. Каким-то чудом она умудрилась сбежать. Нашли её весной, когда оттаяло. Километрах в десяти от деревни, в омёте соломы. Прижалась спиной к туловищам хлебных стеблей, и застыла с блаженной улыбкой.
Баба Таня, горем убитая, долго лежала под образами и умирала. Оставалось-то совсем чуть-чуть.
Но всё же ничего не вышло. Похудела только килограммов на двадцать.
Потом она ехала с бабушкой на «Запорожце» в районную больницу, шла по коридору и звенела медалями. В кабинете баба Таня протянула листок бумаги, ручку и тихо сказала доктору:
– Пиши число, когда я умру. Весна уже прошла, я все летние платья раздала, мне зимой обещали. Нигде порядка нет, ничо до конца довести не умеют.
Потом её обследовали повторно, сказали:
– Ну, надо же. Так не бывает.
Баба Таня плюнула и вышла замуж.
Никакой свадьбы, конечно, не было. Была просто гулянка, которая у старух отождествлялась не с пьянкой, а с возможностью прожить весело ещё один драгоценный земной день. Столы накрыли прям под небом. Частушки пели, просили меня включить на кассетнике что-то ещё, только не Надежду Кадышеву. Я втыкал им Deep Purple.
– Ничего такая музыка, бодрит, – говорила баба Таня. – Как группа-то называется?
– Глубоко фиолетово.
– А? – переспрашивала она.
– По фигу, – вольно переводил я.
Козы тырили маринад прямо с тарелок, дед Куторкин строгал из толстого ивового прута третью свистульку. И солнце долго-долго о чем-то шепталось с чьими-то тенями в малине.
А утром я пошёл за фонарём. Стол был не разобран. Пахло салатом и морем. В соседней деревне, как бурятский шаман, козырно владеющий горловым пением, заработал гудок коровьей дойки. Под столом поверх множества пыльных следов прутиком был прочерчен огромный глаз.
И линии в нём.
То ли провода, то ль дороги.
Ракеты не было. Улетела.
Одна-жды
Я перевязал бечевкой стопку книг, привёз их в деревню.
Бабушка глянула и отшатнулась.
– Ой, болезный, все-то прочиташь разве?
Я усмехнулся, потому что делать это вовсе и не собирался.
– Жизнь как мышь по столу – шмыг. Сапогом кинуть не успеешь. А и успеешь – только горшки побьёшь. А тут книжки, ала-ла одна.
– Как ты говоришь?
– Ала-ла. Ну, эт когда человек становится вроде как с приветом. Ну, ку-ку значит.
– А вот и я, – завозился у порога дед Куторкин. – Звали?
– Вот те пример, – вполголоса ответствовала бабушка, – небось, три тракторных тележки да ЗИЛ с прицепом книжек за свою жизнь прочитал. А толку? Бошка пуста? Опыт он из жизни все равно, а не из бумаги – хрясть в ухо.
Дед Куторкин покосился на мой тюк, выудил оттуда «Современный русский язык» под редакцией Дитмара Эльяшевича Розенталя. Нанадолго завис над фамилией.
Положил узенькую рамку с медом, завёрнутую в газету на стол, а учебник попросил на время. Я дал. Говорю же: не собирался читать, взял для успокоения совести: мол, будет дождь, тогда и…
После этого старик регулярно являлся и докладывал.
– Любопытная такая книженция. Существенная.
– И неопределенно-личная, – пытался пошутить я.
– Чо? Ты знал, например, что язык, словарный запас может рассказать о человечестве больше, чем целая орда социологов и психологов. По языку же, например, можно судить в каком общество состоянии находится.
Или вот такая сцена, придет вроде как по делу:
– У меня тут версия родилась. Проснулся я сегодня утром и подумал о происхождении, этимологии, так сказать, некоторых числительных.
– Етитский дух, – перебила бабушка. – Проснулась я утром и тужу, прям тужу: двадцать дён вёдро стоит, дождя ни капли, картошку сразу жареную будем копать, а он про происхождения всякие. Числительные хороши, когда ими можно как уж это? (она соорудила из пальцев щепотку, пожамкала ею, подыскивая нужное слово) апеллировать. Во!
Дед Куторкин не ввязывлся в словесное это фехтование, он мнил себя выше этого. А то нет – почти филолог.
– Ну и вот. Я подумал: есть числительные однажды, дважды, трижды. Тогда как четырежды, пятижды, шестижды – таких попросту не существует.
Он посмотрел, как бабочка бьется в окне, на самом деле паузу выдерживал.
– И почему же это? – с некоторой досадой, что приходится вроде как канючить, задавать вопрос этому вечно умничающему старикашке, зануде, произнесла бабушка.
– А вот, – встрепенулся дед. – Не исключено, что раньше четверть русского самогона называлась «жды». Собирались мужики и квасили. Одна-жды, два-жды, три-жды. После этого, как правило, на ногах не стоял никто, поэтому числительных четыре-жды, пяти-жды, а уж тем более шести-жды не существует.
– Не поняла, – застыла бабушка. – Так это правда, штоль, про четверть иль нет?
– Нууу, это так, – юлил дед. – Фигурально выражаясь.
– Тьфу на тебя четырежды. Чирий на язык. А я поверила, уши растопырила. Хотела слова про мочу в твоей голове обратно взять. Теперь, чую, добавить надо.
Дед Куторкин весь июль месяц да август мусолил учебник – междометия там разные, но больше ему нравились глаголы. В них, говорил он, пружина жизни.
– Так интересно, за существительными предметы, за глаголами – действия, все, все в мире имеет название и значение. А потом человек офигевает и начинает врать, и за одними словами уже совсем не то видится. И каша у людей становится в голове. Слова слабыми становятся, а значит и поступки. Я вот представления не имею, как будут люди общаться, скажем, лет уже через тридцать. Кому будут верить? Без этого же сбрендишь и рехнёшься.
В ту осень бабушка решила задержаться подольше. И семестр в универе был такой – благоволящий. В пятницу – одна пара, и то – лекции. Я брал железнодорожный билет на четверг, и все последующие дни он жег мне карман.
А в четвёртое утро недели просыпался – и беспричинное счастье.
Мы копали картошку и находили в бороздах глупых ещё совсем зайцев. Затаится, уши к спине прижмёт, нос в лапы, думает не видно, терпит до последнего, может, мимо пройдёшь. А тронешь – вспыхнет, точно порох, сиганет с места, порвав материю земную, а потом в пустом поле далеко видно как прыгает, зависает в полётах.
А в полях как будто таяла к середине дня, а потом опять густела синяя дымка.
В октябре хороши были походы за последними опятами. Солнце ещё только один глаз приоткрыло, а мы уже лес прочесываем. На спинах брезентовые рюкзаки, из воздуха можно рюмки делать, графины, пузыречки, бутылочки. Сами опята у зеленых махровых корней дуба, как произведения стеклодувного искусства – хрупкие. Шмыг ножичком – полведра. И звенят.
А к обеду лужи демонстрируют своё волшебство. Горят тихо, как керосиновые фонари. Потому что дно их выложено осиновыми листьями – красными, оранжевыми.
Ходим, ходим. И вот привал. Найдем берёзку поваленную, костёр растуганим. Консервы погреем. Хлеб – половину каравая, завернутого обязательно в полотенце, «рушник» как прислоненную к груди луну, бабушка режет нераскладывающимся ножиком, по направлению к себе, а не на газете вовсе. Чайник – маленький, походный, закопчённый танцует уже крышкой: обед, обед, пожрём щас. Стаканы у нас с подстаканниками. Я сейчас думаю: и охота было всё это волочь бабушке на себе? Но ведь это было не только красиво. Что-то таилось в этом действе еще – нужное, необходимое.
Набираем по корзине и чешем, у каждого из нас именная палка для пеших походов. С узорами какими-то мордовскими – дед Куторкин делал.
Бабушка любила такие длительные походы.
Она говорила:
– Человек должен быть постоянно занятым, пахать физически. Преодолевать себя, в общем. Каждый день. Это удивительная штукенция. Когда не хочешь, а надо, и ты делаешь. Преодолеешь себя – радость к жизни подкопишь. Когда можешь что-то делать руками, это всегда плюс. Когда умеешь дружить с дорогой – плюс жирный. Вот я в город приезжаю… И как-то к их жизни все ж приспосабливаюсь, могу жить в их среде, а у них свет выключат, компьютеры эти сдохнут – они в нашей вряд ли.
По возвращению, очистив добычу от сора и трав, бабушка на чугунной большой сковородке жарила картошку с опятами. И запах стоял! Разложив всё куда надо, она ставила две стопки (да, мне уже было иногда можно пригубить с нею, тайком от родителей), ныряла в подпол и подавала мне бутыль с крупинками земли.
– Одна-жды, – улыбалась и тихонечко чокалась со мною, как со взрослым.
Приходи ко мне поплакать
Когда старухи впадали в кручину, они яростно метали в амбарную дверь финские топоры:
– Хэйя!!!
Дед Куторкин собирал шитый-перешитый брезентовый рюкзак и шёл в лес.
С недавних пор лес стал для него субстанцией родной и метафоричной. В нем всегда можно было найти подтверждение тому, что природой (то есть Богом) все так досконально продумано. До мелочей. Что просто смотри, вникай, запоминай, не мешай и будет тебе, если не счастье, то уж покой-то обязательно. Ну и воля.
Сыромятиной к высоченной красной сосне были прилажены крепкие палки, что делало ствол подобием лестницы. А там, в кущах, где дед оборудовал на американский манер целый дом, он сидел в мягоньком кресле, подпоясанный страховочной верёвкой, и зырил в бинокль. Простор открывался широкий – плывущий у горизонта воздух шевелил дали, холмы, поросшие сосной и дубом. И кусок дороги.
Иногда Куторкин убивал время так до ночи. И не один день. А случалось – «везло» сразу.
Свист тормозов, звон стекла, глухие удары от кувырков и наконец, – тишина. Отличительная от нормальной тишины – немая. Дед Куторкин быстро, насколько умел, сигал с сосны, вприпрыжку чесал к месту аварии.
Говорили, что изгиб, кусок этой, в общем-то, глубоко второстепенной дороги являлся собственностью силы нечистой, колдовской. Которая на удивление быстро управлялось с ямочными ремонтами, и не клянчила денег у государства. Гладкая там всегда была дорога, катись.
Ели человек в машине оказывался ещё живым, дед совершал первую медпомощь, и по мобильнику хозяина вызывал скорую.
Сам уходил.
Если же человек делался трупом, дед какими-то цепким, волчьим взглядом обозревал периметр, ловким движеньем обхватывал покойного за запястья, и тащил на спине к лесу. Там уже из орешника готовы две слеги, посередке – большая ветка сосны. Шесть километров без дороги, но и не по валежнику, тайной тропой, Куторкин тащил водилу через ручьи и балки. Не забыв, впрочем, прихватить из автомобиля документы усопшего.
Иногда с разбившимся приходилось повозиться – двери клинило. Но в рюкзаке у деда имелись странные приспособления, да и сила еще не покинула.
В деревне старухи покойного мыли и обряжали в допотопные, пропахшие плесенью одёжи. И радовались, радовались:
– Наплачемся теперь вволю! – блестели глазами они.
Дед же Куторкин шёл в сад, усаживался на яблоневый пенёк и дышал в закат. Дыхание было видно.
Куторкину казалось, что ничего кроме вот таких вот походов у него и не было в жизни. Ни молодости бахвальской и желаний перевернуть этот мир, ни блужданий по стране в поисках счастья, ни старух потом, которые и не казались вовсе старухами, и он играл с ними и с их внуками в футбол, ни кобылы со странной кличкой Аня, вернись. Ему казалось, что он давно сошёл с ума, или спит. И всё ему снится.
***
Дед Куторкин исчез из нашей деревни внезапно, когда кончился август. Исчез и всё. Не заперев двери, не сказав ничего на прощанье. Мы искали его везде. И только племянник, кажется, был происходящим не очень опечален. Как-никак дом достался, хоть в глуши, но всё же – кирпич бордовый, прочный, с клеймом. Влёт уйдет. К тому же, амбар, телескоп, велосипед – наберется добра. Виниловые вон пластинки. Разные там негры – Монк и прочие. Одних лыж семнадцать пар. Не ахти какое, но наследство.
Наутро Куторкин колотил для покойного гроб. В последнее время он заметил, что делает это даже с большей любовью, чем лыжи. Хотя нет, все-таки нет. Крышку гроба по настоятельному желанию старух он сооружал с маленьким оконцем. Так покойный, утверждали бабуси, типа как в трамвае мог ездить с того света на этот. И сообщать новости. Ага, кому-нибудь. Из них.
Куторкин не спорил, он вообще явился сюда, чтобы немножечко продлить старухам жизнь. Он шел без расспросов к одной заброшенной (а других и не было) на краю леса избе. Там бабки чинили ритуал. Поджигали глухариные крылья, дед становился затылком на запад, закрывал глаза, а они его этими крыльями окуривали. Размазывали по нему дым. Потом ставили лицом к сеням и с размаху – Хэйя, втыкали в доску над его башкой два топора. После этого старику дозволялось зайти в «адову избу», где стоял вполне себе сносный компьютер по имени Maк.
– Цифра кругом, цифра, – кружились старухи.
В компе торчал чёрненький модем. Дед шерстил социальные сети, блоги, ворошил «яндекс» в поисках упоминаний о покойном. И вуаля.
Старухи, впрочем, и так могли погрузиться в транс плача.
– Плакать ныня над любой человечей душой можна, – говорили они.
Но все ж необходимы подробности пусть темной, но жизни. Нужны были детали.
Все добытые сведения Куторкин обсказывал двум сёстрам. И они начинали. Три дня с отлучкой на «сикать и пить» плакали, исцарапывая криками души свои, рыдали. Пока не падали и не засыпали. Откуда только слез столько?
Дело в том, что старухи были деду Куторкину сёстрами, мордовскими кузинами.
Одна имела диплом осеменителя крупного рогатого скота, другая – служила мирным почтальоном и любила втыкать в деревья финские топоры. Но в обеих старухах сидело то, что было больше их профессии и навязанных социумом привычек – традиция и память. Матери научили их когда-то плакать. Вот по сути своей они ими и были – плакальщицами. От матери к дочери переходило это умение. Свадьба – их зовут, они оплакивают свободу. Не притворно. Не понарошку. А вводя себя в этакий транс, из которого выход – двое суток мучительного бреда и боли. Похороны – за ними на лошади или машине едут. Узелок всегда готов. Хорошей плакальщице заранее говорили:
– Приходи ко мне поплакать.
Их уважали порой даже больше колхозного бухгалтера или председателя.
Это как песня для них или былина, только в надрыве все, мокрое.
Сталин умер – маменьки семь дней плакали. Брежнев почил – уже сами сёстры дедовы причитания сочиняли – не на бумажке, в голове. Никаких канонов. В каждой местности по-своему. Фольклор. И потом на каждый случай – плач разный. Сам человек приставился, без посторонней помощи – одно. Громом убило – другое. Коли с перепою концы отдал – третье.
А в быту как положено – антагонизм. Смешливые были сёстры Марьяна с Урсулой. Сено мечут в копны – мужики кряхтят, а они языками, что бритвой орудуют. Впрочем, и мужья под стать. Ни одного угрюмого.
А как приезжают – аде, урницят. Прямо сразу перевоплощение дикое.
Все свое неудавшееся, непоправимое, саднящее вспомнят, про покойного подумают и рвут воздух так – кошки в обмороки падают. Даже самая старая выпь с озера не сравнится.
В день третий деда впрягали в телегу, гроб с покойным на сено. И горестно, и смешно. И вот это всегдашнее: мы-то пока еще живы.
Дед Куторкин копал могилы загодя. Называл это физкультурой. Когда появится покойник, за три дня много чего надо успеть сделать. А тут ещё могила. А каждый день для разгона крови – это ничего. Это даже бодрит. И веночки от ветерка шелестят. Друганов проведать можно, крапиву с них порвать. Посидеть, вспомнить хорошее.
С кладбища шли – старухи круги чертили ножиком, чтобы смерть за ними не следовала.
А на другое утро деду Куторкину надлежало стать заместителем. Ну, покойного. Вообще-то полагалось напялить на себя его одежды, но поскольку все было инсценировкой, он оставался в своем, шапку с какардой милицейской только напяливал. Сидел, выпивал самогон, сотворенный старухами из еловых шишек, и заливал им про загробный мир байки. Иной раз так рассочиняется, что и сам поверит. Расчувствуется.
А потом старухи пели. А дед Куторкин смотрел на них и умилялся. Щека то и дело срывалась с кулака, который ее подпирал.
Эпилог
В декабре снег рассыпчат и дивен. А у бабушки всегда к нему пиетет:
– Когда идет снег, – говорит она, – то, кажется, что и гадостей в мире нет больше.
Я катаюсь на лыжах с крыши нашего дома. За неделю, с той стороны, где сад, а за ним среднестатистическое русское поле – наметало сугробов под скатную жесть. Проделав лыжню прямо в лощинку, мы с бабушкой довершаем ее трамплином из негодных листов шифера, засыпаем снегом, смачиваем водой. Это угарно и весело.
Бабушка стоит в сторонке и смотрит на меня, заснеженного. Потом не «вытерпливает», тащит из сарая свои коротенькие, «летящие» по выражению деда Куторкина.
Раз скатывается со мною, потом ещё один. Щёки её становятся румяны, белее снега прядь выбилась из-под пуховой шали. Сели на ребристую вершину крыши, откуда в обе стороны скаты, а с торца венчает конек, труба рядом. Пахнет жизнью, теплом. Рядом с нами откуда-то появляются дед Куторкин, в ватных штанах и ушанке с милицейской кокардой, баба Таня Максимова, Чёрная, Катя. И все, все, все. Даже баба Поля – улыбается, не ворчит вовсе, типа:
– У, вражины, всю жесть мне щас проломят.
А внизу, мимо сада, по полю, утопая в снегах, идут дети наши, жены, кого любили и бросили кого. Многие, по правде говоря, сами ушли. И кажется, что правильно сделали. Мы машем им варежками с ледышками и хохочем:
– Лезьте к нам, лезьте к нам.
– Не, – качают они головами. – Дел много. И потом, мы-то ведь… пока ещё живы.
А мы хохочем, ржём прямо, остановиться не можем:
– Вы уверены?

