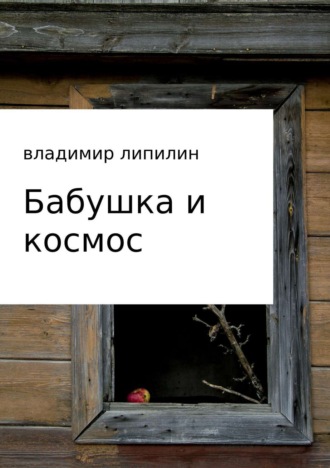 полная версия
полная версияБабушка и космос
– Вот дед, он умел, – вспоминала. – Грамотный, учёный, чё ж. Булгахтер. Говорливый, как будто задницу куриную съел.
Бабушка отчего-то считала, что именно эта часть куриного существа рождает в человеке ораторские способности. Если вдруг мы приводили на её антинаучные воззрения где-то вычитанные «весомые» доводы, она отмахивалась немного даже с обидой:
– Пускай, пускай. Глупая я. Чё с меня взять – старуха. Вас-то вон не переспоришь, говорить нынче все горазды, будто курину жопу съели. Ха-а-а-а.
– Есть кто живой? – спросил из сеней дед Куторкин, хотя слышал: бубним.
– Не сомневайся, – сказала бабушка, – хватай добро и драпай.
Чё это вы тут делаете? – мягко, как кот дед подошел в шерстяных носках, надо мною наклонился.
– Книжки нюхаем, – ничуть не смутясь, сообщила бабушка. – Один дурак зачал, вторая подхватила. Иди и ты к нам, третьим будешь.
– Во дают. Весь прогрессивный мир давно на клей перешёл, а они – книжки, – он был в ударе. Причем отнюдь не поэтическом.
Утром племянник привёз металлоискатель. Научил. Говорит, у вас тут, поди, алюминий какой, цветмет, клады?
– Вот тоже, да? Нашёл поместье, – усмехался дед Куторкин, и замер в ожидании. Хоть говорил, что про клад под нашим домом ерунда, брехня, но все же хотел сам попробовать, удостовериться.
– Ну и вот. И целый день у меня в ушах: динь-динь-динь. Беру лопату, а там бляха… в смысле от ремня солдатского. Опять динь-динь-динь – ага, самовар, да с клеймами, 1840, 1841 год. Я дальше. И вдруг как зазвенит! Ну, я решил лопату побольше взять, глубоко. А забыл, что это Володя Лупан в 76-м тут к амбару своему тайком провода кинул, двужильные медные – красота. И кээк дерганёт меня и как начнет колбасить, думал, глаза выпрыгнут. Хорошо, племянник проснулся. Взял весло у забора и так шарахнул мне по плечу (он показал шишку-синяк, где наколка). Но спас. Короче, я по делу.
Бабушка ещё раз нюхнула книгу на сгибе и захлопнула с некоторым недоумением. Мол, нету способности у меня к этому нужному, необходимому занятию. И ладно.
– Раз уж оставил мне племянник этот прибор ещё на день, может, поищем ваш клад?
– Вот не поняла, – произнесла бабушка.
– А чего понимать. Все знают, что свекровь твоя, ну, что в этом дому жила, была мелкопоместная дворянка. И золотишка у нее было нехило. И говорят, что перед приходом сюда советской власти, она в подполе-то в вашем всё и зарыла.
– Чирьяк там, а не золото, – сказала бабушка. – Жаба живёт, чёрная, с башку твою непутевую.
Но Куторкин умел уговаривать.
– А хотя – валяй, – сказала бабушка. – Поди, предохранитель от приемника найдешь, на прошлой неделе упал в щёлку.
Притащили мы две переноски. Развесили жёлтые лампочки на гвозди. Две лопаты кинули. Дед Куторкин бережно пронес в темное нутро прибор, который поджидал его в сенях. Наушники напялил. И сразу мероприятие потеряло всякую серьёзность. Дед в наушниках – этакий престарелый лысый чебурашка.
В подполе было прохладно и пахло ссохшейся землей. И ещё чем-то. Странным, потусторонним. В детстве ощущений этой потустронности больше. Может быть, потому, что не успел забыть ещё, отдалиться от того мира? Из которого пришел. И уйдешь потом.
Вдруг с другой стороны подпола что-то зашевелилось. Засквозил холодный ветерок, мёртвые корни трав, ещё торчавшие кое-где, шевельнулись. Я подумал: сколько же лет они не видели солнца? Там кашлянули. Я заорал, попятился, наступил на ногу деду, он тоже заорал, не снимая наушников. Осветили фонариком, там стояла кадушкоподобная Чёрная.
– Клад ищете? – не обратив ни малейшего внимания на наш переполох, поставила на утоптанную землю, по которой ходили ноги ещё прапрадедов наших, стул с высокой спинкой рококо, плюхнулась на него.
– Я с вами.
Села. Нога на ногу, мужицкие пальцы сомкнув на колене.
– Копай!
Бабушка же, будто не веря в то, что мы можем там чего-то такое отыскать, уселась в доме, на пол, свесив ноги в шерстяных носках в творило. И так болтала ими.
За два с лишним часа работы мы нашли: велосипедную старинную фару, два замка амбарных, ещё кованных вручную, безмен, пудовую гирю, коробку заржавевших в комок пишущих перьев, длиннющие петли от сундука (тоже кованые), но не сам сундук, ну и по мелочи: три гильзы от СВД…
В одном из углов дед Куторкин обнаружил камни. Я выкапывал их лопатой. Камни были разного размера, но гладкие, будто над ними потрудилось море.
Вдруг как спохватится бабушка:
– Ах, ты ж. Это же китешка.
– Чё? – пробасила Чёрная.
– Помнишь, Дарью-то (так звали бабушкину свекровь, а мою прабабку), она всё камни носила. Её спрашивали: зачем? Слова, говорит, это, китешки. А словами этими можно и дом построить и от врага оборониться. Я ничё не поняла тогда. И щас, признаться, не знаю, накой они мне.
– А кто по национальности-то она была? – спросил дед Куторкин.
– А кто ж её знает, – вещала бабушка сверху. – Когда помирала, всё бубнила: чудь, чудь. Я себе думала: чудила ты, а не чудь, сколько крови из меня попила. А она ж перед большевиками хотела в Беликов овраг уйти, к озеру. Вырыть там, на берегу, себе землянку такую, как будто нору лисью, под холмом, подпорки из беревен установить. А как враги придут, убрать подпорки и аля-улю. Но Василий, дед твой, не пустил. Зверская была старообрядка, камни вот эти палкой проверяла, когда ей их привозили. Хрясь – если расшибёт, то тому, кто привёз, по горбу этой палкой. И твердила все: китешка, китешка.
– Может, Китеж? Ну, который вроде под воду ушёл, а на самом деле, люди древние те, как и свекровь твоя, подпорочки в землянке (они тоже специально их перед смертью или перед приходом врага строили) у озера топориком хрясь, – сдвинув один громоздкий наушник с уха, предположил дед. Из оттопыренного этого наушника грянула музыка, дед кинул их о землю испуганно, как черную жабу, попадись она случайно ему в ладони. Голос из наушников пел:
Нам уже не нужны глаза твои,
Нам уже не нужны глаза твои,
Побывали уже в глазах твоих,
И всё, что нам нужно, взяли.
– Йех ты, железяку цепанул, фонит как, – дивился Куторкин. – Будто антенна работает.
Мы помолчали. А Чёрная, слывущая по утверждениям механизаторов из соседней деревни ведьмой, ибо в лунные ночи летает над полями и лесами в колесе от трактора «Беларусь», ничего не сказала. Только на пальцы свои дохнула: «Ха-а-а-а».
*«Кит» – древний, известный во многих финно-угорских языках корень, обозначающий – «камень». «Китешка» – «к камням». Говорят, у некоторых финнно-угорских племен, в частности -чуди белоглазой, существовал такой обычай: строить на берегах рек, в промоинах, некие подобия землянок, укреплять их крыши с помощью деревянных подпорок. Делалось это для того, чтобы старики, чувствуя приближение смерти, уходили туда, выталкивали подпорки и, таким образом, хоронили себя, зарывали камнями, «китешками» . Кроме того, «китешками» стали обозначать так же чужеродные слова, обряды и религию, которые приносили финно-угорским племенам племенам племена другие. А вместе с ними зачастую – боль, разбой и горе. И тогда не только старики уходили в эти землянки и хоронили себя заживо… Но не принимали другую культуру, обряды, язык. Некоторые ученые склонны полагать, что именно так и возникла легенда о граде-Китеже.
Чем пахнет космос
В праздники деревенские бабки по очереди топили баню. Соломенная, похожая на мокрую курицу, она кособоко тулилась по ту сторону озера. А сразу за ней и крапивой начиналась кочковатая степь да заливные луга.
И вот пока мы таскали воду, выливали в чаны – там, за старым срубом с осыпавшейся из пазов глиной, не умолкали чибисы. Бестолковые, хохлатые птицы, родившиеся, кажется, с единственным вопросом к существу человеческому.
– Чьи вы? Чьи вы? – пищали они, с таким императивом, надсадой и ноткой тоски, будто и правда знать это им было позарез необходимо и интересно. Любой ответ – шуточный или серьёзный был, конечно, неправильный. И они продолжали, не сбавляя.
А мы весело расплескивали из вёдер в кеды небо. Гадали по дыму, какой к сумеркам будет клев.
Старухи мылись. Затем бабушка с тяжелой одышкой, в ночнушке до пола, купала нас. Воздух в предбаннике измерялся в промилях, а солома под ногами казалась масляной.
И уже после в чьей-нибудь избе начиналась гульба.
Дед Куторкин по обыкновенью чудил. Старухи вторили ему. Миха дрых, а я на грани какой-то зыбучей реальности слушал разговоры. И что-то тихо щекотало от голосов внутри головы, в темени. Словно там, под черепной моей коробкой, ходил, терся о косяки мыслей кот, выписывал восьмёрки, толкал лбом в бесконечность и приятными мурашками трещал, щурился.
После яств и самогона, они играли в карты, вспоминали, спорили. И если потом шли на воздух, то тем всё и заканчивалось. А если поддавали ещё малость, то переходили в стадию песен, а потом по традиции плача. Дед не любил этого, отчаливал.
Конечно, в детстве мир настолько же преувеличенно прекрасен, насколько и трагичен. Всё на пределе. Но когда за плач брались бабки, у каждой из которых такие неподъёмные узлы горестей и печалей на палочке, перекинутой через плечо, то вообще была полная уверенность, что все скоро кончится. Что будущего нет и мы никому не нужны.
«Ничьи мы»!
Обычно в этот момент я рыдал, а Миха начинал гнусно портить воздух и утверждал потом, засранец, что он это вовсе не специально.
Или в кухне случайно брал с полки самую нижнюю тарелку из стопки. Видимо, он тоже не выносил ни песен, ни плача. Нужен был какой-то диссонанс.
А однажды в такой пир нас дома не было, мы туда из леса возвращались. Сквозь распахнутые рамы элегично выводила Марина Журавлева «Облаками белыми, белыми».
Потом включили ламбаду… Имелась у нас на магнитной пленке такая вот роскошь. Бабушка очень даже прилично могла исполнить это латино. Дверь в дощатый погреб у соседского дома была незаперта. Мы заглянули. От стрёхи в темень уходила ужом веревка, покачивалась. Когда глаза привыкли, мы узрели бабу Полю.
Она повесилась.
Миха был расторопнее, схватил ржавое лезвие косы, заткнутой за горбыль погреба, рубанул по витому. Бабка свалилась.
Прибежали старухи, вынули её и, как это ни странно, она выжила. Баба Поля сидела на траве возле дома в одном галоше, совершенно чумная, раскачивающаяся ещё в ритм веревке. Морщась, пила маленькими глотками воду из ковша.
– На губах прям горечь, как угля наелась, – сипло почти шепотом говорила она.
Позже она поведает, как летела уже куда-то, как скорость была такая, что она от ужаса прикусила язык.
– Эхе-хе, Царица небесная, – выдохнула бабушка. Только она могла с такой интонацией сказать эти простые слова так, что в них, произнесенных, умещалась целая книга под названием «Исход». И весь человек – земной и небесный.
Бабка Поля – тщедушная, сгорбленная, сухая жила в соседнем доме с бабкой Нюрой, которой приписывали колдовские навыки, и у которой была лошадь по кличке Аня, вернись.
Анна Михайловна была властная, могучая, крутая. Бабка Поля – временами занудная, тихая и вечно в работе.
Иной раз смотришь в поле – стог сена вроде бы сам по себе идет. А нет. Это бабка Поля его на спине волочет. А зачем? А накосила. Сгодится, чай.
Ей никогда не нравились наши с Михой прыжки с крыши амбара, на фургон-каблучок «Москвич», который стоял без колес и служил нашему Шарику довольно просторной конуркой. Мы шумели железом. Не нравилось, как мы в навозной куче запалили как-то костёр, и из гудрона в обычном ведре с добавлением козьего молока, пытались состряпать настоящую жвачку. Она ворчала на наших родителей:
– Выдриснут одного-двоих (имелись в виду дети) они потом и вырастают нахалами.
А весь тот день она ходила такая нездешняя, светлая.
Нам была тогда притягательна смерть, и мы хотели расспросить её подробней о полёте туда, в вечность, но не решались.
А вечером с дедом Куторкиным мы катались на свинье. Ну, пытались получить родео.
Жирная Глаша с висячим подбородком так взбрыкивала, так визжала, и, когда мы валились с неё, убегала за амбар. Оттуда высовывалась, смотрела на нас ничего не понимающими глазками партийного функционера. Будто спрашивала:
– Чего вам, гадам, надо-то. Объясните, я поднатужусь, сделаю.
Мы загнали её, пылающую, к деду во двор.
Шел август. Даже не шел, а рушился. Звездами в полынь.
Мы сидели на скамейке перед домом и считали их, не успевая загадать ничего путного.
– А я в воспоминаниях Армстронга читал, – вспорол тишину дед, и опять сделал вертикальным козырёк от картуза, – у наших космонавтов тоже. Что углем там пахнет, сваркой и железной дорогой.
Тихо, неспешно, вразвалочку шествовали друг за дружкой две медведицы – большая и поменьше. Чибис пролетел. Но ничего у нас так и не спросил.
Светопись
К осени небо предпочитало очевидный монументализм. Облака делались громоздкими, медленными, задумчивыми. Как будто бы разочаровывались в чем-то, во что верили, любили чего…
Дед Куторкин перебирал свои могучие закрома и обнаружил в них фотоаппарат. И не какой-нибудь там ущербный «ФЭД», или «Этюд», а самый что ни на есть «Зенит».
Немного запыхавшийся, но, впрочем, унявший бешеное биение сердца, он с достоинством вырулил к нашему огородному чугуну. Бабушка на костре свиньям варила:
– Я так и знал, – крикнул он, – я так и знал! Мы запечатлеем умирание нашей деревни красиво. Словно это и не деревня вовсе, а великий индейский штат Айдахо или, скажем, поселение Мачу-Пикчу.
– Мощно выступил, – бабушка выплеснула в бурьян ведро с отходами. – Только кто это – мы?
– Мы… мыслящие, прогрессивные индивиды.
– Тьфу, – сказала она и ушла.
Дед Куторкин меж тем не угомонился. Он сел на велик «Десна» с лысыми покрышками, помчал в соседнее село, два раза упал по пути в кукурузу, но покрышки тут ни при чём. Просто, ошалев, дед пренебрег закалыванием брючины посредством бельевой прищепки. Так делало все прогрессивное мальчишество. Ездил дед на ферму, только в её благоуханных интерьерах имелся тогда ближайший телефон. И там под добродушные звуки му старик Куторкин обсказал свою нечаянную радость недоуменному племяннику. Через день тот привез четыре волшебные коробочки с загадочной надписью «Тасма-65».
Пользоваться фотокамерой дед (ясно) не умел, а я был типом поднаторевшим. Год занимался в Доме пионеров. Засиживались там допоздна. В темноте возвращаешься, тётеньки в светлых окнах копошатся, ужины оболтусам готовят. Сосед Эрнест Леонельевич на лестничной клетке с примотанной к перилам консервной банкой сидит на корточках, в дерматиновых тапках с надписью «травм.» И сосредоточенно превращает в пепел сложноподчиненные предложения из газеты, в клочок которой завернута его махорка. Затягивается, щурясь, и спрашивает:
– Чет поздновато? Небось, чувиха появилась?
– Да не, – тушевался я, – из фотокружка. И промахивал его приятное благоуханное облако.
– Вот бы и мне записаться в какой-нибудь такой водкокружок, – с тоскою бубнил он.
Словом, заряжать плёнку, в прямом смысле обливаясь потом под ватным одеялом, облицованным бабушкой вместо ткани красивыми флагами Туркмении (других на складе у тетки по всей видимости не было), заправлять в кассеты, а затем в фотобачок, – приходилось мне.
Дед помолодел и заколготился. Более того – он довольно ощутимо переменил жизнь нашу и скотного двора в частности. Куры стали ходить в сарай окольными путями, через крапиву. Кот попадал на печь посредством подпола и истошного орал оттуда. Коза, закатывая зенки, очень талантливо, с этаким зависанием, падала в обмороки, когда дед Куторкин, подкараулив, кричал ей «А вот портретик, не хотите ли?»
– Земляне, вы с какого дуба рухнули!? – ворчала на нас бабушка.
При этом дед всё равно выступал больше, как теперь сказали бы, продюсером, кастинг-директором. И требовал моего присутствия.
Часов с пяти утра он сидел на скамейке перед нашим домом и вздыхал. Я появлялся на крыльце, чтоб попИсать, тёр глаза, искал обувь.
– Ты чо топишь-то? – с укоризной произносил он.
Спросони я таращил глаза: как топлю-то? Я ведь еще и не начал.
– Деревне, может, от силы лет пять жизни осталось. А он на массу давит.
Я усердно пытаюсь напялить на левую ногу правую калошу.
– Между прочим, волчью нору обнаружил, там, в лощине, – продолжал абориген. – Можем попытать удачу.
– В смысле?
– Ну, карточки потом в «Нэшнл Географик» вышлем.
– Или черепа.
– Чего? – переспрашивал.
– А, – махал я рукой, и зевал.
– Э? Ты, Чингачгук Большая Оплеуха, Полученная от моей трудовой ладони, которой я тебе щас звездану, – летом в окошке мы стекло убираем, и сажаем туда марлю с помощью канцелярских кнопок. Поэтому слышимость прекрасная. Поэтому бабушка и костерит Куторкина. – Оставь мальчишку в покое, в туалет не даст сходить.
– Да пусть идёт, – удивленно и даже с досадой разрешает дед.
На протяжении двух или трёх недель он притаскивает мне какие-то совершенно безумные идеи – одна хлеще другой. То небо днем из колодца сфотографировать, чтоб увидеть при свете дня звезды, то уговорить Ваню Курохвата из эмсэо, приехать к нам на подъёмном кране «Ивановец» задрать стрелу, «а мы оттуда роскошнейшую панораму сообразим.
А иногда дед впадал в состояние, называемое им же самим «в слюни».
– Уходит. Жизнь уходит, – оправдывался он после бабушкиного втыка. И так просто это говорил. Что вот да, жизнь, да жизнь – это нечто, безусловно, важное, как пеший поход по прекрасной местности, но, что поделать, всегда настает момент, когда возвращаться пора.
– Бывает, получишь в морду от бытия, постоишь на краешке жизни. Но спасёшься. Через время придёшь в себя. И вот дня три после – кайф. Только эти три дня ты по-настоящему и живешь, не боясь ничего, отчаянно, с размахом. Без суеты внутри, ценишь всякую минутку, и каждого человека любишь или жалеешь, шиш разберешь. А потом опять – погрузишься в эту серятину – год, десять, пятнадцать. Глядь, а уже и твоя очередь. Так просто, как в магазине; а это, что ли, всё, думаешь потом? По сути-то ведь не было ж ничего такого – стОящего, я ж еще только вот собирался подвиг совершить. И так досадно, йо. Досадно, что вот всё так вот обыденно, что ли. Без того пиетета к жизни, который должен был бы быть. Захоронят, как нечто уже нездешнее, и трактовать тебя станут по-своему. Ты, может, этого никогда и не имел в виду, а попробуй теперь возрази. Сорок дней, годовщины, а потом и вовсе забудут. Словно и не жил такой человек…
Он доставал большой, как лопух, носовой платок из кармана, сморкал шумно.
– Ночью спишь, а яблоки по шиферной крыше скатываются и гулко плюхаются об землю – тук, тук, как будто кони в нетерпеже копытами бьют. Лежишь вот так в полной темноте, кромешной темени, кузнечики стрекотать перестали и думаешь: ничего. Ничегоо. Скоро поедем, скоро запряжем. Но с другой, ё-мае, стороны – впереди самая большая тайна, о которой никто так и не проболтался. Есть там чо? – он кивал выше козырька своего картуза. – Но мне легче. У меня уговор с самим собою. Вот мы помрём, а поля, снег наш здешний, особенный, нигде такого не видал, рассыпчатый, пахнущий яблоками и облаками – останется. И лес.
– Чего лес?
– Лес… тоже останется, – говорил он как-то так про лес, как про друга и радовался, радовался, радовался, что тот ещё поживет.
Однажды дед пришел поутру. Мы договаривались. Червей с вечера накопали. Собирались на озеро к его мосткам порыбачить.
Миновали плотину. Туман, как сытый, довольный кот с боку на бок переваливался на лугу, а в лощине, что связывала по весне талой водой два озера – глубокое и наше, мелкое – трава колыхалась. Мы с дедом подумали, бобр или ондатра. Подкрались, медленно-медленно стали поднимать головы, и такую узрели картину: по этим травам, по этим росам сахарным, извиваясь, перебирались из нашего озера, мелкого, в большое крупненькие (размером деду по локоть) вьюны. И делали они это совершенно осознанно, по какому-то неведомому, будто известному только им, маршруту. «Вот те крест, – говорил потом дед бабушке и соседке Чёрной, а сам на автомате проводил по шее большим пальцем типа „век воли не видать“, – целым этапом чалили, все, считай, переехали. Чумааа»!!!
Правда, фотокамеры на этот раз у деда не было, пока он метнулся, пока сбегал, пока взвёл затвор «Зенита» – внутри хрустнуло, последняя кассета с пленкой закончилась, он опустил руки, как веревки.
– А с другой стороны, – словно опять о чем-то договорившись с собою и довольный этим, произнес он, это же чудо было, явленное нам, дуракам, а чудеса – не кино, их только избранным дают поглядеть.
Рыбалка наша тоже накрылась. Мы присели в тени серой большой копны. Дед Куторкин снял рубаху и запрокинул к небу лицо, закрыл глаза. Я впервые увидел наколки на его груди и спине. Папа потом смог расшифровать их. Оказывается, у деда было четыре ходки.
День разогревался, парил. В заброшенных садах поспела бузина; и так густо всюду пахло крапивой; запах ее щекотал сердце, будил генные какие-то нотки из очень далекого прошлого, которое накрывало порой удивлением и даже недоумением. Ты стоял ошарашенный: а ведь точно такое же со мною когда-то было. Стаи дроздов, наклевавшись бузины, облопавшись ее дурмана, летали пьяненькие такие, такие счастливые.
Над нами прошествовало огромное облако. И запах был от него, как от опавших яблок. Скоро поедем, скоро запряжем.
Катина ракета
Болячки свои старухи, как правило, пытались ликвидировать сами. Кто самогоном, настоянным на мухоморе, кто коровьей лепёшкой, привязанной к зудящему месту. Одна бабка услышала от кого-то, что можно лечиться мочой. И лучше детской. Бегала с ковшиком за внуком: ну чирикни, милок, посикай, чо те трудно, гадёныш?
А иногда в деревню всё же наведывался демиург фельдшерского искусства по прозвищу Филин. Звали его так, вероятно, из-за бровей; прибрежные кусты, чертополох в лугах – не продраться, вот какие были у него брови. А может, и по другой причине. Путь ассоциаций извилист и нелеп.
Был Филин с пресной, чуть посвистывающей одышкой, фигуристый, как пингвин, но, на удивление, прыткий. Шмыг в автомобиль свой по кличке «Запорожец». У бабушки голубой был, с ушами, а у него морковный, слабенький. Впрочем, его-то везти усилял, тужился, но усилял.
Филин обследовал старух. Щупал, иногда жал.
По всему было видно, что процедуры эти его тяготят, они портят ему настроение, а вместе с ним печень и жизнь. Он давно проклял весь этот крепчающий повсеместный урбанизм, проделавший нехилую прореху в смычке между городом и деревней. Контингент с каждым годом становился менее влекущим и волнующим. Чо там щупать-то? Да и, откровенно говоря, жать тоже совсем нечего. Так – тряпочки.
И Филин вздыхал, как вздыхает по ночам его лесной брат.
Однажды прочесал по улице, цинично так, с пыльцой, а к нам даже не заехал. Спустя время баба Таня Максимова явилась, будто лужа взбаламученная.
Баб Таня Максимова обладатель множества медалей за труд, лучший подражатель голосам всех птиц (филина, кстати, тоже), мой личный тренер по прыжкам в высоту через забор, по игре на балалайке и надуванию лягушек соломинкой.
– Чо ж делать-то? – произнесла она тоном отнюдь не риторическим.
Бабушка отложила недовязанную пятку носка, пытаясь что-то понять по ноткам.
– Филин приезжал, – продолжила баба Таня. – Сказал, рак у меня.
Она попила ковшом из ведра воды колодезной, выудила мизинцем муху, откинула её прочь.
– А я, дура, замуж собралась.
– Ории!!! – на вдохе, обмирая, как обмирают, получив самую, что ни на есть, огнестрельную пулю в грудь, произнесла бабушка.
На их диалекте это значило что-то вроде «ну ни фига ж себе», «почему я только сейчас об этом слышу», далее по ниспадающей: «ага, кто на тя такую тока позарится», потом неразборчиво.
– Позуправ те говорю, – ответствовала та.
И вот тут бабушка сформулировала такое, какое в подобную минуту может прийти в голову только женщине, при этом обязательно проживающей на одной девятой части суши:
– А кто он?
– А, – отмахнулась баба Таня, впрочем, довольно кокетливо, – городской, ты яво не знашь.
К вечеру всё население деревни – все шесть человек – были в курсе, что у Таньжи, как звали её по-уличному, рак. И поддерживали, но довольно оригинально.
– Ты на смерть-то всё припасла? Поди, надо чо? – интересовалась Чёрная.
– Что ты, Нюрка, да и тебе ищ останется, – по-доброму ответствовала та.
Дед Куторкин молчал, бабушка тоже.
А баб Таня доставала свою горьковскую гармошку и давала жару.
Изредка, иногда она включала итальянскую женщину. В окно летели всякие платки, по-цыгански цветастые юбки, посуда. А потом опять радость, гармонь и возглас срывающийся:
– Катя, танцуй!
А Катя тут как тут. Грузная, с детским, однако, пятидесятилетним лицом, поднимает руки, как девочка, и кружится, наяривает с улыбкой блаженства.

