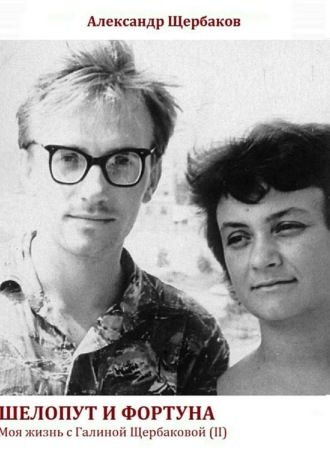 полная версия
полная версияШелопут и фортуна
Известный литературный критик Андрей Немзер сделал тонкое наблюдение: Людмила Петрушевская, Марина Палей, Светлана Василенко, Марина Вишневецкая пишут о безлюбье; Галина Щербакова – о любви. «Да, – продолжал Немзер, – одного без другого не бывает. Да, персонажи «безлюбых» повествований и их создательницы любви алчут всеми силами и малейший проблеск ее из души ни за что не выпустят. Да, у Щербаковой как неумением любить, так и любовью мучаются, клянут ее, непрошенную, на чем свет стоит. И еще много таких разрушительных «да» можно с ходу выпалить. Но одно дело упиваться болью и стыдом, вычитывая в собственных муках единственное (и оттого – хиленькое) доказательство: любовь, кажется, маячила. Другое – надрываться от стыда и боли, зная, что они расплата за трусость, недогадливость, неумелость в любви, которая точно была».
Мне кажется, талантливый критик все же не очень точно выразился. Героини Щербаковой страдают из-за многого в любви – но именно потому, что она есть (а не была). Потому что «любовь никогда не перестает». И это Галина как писатель точно знала. А что «перестает» – то не любовь и лечится, как герпес. Идет ли речь о всеобщей, универсальной любви или о ее частном случае – между счастливо нашедшими друг друга душами, ее энергия однополярна и простирается не от предмета любви, а от любящего. Счастливость же в том и заключается, когда сей «предмет» уже сам в качестве любящего порождает свой мир любви, в котором ты есть.
А если нет? Об этом и говорит Галя: «…счастье и несчастье… они всегда рядом. Всегда!» Несчастье – когда тебе виделось, что тот, другой, мир существует и ты в нем, – а это оказалось ошибкой, почти всегда невольной. А счастье? – Вот оно: твою, исходящую от тебя любовь никому (!) не отнять – она-то при тебе, тобою порожденная!
Была у нас подруга, Лиза Кремнева. Она рано ушла из жизни, одинокой и с виду не очень удачливой. Галя, обнаружив в ее бумагах лирические стихи, писала в поминальном очерке, напечатанном в журнале «Крестьянка»: «Я ведь ничего не знала о твоей любви. Ничего! Мы ведь были такие аскетично-замундиренные в этой теме… Я после своих сорока о любви уже не писала, а ты писала. Получается, что я в проигрыше?» И вот еще оттуда же:
«Жизнь не обидела меня,
Страдаю счастьем.
Но ведь страдаю – читают одни!
Но ведь счастьем – читают другие!»
Какая же классная формулировка! Страдаю счастьем. Лиза гениально породила ее и нашла ей столь точное применение.
Страдаю счастьем – в этом суть многих сочинений Галины Щербаковой.
Меня всегда волновало Галино определение любви как «самого разрушающего чувства». Наверное, оно сравнимо с цунами. Однажды я подвергся ему.
…Побудку по утрам мне устраивает Мурзавецкий, кот. Он начинает в могучих прыжках проноситься надо мной справа–налево, слева–направо. Кровать жалобно поскрипывает под тяжеленькой, наверно килограммов на восемь, кототушкой. Если я долго по свойственной мне лени не открываю глаза, то скачки Мурзика (это его семейное краткое имя) из летящей львиной дуги превращаются в высокие подпрыгивания наподобие теннисной свечи с приземлением на моей груди или животе, и тут уж моему притворству приходит конец.
Ближайшая цель Мурзавецкого – чтобы я задал ему любимую трепку, которая в кошкинской литературе называется полезным для домашнего животного массажем, особенно необходимым ему в области хвоста. Это непреложно для начала дня. Затем он ведет меня в кухню, подозрительно оглядываясь, не норовлю ли я снова нырнуть под одеяло, – дабы я помыл и заправил свежей водой его поилку и выдал его нынешнюю, не ту, что была вчера, еду. После этого он еще, может быть, попросится погулять по примыкающему к нашим трем соседским квартирам предбаннику, который в домовых объявлениях и распоряжениях именуется холлом.
Дальше я принадлежу – под неусыпным кошачьим взором – сам себе. Некое потягивание, пусть оно для собственного успокоения называется зарядкой, душ, «овсянка, сэр»… Обязательно перед началом своего трудового дня приходит мой молодой сосед. Чтобы удостовериться в наличии меня на сегодня в целости и относительной сохранности. Это миссия. А сообразно принятому регламенту, мы с ним пьем чай.
Для чего я все это рассказываю? Всего лишь для того, чтобы проиллюстрировать на бытовом уровне эйнштейновское утверждение об относительности времени. Я решился на это после того, как поведал о своем наблюдении многим близким людям, и по крайней мере четверо из десяти признались, что ловили себя на такой же мысли.
Итак, весь набор утренних занятий обычно занимает у меня два часа. Но! Иногда сажусь за компьютер – и обнаруживается, что от момента утреннего подъема прошел примерно час. Как? Почему? Откуда такая экономия?.. Но иногда-то наоборот, часы свидетельствуют: на заученные почти до автоматизма действия непонятно как уходит больше трех часов! Целый час из жизни. Где он?
Не буду перечислять разнообразных рациональных объяснений, приходящих в голову, типа – в какой-то момент неуловимо о чем-то задумался и не заметил, как пролетело время. Эти интерпретации все равно недоказуемы. Мне больше нравится гипотеза, что в какие-то моменты бытия у каждого может быть свое индивидуальное время, которое по своей длительности как-то соотносится или, точнее сказать, зависит от личных событий, действий, поступков. Может быть, и от мыслей. Я, например, никак не могу постигнуть того, что важнейший кусок моей жизни, вместивший, как зародыш, как софтовая загрузочная программа, ее основополагающие события, согласно календарю длился только два года. Речь о челябинском периоде, о тамошнем «Комсомольце». Объективно мое присутствие в истории этой редакции ничтожно. Но я могу рассказывать о ней, о тех двух годах, столько, будто там провел чуть ли не половину отведенного мне века.
Аналогичная история с «Комсомолкой». По трудовой книжке – пять лет, всего пять лет… И также только пять лет – Ростова-на-Дону, а ведь он – основа конструкции нашей с Галей жизни.
Или «Огонек». Мне кажется очень точным сравнение, которое дал этому феномену мой, еще с «Комсомольской правды» давний товарищ Владимир Глотов в своей книге «Огонек – Nostalgia»: «журнал Коротича, чей век был короток, как выстрел». В то же время я разделяю его же мысль, что это было издание, которое, «чем больше проходит лет, тем яснее воспринимается как национальное достояние, легкомысленно нами утраченное».
Но, может быть, у распорядителей (или механизма) времени есть свои нормативы: что когда-то кому-то убавлено или прибавлено должно как-то непременно возместиться, компенсироваться? Иначе как объяснить, что у каждого из нас есть периоды присутствия в мире – ну, как пустое место: был новый год, а потом еще один новый год, и еще… А что там было-то? И не вспомнишь.
…Однако где «время» – там и «место». По крайней мере, в нашей земной жизни.
Галина первая в семье обратила внимание на тяготение в нашем московском существовании к «милому северу» столицы. Наша первая здешняя квартира была в Останкино, вторая и последняя – в начале Дмитровского шоссе. Очень близко жили Галины родственники – Ируся и дядя Коля. Дача была в Мамонтовке. «Вам и не снилось» снималось на Студии им. Горького, возле ВДНХ. «Литературное обозрение», где многие годы Галина числилась на работе по договору, – в четырех или пяти троллейбусных остановках к северу от нас, ее «фирменное» издательство «Вагриус» долгое время находилось вообще в «шаговой доступности», а следующее, «Эксмо», – на «Войковской». Семья друзей Яковенко жила через дом, Иларионовы – рядом с метро «Проспект Мира», Леша Плешаков – сперва в Лобне, потом в Останкино, по соседству с нашей пятиэтажкой… Поверьте, я еще многое тут мог бы перечислить. Почему оно так – загадка.
23 года место моей работы по Бумажному проезду, 14 находилось в десяти минутах ходьбы от дома, который я видел из окон своих офисов.
Но первопроходцем, за год до меня, в этом так называемом журнальном корпусе «Правды» была Галина, и он стал последним местом ее казенной работы. Потом здесь на разных этажах несли службу и Плешаков, и Лиза Кремнева, и Саша Яковенко, и Володя Глотов… Если бы мне пришла в голову мысль сочинить роман, а лучше драму из жизни журналистов, то основной площадкой действия сделал бы это здание.
Двенадцатиэтажная коробка на Савелии порой мне казалась уютным ульем, населенным пчелами различного рода, впрочем, как правило, общественно-полезными и… медоносными. Могут спросить: а осы? Шершни? Были и такие, как же без них. Ведь «у природы нет плохой породы»?..
Возможность увидеться со многими обитателями этого дома была дважды в месяц – возле зарплатной ведомости. А еще был каждодневный шанс встретиться с коллегами-соседями в обеденное время в общей столовой на втором этаже.
Именно там, в очереди к кассе, «выбивающей» чеки на первые, вторые и третьи блюда, началась невидимая свету, однако смутившая мой внутренний мир история.
В тот день стоявший в очереди позади меня Плешаков (он работал в «Огоньке», еще «старом», софроновском, а я в «Журналисте») произнес как бы про себя, шепотом, но слышным, как в классическом МХАТе, в любом ряду:
– Какая же она красивая!..
Казалось, он прочитал и выдал всем мое помышление о девушке, что-то весело болтавшей в кружке приятельниц в каких-то четырех метрах от нас.
Я ее знал. Она была машинисткой, кроме иногда возникавших производственных надобностей, еще одно обстоятельство связывало меня с ней. Моей заботой была организация перепечатки сочинений Галины. После 1998 года, когда у меня появился домашний компьютер, я стал сам переводить чистописание Галины в цифру, с удовольствием изымая аккуратные теплые странички из-под валиков работяги-принтера. Тогда же, в незапамятные линотипно-ундервудовские времена, приходилось держать под рукой список надежных машинисток, которые могли, не очень лепя ошибки за сравнительно недолгий срок перебелить текст, и которым можно было без боязни доверить драгоценную рукопись. Красивая девушка была одной из них.
Я принадлежу к бесконечному множеству неоригинальных, простодушных господ, чьи взоры неотвратимо, можно сказать, фатально сосредоточены на созерцании женской красоты, будь она на портрете, экране или в самой обычной повседневности. Да хоть и в воображении… Особенно, когда она не просто «гений чистой красоты», а еще и приправлена, как тмином в ржаном хлебе, той любезной мужскому естеству милотой, которую в последнее время стали именовать новеньким словом «манкость». В нашем доме такое лицезрение с легкой руки Галины называлось, в пику лексическим новообразованиям, старинным глаголом «пялиться».
К моей пялистости она относилась снисходительно, а к ее объектам с великодушием красивой женщины, никогда не обделяемой мужским вниманием. И верила в то, что мое стремление удержать в себе образы видимой красоты, как послевкусие от вина, обычно не смешивалось с вожделением донжуански завладеть этой красотой – в первую очередь из боязни разочароваться. В отличие от такой опасности безгреховные, пусть даже безуспешные попытки «остановить мгновение» прекрасного всегда… не окончательны и таят в себе мечтательное вероятие чего-то необыкновенного…
Галина, более того, можно сказать, понимала меня. Она не раз говорила: бывают женщины такой прелести, что не влюбиться невозможно, и она в таких случаях способна понять… лесбиянок. Хотя вкусы наши могли расходиться. К примеру, я «тащился» от Лопухиной на одноименном портрете Боровиковского, а Галина ее считала пресной, невыразительной особой, простушкой.
Так вот, та девушка не была «простушкой», как, впрочем, и не обладала той упомянутой мной милотой, которую в народе называют еще смазливостью. Все было по-пушкински просто: как гений чистой красоты. Между прочим, как ни парадоксально, это женское свойство часто удерживает мужчин на расстоянии от его обладательниц. Встретив такую, сначала не очень-то и веришь собственным глазам, невольно соотнося ее облик с виденными прежде типами привлекательности.
Едва ли не каждый раз после деловых или случайных встреч с той девушкой в памяти у меня всплывала популярная тогда и, прямо сказать, надоевшая песенка: «Ваш милый облик много лет меня тревожит, но не решаюсь я об этом вам сказать». Почти ничто меня в ней не касалось: ни «тревожит», ни «много лет», ни «не решаюсь сказать». Однако эта мелодия самопроизвольно включалась на никому не видимом магнитофоне не случайно. Причиной было – «Ваш милый облик…» Три таких плавных, уютных, складных слова, точно, надо думать, соответствовали моему восприятию юной красавицы.
Жизнь текла своим чередом. И вдруг три других слова ее вмиг взбаламутили:
– Какая же она красивая!
В ту пору в прессе и в праздных разговорах стала популярна тема «кризиса среднего возраста». Я толком не понимал, что подразумевается под таким термином, а когда позднее его уяснил, оказалось, что хорошо знаю это явление по художественной литературе, в частности, по романам Набокова. А тогда вдруг еще косяком пошли фильмы про душевную неустроенность российских мужиков. Лучшими из них были (да и остались) «Осенний марафон» и «Полеты во сне и наяву» с двумя Олегами – Басилашвили и Янковским. Я, хорошо понимая их героев и сопереживая им, в то же время чувствовал некое превосходство над ними. Не какие-то слепые силы командовали мною, а обстоятельства в большинстве случаев более или менее подвластные мне.
Да, в моем окружении были люди, ускользающие из категории собутыльников в разряд пьющих по-черному, кто-то со скандалом уходил из семьи, один в высшей степени уважаемый мной коллега в жажде новизны ощущений нарвался, в свою очередь, на искательницу приключений, а та оказалась несовершеннолетней, случилась драма. Эти водовороты внешнего мира пополняли мое знание жизни, но меня самого обходили. И я уверился, что, «земную жизнь пройдя до половины», избежал этого пресловутого личностного кризиса.
Когда от каких-то трех слов нежданно-негаданно в секунды разительно изменилась явь, я к этому был не готов. Как гром среди ясного неба: я влюблен. Была просто красивая девушка, а стала созданием, способным, само того не ведая, переиначить действительность. Мое существо заполнялось вроде бы забытыми, давними эмоциями страсти. Позднее я отдавал отчет в том, что моя воля тогда, как предохранители при коротком замыкании, отключилась, и при желании меня можно было брать голыми руками. И от этого, по всей видимости, я бы испытал чувство счастья.
Беспомощность – так бы я определил то состояние. Как при рождении. А еще – радость и растерянность.
Но, помимо эмоций, у нормального человека в той или другой степени есть разум. А у меня особенно. Не в том смысле, что я кого-то умнее, просто по своей природе в обычной жизни моя эмоциональная сфера менее развита, чем у многих других, и, как правило, пасует под давлением racio. Наверное по этой причине в душе поселились ко всему прочему еще тревога и смута.
Я раздвоился. Не умел (и не хотел) избавиться от сладостного амурного страдания, воспринимавшегося как некий подарок. И одновременно тем самым разумом, как бы со стороны подглядывая в щелочку за самим собой, холодно определял происходящее как… болезнь. Помните, как великий физиолог Иван Павлов поступил во время последнего в своей жизни недуга? Он пригласил своих учеников и надиктовывал им последнюю лекцию – о том, как он ощущает все происходящее в организме. Вот и я отслеживал – впрочем, невольно – знаки и симптомы своей хвори.
Уговорил ее встретиться у магазина на углу Новослободской и Сущевского Вала и долго водил по переулкам, неся какую-то, как мне казалось, занимательную чепуху. На 8 марта подарил нечто ювелирное. Посреди работы полчаса болтали языком и ногами, сидя на подоконнике возле лестницы на одном из этажей на виду всех проходящих. Провожал с работы до электрички на Савеловском вокзале и напоследок поцеловал.
Мне ни разу не приходила мысль расстаться с Галиной. Но зато являлась гениальная идея – ухитриться жить двумя домами. Именно в то время проявились молодцы-мужики, которым удавалось это, про них даже писала пресса. Так почему же нет? Разум – он такой, все время норовит забежать вперед событий. При всей, казалось бы, ясности происходящего мне еще предстояло пролить на него свет для предмета моей сердечной склонности, короче говоря – объясниться. А надо признать, что за десятилетия, промелькнувшие с поры уральского житья, я в этом искусстве ни на йоту не продвинулся. Не было практики.
Помог случай. Как-то в конце рабочего дня я из окна своего служебного кабинета увидел мою красавицу в сопровождении молодого человека. На другой день я спросил у нее, кто вчера провожал ее с работы. Она, глядя на меня огромными серо-переливчатыми русалочьими глазами, легко ответила: «Никто». Через час я пришел снова и положил перед ней бумажку с шестью строчками немудреного экспромта:
Ах, милая, вы лгунья! Боже,
Как я на вас опять сердит.
Вы – лгунья милая. Похоже,
Вас Бог поэтому простит.
А может быть, прощу и я?
Ведь лгунья – милая моя…
Лгунья зарделась и отвернулась от меня. А я оставил ее одну, перед этим сказав: «На самом деле я нисколько не сердит».
Через два дня на такое мое полупризнание последовал подобный же полуответ. Опять трогательно заалевшись, красавица едва слышно произнесла: «Я вас даже во сне видела». Окаянный разрыв в возрасте: у нее не получалось перейти со мной на ты. Зато мною не осталось незамеченным слово «даже». В нем таилась информация о чем-то невысказанном вчерашнем, оно, может быть, сулило пусть воздушные, но прекрасные замки на завтра и вообще обязывало к этому признанию относиться серьезней, чем к сообщению о случайной грёзе.
Этот полуответ для меня был тоже преисполнен двойственностью. Разве я не его добивался своим предыдущим поведением? Но разум-то здраво констатировал: в готовой выписаться на страницах моей жизни фразе есть сказуемое (что делать, возможное действие), но нет подлежащего, отвечающего на вопрос: что? Действие ради чего? Нежданно подвалившей лотерейной удачи? Или игры гормонов уже не молодого организма?.. Но, может быть, тут коренится и перемена судьбы? В этом, последнем, случае можно и нужно совершить поворот. Судьба даруется свыше и для чего-то. Если не понял для чего – велика вероятность просуществовать напрасно.
Человек разумный до этого дошел давно. Да, устроены так люди – желают знать не просто, что будет, а что должно быть. Для этого у древних существовали оракулы. И, скажем, древнегреческие пифии, пророчицы Дельфийского оракула, карали человека, совершившего преступление, тем, что отказывали ему в прорицании. Видимо, понимали: человеку жить без путеводного компаса тяжко…
Между прочим, на одной из бумажек, на которых Галина на всякий случай бегло записывала разные разности, забрасывая их потом куда попало, я обнаружил «Заповеди на храме в Дельфах». Две первых из них такие: Познай свой конец; Познай самого себя.
Работа пифий заключалась в том, что они, способные ощущать невидимые и неслышимые колебания высших сфер, несущие сведения о грядущем, переводили их в доступную человеческому восприятию форму – в речь или хотя бы в набор что-то значащих слов.
Едва ли не у каждого, я знаю, есть своя система суеверий и заговоров, которая, как к ним не относись, играет охранительную роль. Я безраздельно верю в смысл слов, в решительные моменты являющихся как бы ниоткуда. Плохо, если в таких случаях приходится действовать, всецело повинуясь зыбким чувственным велениям, далеким от семантической и синтаксической определенности. Увы, такое бывает часто, и почти всегда приводит к невзгодам, рукотворным бедам. Мир слов, когда ты с ним водишь дружбу, охотно приходит к тебе на помощь, если умеешь вовлечь его в круг своего жизненного интереса. В случае с красивой девушкой для этого казалось идеальным средство «стих» (то есть стихотворение). Это могло показаться забавным. Но я был исполнен нешуточной серьезностью.
Чуть выше я приводил экспромт про лгунью и уже тем выдал свою небольшую тайну, о которой не знал никто из живущих (кроме самой лгуньи): в течение жизни я время от времени сочинял стихи. Стихи и поэзия – разные понятия и по смыслу и по объему. Стихов каждый день пишется видимо-невидимо. Это такой жанр высказывания. Поэзия – это то, чему я не могу дать определения. Для себя я нашел критерий: если посреди словесно-звукового потока неожиданно, физически, замирает сердце, значит, вот она. Ее очень мало. Как, соответственно, и поэтов. Ну, а стихотворцев очень много.
Если принять этот мой способ, у каждого должна пролагаться своя граница между поэтом и просто стихотворцем. Я совсем недавно узнал, что ангел-хранитель, покровительница и спасительница Петра Ильича Чайковского Надежда Филаретовна фон Мекк, человек безусловно изощренного вкуса, к ужасу и негодованию своего гениального друга, не любила Пушкина как сочинителя стихов.
Ни в какие планы жизни не входило обнародовать факт моего любительского версификаторства. И он не вышел бы наружу, не приведи к этому логика откровенности моего повествования.
Еще на одном из найденных Галиных набросков я нашел выписанное ею стихотворение Бальмонта: «Рождается внезапная строка,/За ней встает немедленно другая./Мелькает третья ей издалека,/Четвертая смеется, набегая./И пятая, и после, и потом./Откуда, сколько, я и сам не знаю,/Но я не размышляю над стихом,/И, право, никогда – не сочиняю».
Именно такое же неразмышление и несочинение моих рифмованных строчек, приходивших бесцельно и безответственно, побуждает, не придавая литературной ценности, относиться к ним как к носителям скрывающейся от сознания потаенной реальности.
Понятно, по жизни мне, как всякому, приходилось сводить знакомство с разными женщинами, в большинстве случаев ничем не примечательное. Но иногда возникали вопросы взаимных касательств, почти всегда смутных, нечетких. И однажды я сделал открытие. Оказывается, если чистосердечно написать о них «стих», то в его финале возникает… то ли прояснение ситуации… то ли рекомендация… то ли вообще грубая, как в басне, мораль. К примеру:
Вы мне не безразличны, право,
А я не безразличен вам.
И это порождает право
Дать легкость праздную словам.
Но миг молчанья – словно искра
Или явленье НЛО:
Он излучает холод риска
И втайне дарует тепло.
Я не люблю вас, это точно.
И вы не любите меня.
Стоим и пьем коктейль молочный,
Прохладный – около нуля…
Ну, вот и все. Что может зажечься интересного с «околонулем»?.. Я замечал: стих для начала требовал некоторых усилий, но к завершению, видимо, ритм и рифма, разогнавшись, легко выбрасывали конечные слова. И это наводило на мысли о пифиях и оракулах. Это же не шутки, если в начале стиха сказано:
…
Любви не иссякает жажда.
Мы ждем ее отравы так,
Как страждет опиума каждый
Вкусивший гибельный экстракт.
А в конце:
Воображения репей
Из сердца вырвать не умею.
Поклонник прелести твоей,
Я вновь счастливо холодею
При мысли, что я получу,
Назвав тебя своею милой.
….Я полюбить тебя хочу –
Жаль, обмануть себя не в силах.
Я как бы играл в турандотовские словесные игрища, затаивал среди слов нечто непроясненное, трудноуловимое, не поддающееся формулированию, а они, слова, «застукав» схороненный там смысл, выявляли лексически выверенную отгадку.
И вот какая «лакмусовая бумажка» была запущена в колбу с приготовленной самим мною загадочной смесью:
Я помню голубой огонь
Прелестных глаз. Они, как свечи,
Реликтовым мерцаньем вечер
Мой осветят – лишь память тронь.
Я видел золотой огонь
В очах, любимых мной безмерно.
Он плавил судьбы. И наверно,
Его зажгла Творца ладонь.
И вдруг – серебряный пожар!
И лавы ледяной кипенье
В глазах, вернувших мне смятенье
И неприкаянности дар.
Зачем я жажду твоего
Огня в таинственных пределах?
…Не чтоб согреться от него –
А чтоб душа похолодела…
Итак… Где судьба? «Чтоб душа похолодела» – это что? Захватывающий дух аттракцион? Тяга к похождениям?.. Невидимый потаенный магнитофон самопроизвольно включил сладкий голос Лемешева: «Та иль эта, я не разбираю, все оне (именно так пел Сергей Яковлевич – «оне») красотою, как звездочки, блещут. Мое сердце восторгом трепещет, но не знает докучных цепей».
Баллада герцога из оперы «Риголетто». Я разделяю гендерную мужскую идеологию насчет нелюбви к докучным цепям. Но вот противоречие (опять дьявольская двойственность): я бы рад перенять могучую жизнеутверждающую энергетику соблазнителя Джильды, однако не могу «не разбирать – ту иль эту». Не «все оне», от кого сердце, случается, «трепещет», могут найти пристанище в моем душевном мире. Можно спросить, а почему они непременно должны в нем быть? Трудно сказать. Может, природа такая, может, воспитание виновато, может, книги. Но факт есть факт. Не способен я, например, есть устриц. Или приготовленные даже прекрасным кулинаром бараньи глаза. Так и с женщинами. Почему-то необходимо внутреннее соприкосновение. «Ах, почему твоя душа мою не отравила душу». Так сетовал я в одном из моих стихотворных опусов. Наверное, это смешно? Или нет?..



