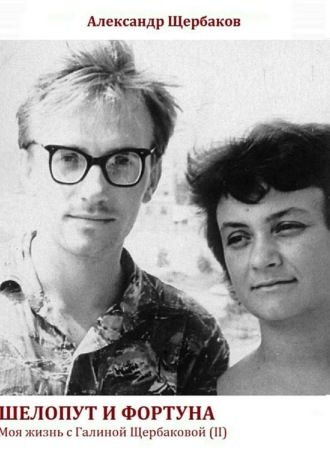 полная версия
полная версияШелопут и фортуна
Завуч музучилища оберегла меня от «другого» пути. Почему я уверен в этом? Потому что, со временем в чем-то познав себя, понял: я не заповедный источник новых мелодий, как, скажем (не будем тревожить имена классиков), Микаэл Таривердиев, Исаак Шварц, Алексей Рыбников, Николай Петров, Александра Пахмутова… Мне наверное светила участь «сонгмейкера» (делателя песен, я совсем недавно узнал это слово. «Песни под ключ на заказ»). У нас таких пруд пруди, занимающихся в основном поставкой продукции для попсы. Ради справедливости стоит сказать, у кого-то из них, у немногих, бывают 2-3 свои мелодии, а в основном – коллажи, слепленные из чего-то услышанного, когда-то и где-то сделанного кем-то. Такая продукция славно оплачивается, но этот путь, уверен, «заставил бы меня проклинать всю свою жизнь».
…А еще нужно распознавать не только сигнал «я хочу», но и более трудно улавливаемое: не надо! Не надо – что бы тебе ни нашептывал самодовольный, но всегда поверхностный разум; или – устремления сродни хотению, но навеваемые тщеславными или завистливыми мечтаниями. Как мое композиторское влечение. У меня не очень развита фантазия, и я не знаю, что было бы, если бы захотел переупрямить ситуацию (и женщину-завуча). Но, думаю, в отношениях с фортуной бездарно поступать по принципу персонажа Высоцкого: «Я сказал!»
Мне кажется, судьба поначалу почти всегда деликатно, символическим усилием инсценирует, как в компьютерной игре, сюжетные развилки. И мы легко можем отвергнуть эти ее «факультативные» предложения. Но уж когда принял…
В истории с музучилищем предотвращающий знак пришел со стороны. Но чаще самому приходится улавливать некие незримые предупреждения. Скажем, был соблазн ступить и на ученую стезю. Уже сдал кандидатские экзамены и выпустил книгу-пособие «Организация работы журнала». Вовремя одумался. Однако не буду вспоминать этот и подобные эпизоды: меня опять заносит в назидательность. Как я не люблю эту свою склонность!
…И вот сейчас, наконец-то, машу рукой, разгоняя клубящиеся видения и картинки нахально ворвавшегося в рукопись отступления, и возвращаюсь к прерванной теме.
Так о чем бишь я?..
Вот, нашел… Сейчас, после рассказа о фильме «Транзит», мне уже просто ответить на вопрос: какая пружина, кроме моего естественного я хочу, побуждала высвободить Галину из привычной зарплатной госслужбы? Это, конечно, был и неосознанный вызов застойной мертвечине, привычной пришибленности люда. Вырваться из его ряда, пусть хотя бы в зыбкую стихию творчества даже одному человечку – глоток чего-то живительного. Установления системы препятствовали этому. Прежде всего материально. Обычная семья с детьми могла выжить, только если оба супруга вкалывали от зарплаты до зарплаты на «родное государство». Это считалось нормой.
Дочка, приходя из садика, с обидой говорила матери: «У всех мамы ходят на работу, а ты дома сидишь». Родная тетя, весьма значительная банковская фигура, не уставала пенять: «Кто тебе сказал, что ты писатель? Сначала заработай хорошую пенсию, а тогда уж и пиши что захочешь». Секретарь партийной организации журнала «Смена», в которой Галина была «прикрепленным» членом, спрашивал:
– К тебе милиция еще не приходила?
– ?
– Ну как же, нигде не работаешь, по закону – тунеядец…
«Но ведь и я могла стать точно таким же чудовищем!.. Или все-таки нет, ни при каких обстоятельствах не могло такое сложиться?..»
Вопрос вопросов. Все же думаю, с ней – не могло. А со мною запросто. Потому что по своему складу я лентяй и пофигист. А значит, склонен к зависимости от тех, с кем живу бок о бок. К конформизму.
Но жил-то я с ней, с человеком, на кого смотрел с изумлением: так стремительно происходило насыщение (развитие, как она говорила) ее интеллектуального, духовного багажа. Она сама радовалось этому, а объясняла просто: «Я столько упустила в своей прекрасной юности, что уже не наверстать». Ну, а я был подобен мельничным жерновам из прелестной песенки Франца Шуберта, которые «вертя̀тся, пляшут». Помните? «Они бы рады постоять, но ведь нельзя никак отстать, нельзя же, нельзя же!»
Часто мы вместе заполняли лакуны своего образования, но бывало и порознь. И я признателен подруге жизни за то, что она была в нашей паре первопроходцем в мире Кьеркегора, Тейяра де Шардена, Николая Федорова, Николая Лосского и Дмитрия Панина. Благодаря ей я не миновал «Книг мертвых», «Розы Мира» Даниила Андреева. Полюбил поэзию Веры Павловой и прозу Юрия Арабова. Вообще все (ну, или почти все), что я читал из современных писателей, проходило ее «кастинг». Зачем мне было рисковать силами и временем при таком дегустаторе.
«Удивлялась Галкиной ранее мне не известной образованности, способности к философским обобщениям, – написала в своих воспоминаниях Инна Калабухова. – Как далеко она ушла от девочки из шахтерского Дзержинска! Я вот не очень-то продвинулась в своем умственном развитии. Но больше всего я завидовала ее широкому взгляду на мир, знанию окружающей действительности во всем ее многообразии…»
Не могу не испытывать признательности к Инне, прекрасному человеку (даже за небольшое время общения мне удалось понять это), способному, любя близкого, умалить и собственные достоинства. Но в данном случае не могу просто взять и присоединиться к ее оценке. Потому что, пусть это прозвучит нескромно, но я тоже продвинулся… Если не в умственном развитии, то хотя бы в образовательном. Его катализатором была Галя.
А для меня также было важным существование в мире звуков, музыки. Продвижение в нем было еще более безалаберным, случайным, чем в плане интеллекта (там все же была какая-никакая университетская матрица). И тут я, не мудрствуя лукаво, хочу поместить выжимки из собственной статьи, напечатанной в «Огоньке» в июне 1987 года.
«…Что там в начале? «Битлз»? Или Шестая симфония? Шестой симфонией Чайковского я «сушил мозги» своей десятилетней дочери. Впрочем, простите, не симфонией, а устными рассказами о ней. Потому что – ныне уже за девятнадцать лет жизни в Москве – так ни разу и не удалось купить билет на нее: всегда она в каком-то абонементе. Не попадалась и пластинка. Впрочем, я и не хотел бы показывать дочери свое любимое произведение на пластинке. Такая музыка настоящая только живьем.
А дочь мне твердила свое: «битлы», «битлы»… Она их слушала где-то у подружек, а для меня это была тоже чистая теория, от которой я морщился. Ибо имел пред-ставление о «Битлз» единственно по нашим газетам шестидесятых годов…
…Ко всем этим давно довольно давним обстоятельствам мою память вернул голос певца с магнитофонной пленки, которую я, дабы «отрубиться» от шумной компании, слушаю через новомодные массивные наушники.
Три сестры, три создания нежных
В путь нелегкий собрались однажды…
Имя первой – Любовь, а вторая – Мечта,
А Надеждой последнюю звали…
…Дождливый приморский ноябрь. И потому – запруженный рассеянной, бесцельной толпой централь-ный сочинский универмаг. И лично я, вдруг замерший, зачарованный, озадаченный, посреди этой толпы…
Тут нужно вспомнить про другой отпуск – московский, взятый в декабре, дабы уж он не пропал вообще. Днем – писание каких-то давно обещанных своей редакции статей, а вечером – что предложит столица. Столица предложила: концерты для двух, трех и четырех фортепиано Баха в течение трех вечеров в консерватории. Исполняли профессор Татьяна Николаева с ее учениками. А между фортепианными сочинениями камерный оркестр из Литвы под управлением Сондецкиса играл части из Бранденбургских концертов и, помнится, какие-то еще баховские номера.
Вот среди них-то и было… Было нечто коротенькое – на минутку, исполненное на одной лишь скрипке и называвшееся, кажется, «Пассакалья»… Позднее в памяти вдруг всплыло – только оттуда ли? – другое слово: «Чакона». В этих «кажется», «оттуда ли» горестный укор автора самому себе: и за музыкальную малограмотность, и за дырявую память, и вообще за собственное «очень среднее» само-образование… Я не могу описать музыку. Какие слова ни подбираю – или слабо, или пошло, и всегда неточно. Но та минута звучания вошла в меня чистым, стопроцентным наслаждением и болью, которые отключили восприятие всей последовавшей далее в тот вечер музыки.
И с тех пор живут где-то эти старые раны: рана – воспоминание о наслаждении и рана – воспоминание о боли, и еще живет какая-то безнадежная надежда пережить это еще раз. Случаются же в жизни невероятные встречи.
И вот, бесцельно бродя в пронизанной влагой, рассеянной курортной толпе, посреди мокрых плащей и капающих зонтиков, я услышал… Нет, не «Пасса-калью», не «Чакону». А что-то неизвестное, что точно попадало в эти старые раны, и они вдруг отозвались явственными, яркими отзвуками именно того наслаждения, именно той боли.
И оказалось, что это «что-то» продавалось, и я купил, и привез, и протянул своей дочери пластинку-миньон:
– На вот, послушай настоящую музыку. А то все «битлы» да «битлы»…
Она послушала. И сколько же смеху было в доме в тот день!
– Папа, да это же и есть «битлы»! – закатывалась совершенно счастливая и нетактично-жестокая дочь.
Откуда ж мне было это знать, если в те годы государство еще выпускало музыку знаменитого квартета как бы подпольно, обозначая на этикетке лишь: «Вокально-инстр. ансамбль. Англия». Впрочем, человек более сведущий мог бы и догадаться…
А покорившая меня мелодия называется «Because» – «Потому что», и сегодня ее знают все, как и ее авторов и исполнителей.
(Прерву этот давнишний рассказ свежей вставкой. В дни 75-летия со дня рождения Джона Леннона я благодаря счастливой случайности попал на телепередачу «Наблюдатель» с ведущим Алексом Дубасом. А там Олег Чилап, поэт и журналист, рассказывал историю создания этой композиции Леннона, а еще зачитал и свой перевод исполняемого в ней текста. Вот он.
Поскольку мир вокруг,
Вращаюсь я.
Поскольку мир вокруг.
Поскольку ветр высок,
То разум свеж.
Поскольку ветр высок.
Любовь как древность и как новь –
И все любовь, и ты любовь.
Поскольку в небе грусть,
Я слезы лью.
Поскольку в небе синь…)
…Но трудно разобраться, где ясно,
где туман,
В потоке информации, с поправкой
на обман…
История с «Because» не прошла бесследно. Во-первых, я с тех пор не читаю ничего в прессе о современной музыке, полагаясь «в потоке информации, с поправкой на обман» в основном на собственные уши. Во-вторых, купил дочери какой-никакой магнитофон. А в третьих, благодаря всему этому в течение десяти с лишним лет был в курсе того, что социологи несколько свысока называют музыкальной молодежной суб-культурой.
…И вот с каких-то пор в доме, кроме «битлов», надолго и настойчиво в отличие от прочих зазвучали иные имена: «Машина времени», Макаревич, Кутиков (прошу прощения у других членов группы – сегодня уже запамятовал их фамилии). И их голоса. К тому времени, когда в «хит-парадах» молодежных газет первые места уверенно, из месяца в месяц, из года в год стала удерживать «Машина времени» (при полнейшем ее отсутствии в «официальном» звучащем мире – радио, ТВ, пластинки, эстрада), у меня уже было представление о ней.
<…> А пока докручивалась кассетная пленка с песнями Макаревича, послушать которую мне предложила уже, можно сказать, взрослая дочь, вспомнилось и про нее совсем недавнее. Телефонный звонок:
– Так про какую симфонию Чайковского ты мне все время говорил?
– Про Шестую.
– Правильно. Ее я и купила.
Не правда ли, конец совсем как в святочном рассказе. И единственное оправдание автора: все – истина. К тому же редактор, если захочет, это запросто выбросит. Никто и не заметит».
Я привел начало и конец той огоньковской публикации. Сама же она посвящена «Машине времени» и Андрею Макаревичу. Там многое о них сказано, но при сегодняшнем прочтении мне самому показалась наиболее существенной фраза: «И если «Пока горит свеча» воздействует нам на душу, то, конечно же, не одними стихами, а стихами внутри музыки, а музыкой внутри голоса, а голосом – именно с той интонацией, которая враз преодолевает все, что есть между магнитофонной пленкой и моим, никому не слышимым, без звуковых волн пропеванием этой миниатюры в те «дни, когда опустишь руки и нет ни слов, ни музыки, ни сил»…
Согласитесь, это было не в духе официозного отношения к «машинистам», свойственного тогда прессе. «…Мы говорим об ансамбле, в котором вполне обеспеченные артисты скидывают с себя перед концертом дубленки и фирменные джинсы, натягивают затрапезные обноски (кеды, трико, пляжные кепочки, веревочки вместо галстуков) и начинают брюзжать и ныть по поводу ими же придуманной жизни, – писала в знаменитом «Рагу из синей птицы» моя любимая «Комсомолка». – …Во все времена находились эстетствующие виршеписцы, живущие вне времени. Однако от безвкусной литературщины до цинизма один шаг. …Здесь же перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание».
Признаюсь: меня греет факт, что в Википедии в «Оценках творчества» «Машины времени» из трех десятков высказываний журналистов и музыкантов раньше моих суждений поставлены только мнения патриарха джазовой и вообще музыкальной критики Алексея Баташева и ведущего специалиста по современной музыке в России Артемия Троицкого.
…Алексей Бурмистенко, ставший мне близким после поездки в США, не очень долго проработал в нашем «Журналисте». В 1980 году его сманила газета «Труд» предложением, от которого невозможно отказаться: поехать собственным корреспондентом в Великобританию. Примерно через два года он появился в Москве, то ли по поводу отпуска, то ли, как было принято в центральных газетах, повариться в общередакционном котле. И пригласил нас с Галей, а также с нашей дочерью и ее мужем к себе, пообещав показать нечто интересное. Мы поехали на другой конец Москвы, почему-то имевший название «Двадцать шесть бакинских комиссаров». Оказалось, Леша привез из Лондона видеомагнитофон и ленту с только что вышедшим там музыкальным фильмом «Стена» (видеоверсия аудиоальбома «Pink Floyd The Wall»). Мы приобщились к совершенно неведомой нам разновидности музыкально-киношного искусства, а главное, узнали и полюбили команду Пинк Флойд.
Между тем, «видек» не слишком бурно, но неуклонно входил в нашу жизнь, и вскоре благодаря ему (уж и не помню, у каких знакомых) мы посмотрели запись концерта группы Куин. Стали и ее поклонниками. Когда песня Фредди Меркьюри «Барселона», исполненная им в дуэте с Монсеррат Кабалье, стала символом олимпийских игр, мы с удовлетворением заметили, что давно знаем ее.
Вот так благодаря счастливым случайностям и заполнялось пространство моих беспорядочных музыкальных представлений. Мне грустно при мысли о том, насколько они могли бы быть обширней, если…
Но нет, я ведь сам не хотел никаких «если»! Счастливо найденное я хочу бывает и требовательным стражем наших порой неистощимых в вожделениях, но, увы, ограниченных природой желаний. Что касается моих музыкальных пристрастий, то под их капризами всегда был испытанный фундамент слуховой гармонии детства. Ни один значительный семейный сбор не обходился без большого песнопения. Зачинателями были дед Алексей Григорьевич и мама. Тут же вступали дядя Геша, тетя Нюра. Это была основа. А когда случай сводил всю родню, свою партию всегда знали и тетя Лена, и тетя Регина, и тетя Мира, и дядя Игорь с женой, профессиональной вокалисткой. Необычайно певческой была большая уральская семья. Казавшийся неисчерпаемым репертуар, видимо, все участники «капеллы» знали еще с детства.
Мне же больше всего нравились минорные старинные романсы.
Белой акации гроздья душистые
Вновь аромата полны…
Однако сейчас-то мне пристало вспомнить не это всем известное начало, а последний сентиментальный куплет:
Годы давно прошли, страсти остыли,
Молодость жизни прошла,
Но белой акации запаха нежного
Мне не забыть, не забыть никогда…
Пятая глава
I
«В запыленной связке старых писем
Мне случайно встретилось одно…»
Читателям книги известна моя приверженность к старым письмам. Но в данном случае эта начальная строка некогда популярной песни возникла в памяти не совсем по делу. То есть речь все-таки о письме, но ни о какой-либо запыленной связке.
…Недели не прошло, как отбыли восвояси дорогие уральские гости – моя сестра Ирина с ее внучкой Дарьей. Для меня, казалось бы, привыкшего к благости одиночества, их отъезд обернулся приступами тихой тоски. И были-то всего ничего – семь дней, а вот поди ж ты. Это скоро пройдет. Но теперь я еще не могу спровадить вчерашние мысли о сестре («Вот так, может быть, вела бы себя наша мама, доживи до таких дней») и о Даше («Пленительный возраст, когда девочка уже не ребенок, но еще и не девушка, описанный множеством авторов – с античности до постмодернизма»).
Кстати, сколько Дарье лет? И тут меня «заколдобило». После инсульта 2009 года так и не вернулась память ни на порядок букв в алфавите, ни почти ни на какие цифры. Позвонить по скайпу и спросить? Неудобно: наверняка задавал этот вопрос и, может быть, не раз.
Проще всего оставить без внимания и забыть. Но это невозможно из-за моего бзика сродни умственному заболеванию: если сказал о факте, должен иметь ключевую информацию. «Умственное заболевание» упомянул неслучайно. Мне свойственны некоторые странности, связанные именно с цифрами. Во время работы собкором «Комсомолки» в Волгограде ко мне была приписана «Волга» с шофером, и я много ездил на ней по городу, области и стране. С какого-то момента заметил за собой глупую привычку производить в уме арифметическую операцию с автомобильным номером попадающихся в поле зрения машин: производил сложение его двух частей. Тогда этот знак состоял из трех букв, обозначавших регион, и четырех цифр, разделенных черточкой (к примеру, 28-43). Так вот, я складывал эти два двухзначных числа и для чего-то смотрел, четная или нечетная получается сумма. И тут же переключался на такое же действие с номером очередного транспортного средства. Будучи не в силах выключить этот счетчик, за день изрядно утомлялся. Перевод в Москву, в центральный аппарат редакции, освободил меня от персональной машины и, соответственно, от наваждения.
Мне кажется, в этом есть что-то сходное с моим пристрастием (видимо, тоже непреодолимым!) к неоспоримым подтверждениям всего, о чем пишу. Поездка в США у меня часто ассоциировалась в памяти с какой-то сказкой. Было или приснилось? А может быть, где-то читано?.. Толстая папка с материалами свидетельствовала: было. Но, наверное, многое и приснилось! Так что писал я об Америке, исключительно опираясь на содержимое папки, стараясь игнорировать «впечатления». И вряд ли бы в этой рукописи упоминал о своих нью-йоркских покупках, если бы не обнаружил магазинных чеков.
Что-то похожее приключилось и с выяснением Дашиного возраста: нет достоверного сведения – не пиши о «пленительном возрасте, когда…» и т. д. Но ведь хочется!
На помощь пришла… память. Бесполезная, по моим понятиям, в поисках истины («как было на самом деле»), она часто незаменима при выборе направления. Вспомнил: когда-то в электронном письме Ирина сообщала о Дашином дне рождения…
И тут надо отдать должное интернетовским и, в частности, е-мэйловским архивным технологиям. Не прошло и двух часов, как я обнаружил письмо. «У нас дома всё более-менее нормализовалось, немного покашливаем все подряд, ну, да это ладно. В выходные отмечали день рождения Даши – 11 лет. Вместо обычной оравы детворы нас было совсем немного из-за эпидемии гриппа (дети придут на следующие выходные). И так хорошо попраздновали. Это ж надо видеть, как человеку нравится свой праздник!» Дата: 12 декабря 2009 года. Значит, Даше скоро будет 16. Классический (в смысле описанный классиками) возраст: «Наташе было шестнадцать лет, и был 1809 год…» (Лев Толстой). Все правильно!
Однако пристрастие к «документу» – не только, а может быть и не столько профессиональная черта. Я не могу об этом не думать. Мне кажется, в нем, в пристрастии, – стремление убедиться в том, что я был. Был на самом деле, а не в невольном воображении, в вымысле, создающемся на экране памяти с первой секунды происходящего, а потом раскрашиваемом и дополняемом в соответствии с «правильными» образами: как должно было быть. Не важно, где создается и совершенствуется «оригинал», в собственной голове, в мыслящем океане («Солярис» Станислава Лема) или где-то еще в вышних силах, фабрикующих и первую, и вторую, и прочие «реальности».
Выяснить, был ли на самом деле, что равнозначно – каким был (если это действительно тебя интересует), можно только, пока существуешь на этой земле. Потому что «тот свет» в соответствии с гипотезой, которой я склонен довериться, состоит из психического сопространства, то есть из нашей же, человеческой психики, и там уже по определению ничего так называемого объективного быть не должно.
Кстати, слепившиеся в ком коллективные невольные фантазии (читай, вымыслы) о минувшем составляют то, что называют историей.
Не случайно новую хронологию породили математики, имеющие дело с беспристрастными сущностями – числами. Не мне судить о достоинствах или превратности новой хронологии. Но уж в истинности того, что преподносится на официальных уроках и лекциях всего мира, может по справедливости усомниться всякий здравомыслящий.
Впрочем, это не моя тема.
А продолжение моей – о письмах. Но уже об электронных. По случаю уточнения возраста моей родственницы я в поиске нужного послания раскрывал некоторые из них. «Созданных» (термин из компьютерной лексики) в конце 2009 – начале 2010 года. И нежданно почувствовал себя щепочкой, мечущейся в потоке того времени.
В электронной переписке нет волшебства энергетики пишущего, передаваемой через рукописную графику, через самое бумагу, которой касалась рука «адресанта». Но есть другое: власть сиюминутности. Отпечатка именно минуты, что автоматически фиксируется в момент отправления.
Это зарегистрированное мгновение помимо твоей воли отправляет тебя туда, назад, это как если бы твой телефонный разговор неизвестно для чего запечатлели на скрижалях… истории. Твоей истории. Внове очутиться на волнах вод, из которых, казалось, давно выплыл, было беспокойно, волнующе.
Я ощутил, е-мэйловские эпистолы легко пробуждают живые чувства, а значит, могут служить литературным материалом. Приведу здесь малую толику почтовых «телефонных разговоров» той поры, внутри которой пролегает граница между обычным течением жизни и полосой беды.
Володя Секачев, литературный агент
26 января 2010, 0:35
Володя! Посылаю Вам вводку к тому рассказов и составы его разделов. Сказать честно, мы оба [я и Галина. – А.Щ.] не слишком хорошо помним содержание некоторых рассказов. Поэтому, если у Вас есть соображения по поводу их отнесения к тому или иному разделу (Вы какие-то из них явно помните лучше), Г.Н. и я с радостью к ним прислушаемся.
А.С.
29 Jan 2010 18:23
Александр Сергеевич и Галина Николаевна, добрый вечер!
Идея сделать сборник детективно-криминальных вещей хорошая. Я посмотрел, вот что получается: "Трем девушкам кануть", "Скелет в шкафу", "Актриса и милиционер", "История в стиле рэп", "Вспомнить нельзя забыть".
В итоге получается хороший том листов на 30. Может, у вас будут какие-то другие предложения.
Володя.
29 января 2010, 22:16
Володя! Вы удачно скомпоновали сборник. Нам, кажется, удалось придумать хорошую идею предисловия. Сейчас главная беда – Г.Н. почти неделю болеет. Будем надеяться, что она победит свой недуг и напишет его, как всегда, замечательно.
А.С.
Юля Тютина, наша давняя подруга
25 февраля 2010, 13:25
Здравствуй, Юля! Спасибо за теплое послание. Нас в последнее время преследуют неудачи в главном – в здоровье. В июле со мной случился инсульт. И пока еще не считаю себя здоровым. Однако приходится. В начале февраля пришлось лечь в больницу Гале. Ей удалили два абсцесса из печени и плюс желчный пузырь. Сейчас она уже дома, но очень слабая, и настроение, сама понимаешь, хреновое. Так что выполняю твою просьбу сообщить несколько слов о нас. О чем-нибудь прочем – в другой раз. Хорошо? Саша.
Ирина, моя сестра
13 марта 2010, 16:59
Здравствуй, Ириша! Я просто хочу сообщить тебе, что вчера Галю выписали из больницы. Конечно, не как здорового человека, но все же такого, что можно отпустить домой. Пока все. Приветы всем родным от меня и от Гали.



