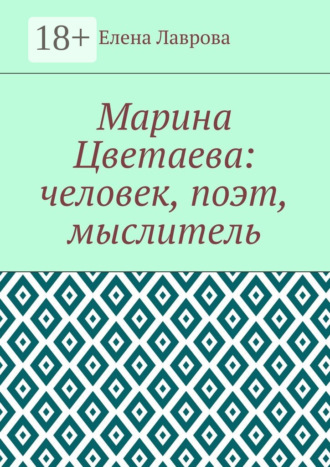
Полная версия
Марина Цветаева: человек, поэт, мыслитель
Надо заметить, что большая, толстая, чёрная (актриса Л. Эрарская) на постели С. Парнок появилась, скорей всего, из-за легкого увлечения Цветаевой в эти дни О. Мандельштамом. Ревность, вызванная ревностью. Цветаева этого Парнок не простила и её «забыла». А Парнок в 1929 году написала стихотворение, посвящённое Марине Баранович, в котором была такая строка:
Но я простила ей!
И я люблю тебя, и сквозь тебя, Марина,
Виденье соименницы твоей.
Впрочем, и Цветаева на самом деле не забыла, ибо написала же: В оны дни ты мне была, как мать,
У Цветаевой в дневнике есть прелюбопытная запись: «Мне не хорошо ни с девушками, ни с женщинами. Девушки для меня слишком глупы, женщины слишком хитры (скрытны)». 44
Д. Свифта однажды спросили, любит ли он человечество? Человечество не люблю, отвечал Свифт, но мне дорог каждый отдельный Джон или Мери. Цветаеву никак нельзя отнести к женщинам, которых природно-роковым образом влекло именно к женщинам. Она не влеклась вообще к женскому полу, как не влеклась и к вообще мужскому. Её привлекали личности. Другое дело, что женские личности её привлекали, несомненно, больше, чем мужские. В женщинах Цветаева всегда находила то, что искала и ценила более всего – душу. Ни об одной женщине Цветаева никогда не сказала так, как о мужчинах – с досадой, презрением и даже ненавистью. О женщинах всегда с уважением и любовью. Месть мужчине – месть всему полу, месть раненой всеми другими мужчинами души.
Всех бывших возлюбленных мужчин Цветаева забывала и не узнавала. Всех бывших возлюбленных женщин Цветаева отпускала. В паре с Парнок Цветаева была младшей. Во всех остальных случаях Цветаева была старшей. Её роль старшей – платонический вариант любовной любви. Полюбив С. Голлидей, Цветаева выработала особый тип отказа, в основе которого лежит нежелание ничего оспаривать у существующего порядка вещей. В «Повести о Сонечке» Цветаева признаётся: «Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала её за плечи, жестом защиты и охраны, старшинства (я была тогда на три года старше: по существу же – на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой».
Братски обнимала.
Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда, без попытки помочь <…> я слишком любила её, всё прочее было меньше. Ибо, когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят настолько меньше, сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви – это морская вода во время жажды. <…> Я предпочитала не утолять жажду вообще». 45
Каково ей это было – постоянно подавлять в себе желание полностью осуществить любовь! Цветаева отказывала себе в этом. Позже в «Письме к амазонке» Цветаева откровенно скажет, как трудно ей это было делать. Н. К. Барни, американка, жившая постоянно в Париже написала книгу «Мысли амазонки», в которой отстаивала право женщины на любовь к женщине. Цветаева отвечает Барни: «Я прочла Вашу книгу. Вы близки мне, как все пишущие женщины. <…> Итак, Вы близки мне как всякое неповторимое существо, особенно неповторимое существо женского пола». 46
Близкое, не потому только, что пишущее существо, но и потому, что мысли, высказанные Барни в её книге, были чрезвычайно близки Цветаевой и живо затронули в ней самые сокровенные глубины. Барни призывает женщин не отказываться от осуществления любви, называя отказ от этого осуществления буржуазной добродетелью. Несмотря на духовную близость, Цветаева оппонирует Барни. Дав ей в начале письма понять, что обе они – амазонки, Цветаева, тем не менее, возражает против того, чтобы называть отказ от осуществления любви буржуазной добродетелью. Напротив, она считает это просто человеческой добродетелью, проявлением мощной силы воли, противоборствующей мощной стихии пола: «подавление энергии требует бесконечно большого усилия, чем её свободное проявление – для которого вообще не нужно усилий. <…> Что трудней – сдержать лошадь или пустить её вскачь? И поскольку лошадь, которую мы сдерживаем, – мы сами – что мучительней: держать себя в узде или разнуздать свои силы? Дышать или не дышать? Помните эту детскую игру: честь победы принадлежала тому, кто мог дольше всех пробыть в сундуке, не задохнувшись. Жестокая и совсем не буржуазная игра. Действовать? Дать себе волю. Всякий раз, когда я отказываюсь, я чувствую, как внутри меня содрогается земля. Содрогающаяся земля – это я. Отказ? Застывшая борьба. Мой отказ называется ещё так: не снисхожу – ничего не оспаривай у существующего порядка». 47
Это признание раскрывает всю глубину драмы: цветаевского отношения к возлюбленным женщинам. Её железная воля – воля гения. Цветаева была истинной ученицей Платона, ибо и здесь мы видим путь восхождения, каковым и был отказ. Совсем не случайно на вопрос о том, какие страны ей нравятся, Цветаева отвечала: Германия и Древняя Греция. Именно в Древней Греции, следуя учению Платона, Цветаева могла бы не отказываться от осуществления любви, а затем отпускать подруг в объятия женихов, чтобы рождались дети.
Но то, что было возможным в Древней Греции, невозможно в современной культуре, считала Цветаева. Эта невозможность осуществления любви, этот запрет, который она сама наложила, приносил ей страдание. «Когда я вижу, как печалится ива, я понимаю Сафо», пишет Цветаева в «Письме к амазонке». Ива – любимое дерево Цветаевой – тело и душа женщин. «Седые волосы, размётанные по лицу, чтобы ничего более не видеть. Седые волосы, метущие лицо земли» В конце письма приписка: «переписала и перечитала в ноябре 1934 года ещё чуть более поседевшая М Ц.» Ясно, что самоё себя ассоциирует Цветаева и с ивой, и с старшей, и с Сафо.
Из «Письма к амазонке» видно, что любовь женщины к женщине Цветаева считает высочайшей духовной ценностью, могущей приносить духовные плоды. Платон, сам восходивший от восхищения юношеской красотой к восхищению красотой философии, понял бы Цветаеву. Она точно также восходила от восхищения человеком к восхищению красотой поэзии, которая одна только и сияла для неё на вершинах Духа.
Заключая эту тему, можно сказать, что сильная чувственность не есть исключительно «привилегия» гениев. Обыкновенные люди тоже нередко обладают повышенной нервной возбудимостью, но – увы! – это не делает их гениями. Весь вопрос в том, – на что расходуется сильная чувственность. Обычный человек растрачивает себя, если его дух слаб, и он не может управлять низшими инстинктами, на многочисленные любовные интрижки, ради услад. Ярким примером тому в литературе может послужить образ Дон Жуана. Для гения конечной целью сексуального возбуждения должна быть не услада сама по себе, но духовный плод. Без духовных плодов гения нет. Что до услады ради услады, которой может увлечься и гений, то Цветаева довольно жестко сказала: «Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни». 48
В сущности не-гений свою сильную чувственность должен был бы расходовать по той же модели, что и гений: любовные переживания – чувственное наслаждение – ребёнок. Но у обыкновенного человека конечная цель – ребёнок – чаше всего выпадает, как у гения может выпасть звено – чувственное наслаждение. Обыкновенный человек конечной целью легко жертвует из эгоистических соображений.
Гений никогда не может пожертвовать конечной целью – духовного творения. В. Соловьёв выразил эту мысль так: «Природа суть танцовщица, дух – зритель. Она себя показала, он её видел, и они могут расстаться». 49
Дух Цветаевой быстро расстался с природой. Тело с его плотскими желаниями стало для Цветаевой чем-то третьестепенным. Она рано перестала с ним считаться, и это было одной из величайших её побед – победы Духа над материей. Впрочем, тело Цветаева иногда и допускала и даже его любила: «Тело! Вот где я его люблю: в деревьях». 50
Бунт Цветаевой против желания любви – лежать (дружба – стоит) есть бунт гения, не желающего быть рабом низших страстей. Гений лежащий, но не действующий, – абсурд. Сильная чувственность, преодоление чувственности как стихии, Божий дар, вдохновение, овладение ремеслом, трудолюбие, действие, восхождение от низшего – к высшему – вот гений! Всем этим требованиям Цветаева отвечала во всей их полноте. Убеждение Цветаевой, что её любил бы Платон, имеет под собою прочнейший фундамент. За этим высказыванием Цветаевой кроется не только та мысль, что Цветаева была последовательницей греческого философа, но и то, что не в одних только юношах Платон мог находить источник чистого вдохновения. Вспомним Сафо. Платона с нею разделяли два века. Платон, восхищенный её поэзией, пишет:
Девять лишь муз называя, мы Сапфо наносим обиду:
Разве мы в ней не должны музу десятую чтить?
Такое высочайшее признание женского гения от Платона многого стоит. И разве не считала себя Цветаева достойной наследницей великой Сафо?!
ЛИТЕРАТУРА
Соловьёв В. Судьба Пушкина//В. Соловьёв. Философия искусства и литературная критика. – М.: Искусство, 1991. С. 276.
Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. Петербург, «Петроград». 1923. С. 19.
Соловьёв. Там же. С. 276.
Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. – М.: Эллис Лак, 1999. С. 306—309.
Цветаева М. Сводные тетради. – М.: Эллис Лак, 1997. C. 516—517.
Цветаева М. Об искусстве. – М.: Искусство, 1991. С. 74.
Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6. – М.: Эллис Лак, 1998. С. 621.
Там же. С. 593.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 139.
Там же. С. 36.
Там же. С. 63.
Там же. С. 132.
Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. С. 295—296.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 29.
Цветаева. Т. 6. С. 614.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 78.
Лихт. Там же. С. 221.
Цветаева. Т. 6. С. 588.
Там же. С. 729.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 66.
Там же. С. 134.
Там же. С. 36.
Там же. С. 496.
Цветаева М. Письма к амазонке//Звезда. №2. 1990. С. 186.
Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. М.: Эллис Лак, 1995. С. 315.
Цветаева. Т. 6. С. 304.
Цветаева. Письмо к амазонке. С. 18.
Цветаева. Т. 7. С. 510.
Цветаева. Т. 6. С. 670
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С.495.
Там же. С. 458.
Там же. С. 272.
Там же. С.543.
Цветаева. Т. 6. С.454.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 133—134.
Цветаева. Т. 6. С. 530.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 484.
Там же. С. 251.
Там же. С. 239.
Там же. С. 123.
Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников. – М.: Культура и традиции, 1992. С. 155.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 270.
Там же. С. 35.
Там же. С. 277.
Цветаева. Сочинения в семи томах. Т. 4. М.: Эллис Лак, 1994. С. 312—313.
Цветаева. Письмо к амазонке. С. 183.
Там же. С. 184.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 86—87.
Соловьёв. Сочинения в 2-х томах. Т.1. – М.: «Мысль», 1990. С. 137.
Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. С. 236.
Творение мифа о поэте
Миф о поэте начал твориться в древние времена. Древние арабы называли поэта многосведущим. Считалось, что поэта вдохновляют боги. Как утверждает Й. Хёйзинга, – «из поэта ясновидца лишь постепенно выделяются фигуры пророка, жреца оракула, стихотворца, философа, законодателя, оратора, демагога, софиста, ритора» [1, 140]. Формировавшийся на протяжении столетий миф о поэте окончательно сложился в первой половине ХХ века под пером М. Цветаевой. В мифе о поэте она выделяет архетип, т. е. первообраз. Таким архетипом является Орфей. У Орфея нет национальности. Он может явиться в любой стране и в любое время. В письме к Р. М. Рильке Цветаева говорит: «Пушкин, Блок и – чтобы назвать всех разом – ОРФЕЙ – никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!)» [2, 93]. Однако степени дарований поэтов различны. Цветаева говорила, что поэты также различны, как планеты. Кроме того, у каждого народа всегда есть особенный поэт – главный Орфей, с которого начинается литература этого народа. Это гении, чьё творчество становится для всех последующих поэтов мерилом, образцом для подражания, Гения Цветаева ставит в ряд поэтов-богов. У греков это Гомер, у итальянцев Данте, у русских А. Пушкин, у украинцев Т. Шевченко. Сколько бы ни появилось потом поэтов у народа, все они будут поставлены рядом с Орфеем для сравнения, чтобы определить масштаб новоявленного дарования. Цветаева замечает, что памятник Пушкину был её первым наглядным уроком иерархии. Ребёнок, держа в руке маленькую фарфоровую куколку, подходит к памятнику и приставляет фигурку к постаменту, «проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост – сравнивать». («Мой Пушкин»). Три фигуры: памятник Пушкину, девочка и фарфоровая куколка. «Куколок», которые никогда не вырастут, много. Девочка, которая вырастет, снизу вверх мерящая памятник, несомненно, символический образ. Цветаева через этот символический образ как бы сразу определит свой собственный масштаб и перспективу роста. В двадцать один года она напишет стихотворение «Встреча с Пушкиным», в котором с достоинством вполне созревшего человека и поэта скажет: Пушкин! – Ты знал бы по первому взору, Кто у тебя на пути. И просиял бы, и под руку в гору Не предложил мне идти. Цветаева редко кому говорила «ты». С Пушкиным она на «ты», как равная, без намёка на интимность. В 1931 году Цветаева напишет: «Я с Пушкиным мысленно с 16-ти лет – всегда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, – ни малейшего соблазна» [3, 443]. Перед Пушкиным Цветаева никогда не чувствовала себя умалённой. Было осознание равенства, не пошлого демократического равенства всех – со всеми, а равенство аристократов Духа, равенство творцов. Вчерашняя маленькая девочка, пообещавшая памятнику Пушкина вырасти, воображает встречу с реальным Пушкиным, тоже молодым. Она не снижает их воображаемое свидание до уровня любовного свидания двух молодых людей, а возвышает до уровня братства: «он бы меня никогда не любил (двойное отсутствие румянца и грамматических ошибок), но он бы со мной дружил до последнего вздоха» [4, 575]. Двое связаны узами принадлежности одному Цеху поэтов. Оба они – одной крови, одной породы. В гору – вместе. Девочка идёт сама, без помощи спутника, потому что силы – равны; и под гору вместе, но – за руку, как друзья. Силу и масштаб своего поэтического дарования Цветаева хорошо осознавала смолоду: «Все настоящие знали себе цену – с Пушкина начиная (До Пушкина! Или м. б., кончая, – ибо я первая после Пушкина, кто так радовался своей силе, так – открыто, так – бескорыстно, так – непереубедимо!) Цену своей силе. Свою силу. (Не свою!)» [2, 396]. Не свою силу, потому что, как считает Цветаева, данную Богом. Если мы обратимся к очерку Цветаевой «Герой труда» о В. Брюсове, то обнаружим много интересных мыслей о труде поэта. Само название очерка звучит иронически, с намёком на реалии коммунизма, идея которого была безоговорочно принята Брюсовым, за что в письме к М. Волошину от 1921 года Цветаева назовёт Брюсова гадом, и продажным существом. Брюсов, кому от рождения не было отпущено божественное вдохновение, силой воли и труда поэтом себя – сделал. Цветаева ставит Брюсова рядом с Пушкиным, чтобы было видно разницу в масштабах. «Волей чуда – весь Пушкин. Чудо воли – весь Брюсов. Меньшего не могу (Пушкин. Всемощность). Раз сегодня не смог, завтра смогу (Пушкин. Чудо). Раз сегодня не смог, никогда не смогу (Брюсов, Воля)». Для Цветаевой Пушкин – чудо, явленное Богом. Чудо всесторонней и всемощной гениальности. Между прочим, о себе Цветаева скажет: «Я – много поэтов, а как это во мне спелось – это уже моя тайна» [2, 408]. Единственность и неповторимость Пушкина, его величие как поэта, Цветаева будет утверждать всегда. Она видела мир, людей, общество отнюдь не с демократической точки зрения. Понятие равенства она никогда не распространяла на сферу духа; она допускала равенство только в бытовом пласту жизни: «Все одинаково хотят: есть, спать, сесть, и. т. д.». Пушкин демократического равенства тоже не признавал, достаточно вспомнить его высказывания об американской демократии. В беседе со Смирновой Пушкин сказал: «В сущности неравенство есть закон природы. Ввиду разнообразия талантов, даже физических способностей в человеческой массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства» [5, 128]. Цветаева не признавала высшими ценности, признаваемые в обществе: власть и богатство. Для неё это были сомнительные ценности. Высшими ценностями для неё были власть и богатство творческого духа. Цветаева видит мир как бы в двух плоскостях: социальной иерархии и духовной иерархии. Эти две плоскости практически никогда не совпадают. С точки зрения социальной иерархии в обществе есть высшие – Царь и дворянство, духовенство и – остальные. С точки зрения духовной иерархии всё смещается и над Царём встаёт – Поэт. «Почему государи не служат поэтом? Не Людовик Х1V – Расину? Разве Людовик – выше? Разве Людовик думал, что – выше? Droit divin, но поэт – больше, явнее droit divin – над человеком: droit divin – над самим поэтом: droit divin Андерсена извлекшее из гроба служившего ему колыбелью, Гейне – из еврейской коммерческой гущи, всех нас – <пропуск одного-двух слов> – извлекшее и поставившее» [2, 450]. Бог являет себя непосредственно в Поэте, а уж потом – в Царе, и прочих. В Царе Бог являет себя как правитель. В Поэте – как Творец. Первая забота Бога – творить, а уж потом управлять сотворённым. Так и Поэтово дело – творить, и Поэтово дело выше дела управления.
Бог творит Вселенную из ничего. Поэт творит ещё не бывшее, – третий мир, или как мы нынче говорим – виртуальную реальность. Именно поэтому Поэт и есть высший, с точки зрения Цветаевой. Именно этим своим особым положением и делом он отличается от остальных: неравенством дара, неравенством духа. Почему Поэт, а не Живописец? Поэт, а не Музыкант? Поэт, а не Сапожник? Потому что орудие созидания у Поэта и у Бога одно и тот же – Слово: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через Него начало быть, что начало быть» (От Иоанна 1, 1—3). Пушкин ставит Поэта выше аристократии породы и богатства; он ставит Поэта вровень с Царём: Ты Царь: живи один… Пушкин в русской поэзии – бог. Цветаева не называет его именно так, но из всего, что она сказала на эту тему, именно это и вытекает. Это косвенно подтверждается через её отношение к Гёте: «Гёте <…> мы должны рассматривать его в ряду не людей, но – богов». («Поэт-альпинист») Так и Пушкин в ряду – богов.
«Любой» и «один» – вот формула Цветаевой, где «один» – величина незаменимая. «Любой» величина, заменимая кем угодно, и когда угодно. Пушкин – один, а Николай 1 – любой, и Дантес, там более – любой, и Гончарова – любая. И этот «любой», говорит Цветаева, всегда найдётся. «Пушкин меня заразил любовью», – уверяет Цветаева. Если поэт есть бог, а Бог есть любовь, то дело поэта творить и любить. Формула усложняется. Всё ведёт к судьбе. Потому что, если поэт – творец, то он должен любить то, что является источником его творчества. Вот тут-то и видна разница между Богом, творящим Вселенную и поэтом, творящим свою поэтическую вселенную. Бог творит из ничего. Поэт творит, имея источником земную действительность, сотворённую Богом, плюс собственную душу, на которую эта действительность воздействует («душу задевает»). Между Богом и Вселенной – никого нет. Бог любит то, что творит и ждёт от творения ответной любви. Даже если творение не оправдывает надежд Бога, на Его судьбе (если у Него есть судьба!) это никак не отразится. Между поэтом и его творением всегда находятся источники, его питающие. От них зависит судьба поэта, которая может быть этими источниками разрушена. Такими источниками могут быть другие люди. Или человек. В особенности «любой». Поэтому в формуле «один» + «любой» – «любой» всегда сильнее. «Один» всегда беззащитен и от «любого» зависим. Вот почему качественность любого так важна. Доброкачественность «любого» – гарантия относительного благополучия поэта, где под благополучием понимается доброкачественность самой его жизни и её безопасность. Злокачественность «любого» ведёт соответственно к катастрофе. Злокачественный «любой» это чернь. Чернь может явиться в каком угодно обличии. Пушкину она явилась в мундире кавалергарда Дантеса и убила его. Цветаева задаёт риторический вопрос: – Какого поэта не убили? И отвечает сама на него: мировая лирика питается юношескими смертями. Поэт, несмотря на своё высочайшее место в духовной иерархии есть существо в высшей степени уязвимое и зависимое. Поэт – смертный бог. И только это равняет его с «любыми». С точки зрения общественной иерархии, что такое поэт? Почти ничего. Он занимает самое низшее место, где-то рядом с сумасшедшими. Его легко унизить. Царь может сделать поэта камер-юнкером. Казалось бы, царь даёт поэту место в общественной иерархии. Не самое высокое место, но и не низкое. А поэт оскорбляется. Потому что в его возрасте и при его славе это унизительно. Крестьянин может посчитать поэта за бездельника. И, по-своему, будет прав. Но считаться бездельником тоже унизительно, потому что поэт знает, что он великий труженик. Вот и получается, что никто поэта не ценит и не понимает. Цветаева сказала, что в жизни врач и священник нужнее поэта. У одра умирающего они, а не поэт. Все нужнее поэта, за исключением дармоедов всех разновидностей. Общество чаще всего так и относится к поэту, как к не нужному человеку. Так возникает в мифе о поэте мифологема «поэт – отверженный». Глядя на памятник Пушкину, Цветаева в детстве получает первый урок не только масштаба и иерархии, но и материала и мысли. Памятник сделан из чёрного чугуна. Ребёнок делает первое открытие «русский поэт – негр». Первичное, но не главное: цвет и материя, цвет и раса. Вторичный смысл главнее первого: негр в определённое время и в определённом месте есть существо отверженное, унижаемое, презираемое. Какой поэт, спрашивает Цветаева, в этом смысле не негр? Мифологема расширяется: «всякий поэт – негр». Всё начинается с Орфея, который и был первый «негр» и первый был растерзан менадами. К этой теме Цветаева неоднократно возвращалась в своей лирике: Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
Затем последуют: «Хвала богатым», «Поэты», «Маяковскому», «Ici – Haut», «Двух станов не боец», «Разговор с гением», «Стихи к Пушкину». «Есть счастливцы…». В стихотворении «Поэты» дан ряд отточенных поэтических формул, развивающих мифологему «поэт – негр». Поэт – лишний, добавочный, полый, затолканный, немотствующий, минмый, невидимый, пария. И, под конец, сравнение, взятое из Ветхого Завета, поэт – Иов. Собственно, получается даже две мифологемы: «поэт – негр», и «поэт – Иов». Первая мифологема о поэте, отвергаемом человеческим обществом. Вторая – о поэте, которого испытывает Бог. Недаром Цветаева недоумённо вопрошала, что хочет от неё Бог? А завершается стихотворение «Поэты» мифологемой «поэт – бог», несмотря ни на что:
Но, выступив из берегов,
Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!
В стихотворении, посвященном памяти М. Волошина, «Ici – Haut» те же мотивы: поэт и в смерти – один. И одиночество его подчеркнуто местом упокоения – на вершине горы, в высоте. Похоронили:
Всечеловека среди высот
Вечных при каждом строе,
Как подобает поэта – под
Небом – и над землёю.
В жизни М. Волошин был, как и подобает поэту «меньше, чем самый последний смазчик». В стихотворении «Двух станов не боец…» эта мифологема «поэт – негр» наполняется вполне конкретным политическим смыслом. Поэт, хотя он и меньше последнего смазчика, в роковые времена становится объектом внимания политических партий, требующих от него: блуда, признания демократического равенства – ряда, обязательного выбора одного из двух – враждующих между собою, и – самое худшее – воспевания сиюминутных ценностей, которые культивирует коммунистическая партия. Цветаева резюмирует: Бывают времена, когда голов, т.е. умов – не надо. Честнее с головами поступили менады, Орфею голову оторвав, и Ирод, приказав отрубить голову Иоанну Крестителю. Поэт – заложник времени, заложник временных ценностей, культивируемых властями и обществом, в то время, как его божественная лира должна воспевать вечное. Поэт – судья своего времени, потому что знает цену временного и бесценность вечного. Поэт – истец, потому что он – самое страдательное существо среди всех остальных людей, среди «любых». В цикле стихотворений «Стихи к Пушкину» Цветаева даёт свой образ Пушкина – образ живого человека и поэта, а не хрестоматийного, парадно-холодного и выдуманного. Её Пушкин – бурный и буйный, свободный и наглый, сластолюбивый женолюбец, повеса и вольнодумец, зубоскал, бунтарь, гений. Пушкинскую родословную Цветаева возводит прямо к Петру Великому, названному прадеду, от кого Пушкин унаследовал шаг, взгляд и главное – дух: Достойный царь – прадед, достойный поэт – правнук. Они друг друга – стоили, жаль, что им не было дано сойтись во времени. Цветаева вновь, как в юности, утверждает своё родство Пушкиным, коего называет по-родственному прадедом:



