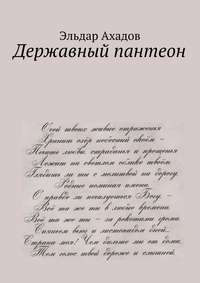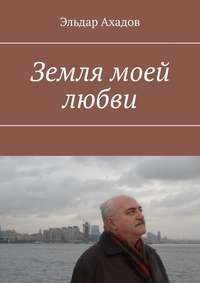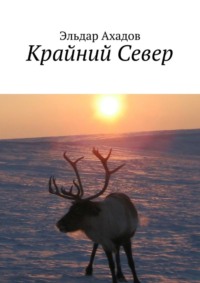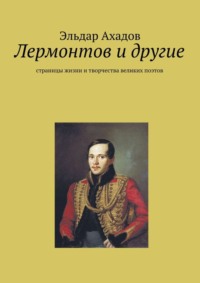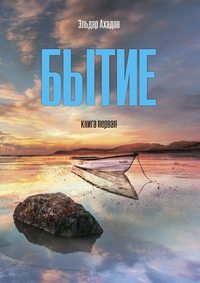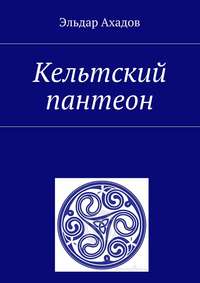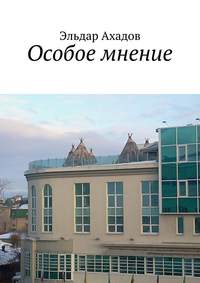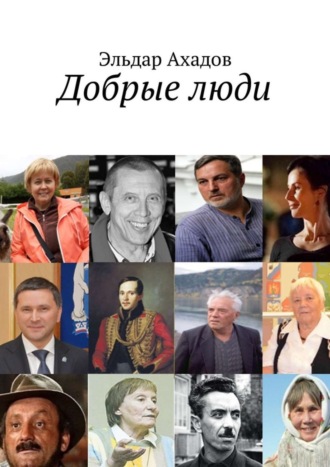
Полная версия
Добрые люди
К готовой долме я делаю соус. Если есть мацони или катык, то добавляю в них мелко нарезанный чеснок (по вкусу) и хорошо перемешиваю, чтобы чеснок там распределился равномерно. Всё. Можно выложить долму, полить соусом и есть. Что я сегодня и сделал…
Ем долму, а сам вспоминаю разные-разные мамины блюда… И ароматный суп кюфта-бозбаш с крупными мясными шариками, внутри которых цельный чернослив, с крупным горохом – нохуд. И плов с мясом в каштанах, и каурма-плов, и сабза-каурма-плов, и кялям-долмасы, и холодную с зеленью довгу, и пити, и душбара, и лявянги (особенно кутум-лявянги), и, конечно, кутабы – с мясом и зеленью… И пярямяча (ну, разумеется!).
А сладости? Боже мой, сладости, которые мне давно уже нельзя есть, увы… От простого лябляби (смеси орешков и изюма), до кяты, шекер-буры, пахлавы и даже шор-когала (он солёный, его мне, наверное, можно немножко)!..
А потом я включаю музыку «Яных-керем», потому что помню её с детства, и грущу. Почему я, сытый, в тепле, а всё равно грущу? Я не умею делать маминудолму. Наверно, поэтому? Нет, не поэтому. Не скажу – почему… Не хочу говорить. Это моё. Извините…
Доброе сердце
Был у меня двоюродный брат Вова. Однажды в детстве, морозной зимой, когда ему было еще лет пять, не больше, взял Вовкин отец его с собой в лес за дровами. Бабушка связала Вовочке как раз к тому дню варежки из козьего пуха и вручила их ему. Красивые, пушистые, новенькие. Поехал Вовка с отцом на санях, запряженных лошадкой, довольный – в новых варежках. Отец дров нарубил и вернулся с сыном домой, а варежек нет. Куда подевались? Смотрят все на Вову: как так? Неужто потерял? А бабушка ведь так старалась! Эх… Вова ладошки замерзшие в карманы прячет и тихо отвечает: «Нет. Я их не потерял. Я их зайчику оставил на кустике. Зайчик все время в лесу живет. А там холодно. Мороз крепкий. Увидит зайчик мои варежки, обрадуется, оденет на лапки и согреет их». Посмеялись взрослые, не стали Вову ругать за его доброе детское сердце. Много лет с тех пор прошло… Нет уже на свете ни бабушки, ни Вовиного отца, ни его самого. Но историю эту буду помнить и другим рассказывать сколько смогу. О добром нельзя забывать.
Северяне
Северянин – это характер. Северянин – это мировосприятие. Северянин – это расстановка приоритетов. Как выглядит Северянин – не важно. Он может быть высоким и низкорослым, бородатым и бритым, полным и худым. Внешний вид не играет никакой роли, потому что в Северянине важно совсем иное – внутреннее духовное содержание.
Когда заходишь в ничейную охотничью избушку, а в ней не только чисто, но и соль, и мука, и крупа, и подсолнечное масло, всё самое необходимое человеку, имеется; а возле избы – полная дровница с наколотыми дровами, которые сложены не для себя, а для любого, кто здесь окажется, это – Северяне.
Когда в голой заснеженной тундре пять мужиков восторженно рассматривают лыжный след, радуются тому человеку, который его оставил, вовсе ничего о нём не зная, обсуждают всё ли с ним в порядке так, будто здесь прошёл кто-то родной, прикидывая его маршрут и понадобится ли помощь – это Северяне.
Когда в чужом незнакомом доме среди случайных чужих людей забываешь на видном месте кошелёк со всеми своими деньгами, уезжаешь и возвращаешься через неделю, и видишь свой кошелёк нетронутым там же, где оставил – это Северяне.
Когда покрытые инеем незнакомые мужики подъезжают к тебе на снегоходе, проехав Бог знает сколько вёрст по безлюдью, и первое что спрашивают – «есть ли спички?», не для того, чтобы их взять, а для того, чтобы поделиться с тобой, если тебе нужно, – это Северяне…
Вот почему я пишу это слово с большой буквы.
Раньше, живя на Большой Земле, время от времени, от случая к случаю, слышал, как некоторые люди, жалуясь на свою тяжкую безденежную беспросветную жизнь, говорили о каких-то своих знакомых с некоторой долей презрения, кривя губы: «А! Эти-то – на север за длинным рублём подались». Так и представлялось воображению: некий длинный рубль, свисающий бесконечной лентой, вроде туалетной бумаги, и жадные, ленивые люди вокруг него, «понаехавшие» на Север.
Только сейчас, годы спустя, понимаю, как это всё глупо и несправедливо. Люди на Севере работают порой в таких, мягко говоря, некомфортных условиях, о которых некоторые господа, обитающие гораздо южнее, и представления не имеют.
И трудятся на совесть. Я горжусь этими людьми, горжусь тем, что они – мои товарищи. Запомните этих прекрасных мужественных трудовых людей. Они тут работают. Просто работают. Каждый день. В мороз, в метель, в стужу, днём и в темноте. Вглядитесь внимательней. Это – лучшие люди на земле. Они не бросят в беде. Они всегда подставят плечо. Сомневаетесь? Приезжайте. Я вас познакомлю. Здесь другие – не ходят.
Дорога
Мы переехали в новое помещение несколько дней назад. Как обычно в таких случаях, стены после строителей и маляров совершенно пусты. Ребята подумали и решили заполнить пустое пространство картой, тем, что привычно и понятно каждому из нас. Нашли в электронном виде карту Ямала, распечатали её на плоттере и повесили на стену.
Ну, висит и висит. Но неймётся маркшейдерам и геодезистам. То один подойдёт, посмотрит, то другой начнёт разглядывать, изучать по карте северные места обитания нашего… Через некоторое время и я не выдержал, подошёл. Как же – это ведь карта! Где-то там, на ней, находимся сейчас и мы сами. Стал разглядывать, читать, и взгляд сам невольно потянулся туда, где когда-то бывал. Вдруг замечаю на карте легкий пунктир – зимнюю дорогу от одного месторождения до другого, от одного поселка к другому, от одной скважины к другой…
Так, это же моя дорога! Это же я её проложил, отвел под нее когда-то землю, узаконил в местных органах власти и прошел первым от начала до конца весь путь! Тонкая пунктирная линия, словно венка у виска забилась, запульсировала внезапно. Забилось чаще сердце моё, запело, вспомнило. Вот она, пурга: метет – ни зги не видать. Мы идём в эту пелену снега и сумасшедшего ветра, зная, что впереди – ни следа. Страшно идти первым? Конечно, страшно. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Только некогда об этом задумываться, надо смотреть вперёд, сверяясь с картой и тусклым экраном навигатора, надо руководить движениями вездеходчика, надо быть спокойным в любой ситуации, вселяя в своих товарищей уверенность, даже тогда, когда её не хватает самому.
А люди! Какие люди рядом! Простые, открытые, обыкновенные и в то же время – потрясающе красивой души люди. Хозяйственный обстоятельный азербайджанец Гамза и Денис-молдаван – вечно чумазый танкист-вездеходчик, отчаянный любитель одесских анекдотов цыган Ванька Куцуров – дорожник-строитель и мешковатый русский увалень бульдозерист Серёга Борщов, спасший мне жизнь… И другие были. И немало их было. И каждому из них – низкий поклон.
Я писал о них и ещё напишу, потому что они достойны того, чтобы о них знали и помнили. Тонкий пунктир на карте – дорога, это и их след на земле…
Борщов
Темно. Холодно. Очень холодно. Кажется, что от холода кости отслаиваются от мышц и болят каждая отдельно, как от ожога. Надо беречь тепло, печка греет воздух, конечно, но только возле себя сантиметрах в пятидесяти, максимум. Дальше – всё леденеет.
Гамза, Денис и я лежим в кабине от Газ-66, которая «сидит на плечах» старенькой Газ-71. Лежим в темноте, укутавшись во всё возможное, потому что на «улице» около минус пятидесяти. Наш «газон» стоит где-то посреди Западно-Мессояхской тундры. Кое-где, словно памятники полярному зимнему ветру, высятся над тундрой причудливые снежные фигуры, изваянные ледяной позёмкой, змеящейся в декабрьской ночи: вот торчит наковальня, а вот снежный осётр, будто выныривающий изо льда. А там – метровые снежные заячьи уши. А неподалеку вообще удивительная сетчатая фигура, напоминающая муляж человеческих легких. Совсем недавно мы с Денисом наблюдали эту, созданную природой скульптурную «галерею» в прыгающем неровном свете вездеходных фар. Наблюдали, пока не заскрипел и не заглох внезапно двигатель нашей «газушки».
Наша ласточка-«газушка» погибла: старенький, многажды латанный двигатель – сердце вездехода, не выдержал постоянных бешеных нагрузок и буквально развалился на ходу. Слава Богу, хоть печка работает автономно…
Но путь на Запад проложен. Мы успели дойти до крайнего западного пункта – репера будущей скважины номер шестьдесят шесть. В одиночку дошли, потому что ТМ-ку, в которой я добирался до передвижного поселка дорожников, забрал по неотложным делам Филиппыч. Он обещал, если что, вернуться через два дня. Но у нас уже не было в запасе этих двух дней. Нужно было идти вперёд.
Тем более, что Владимир Станиславович, поджидавший нас в своем дорожном лагере на развилке «Восток-Запад», сказал, что даёт нам в поддержку всю свою технику: два «Кировца» и три «болотника» (бульдозеры с широкими гусеницами, позволяющими двигаться по заболоченным местам). Он же познакомил нас с дорожным мастером, которому поручил дорожное обслуживание всей западной дороги.
– Вот, знакомьтесь: Сергей Борщов, – представил Станиславович своего подчиненного странно сдержанным голосом.
Перед нами стоял здоровенный детина лет сорока в зимней спецодежде с надвинутой по самые брови шапкой ушанкой. Широкое, простоватое лицо с усами, похожими на моржовые из советских мультфильмов пятидесятых годов. Растерянный до робости взгляд большого ребёнка (Ох, ты, Господи! Начальство приехало! Что делать-то? Куда податься? Ох, пропал я, пропал!).
– Так, Сережа! Организуй всё как положено! Ты знаешь, что на тебя все жалуются?
– Кто? Где? Не знаю я ничего, Владимир Станиславович. Не знаю.
– Вот и плохо, что не знаешь! Живете здесь, даром харчи переводите! Совсем распустились! Когда работать начнёшь? Отвечай!.. Ладно, молчи. Сам вижу, что из тебя толком слова не вытянешь. Смотри, Борщов, доиграешься. Мне Зверев всё про тебя доложил, как ты бездельничал, пока он вот с этими ребятами, рискуя жизнью, пробивал восточный зимник на ГТТ! Ты хоть знаешь, что восточный зимник уже проложен? Молчи, всё равно ничего путнего от тебя не услышишь! Смотри у меня!
Слушая Станиславовича сейчас только начинаю догадываться, что Зверев и есть тот самый пройдоха, который, оказывается, напел своему начальству, как он с лоботрясами из ГТТ, которое сожрало у нас впустую уйму времени, чуть ли не кровь проливал, якобы прокладывая восточную дорогу! Это ж надо так уметь языком всё с ног на голову перевернуть! Теперь уже моему возмущению нет предела!
Эх, и времени объяснять-разъяснять тоже нет. Вернемся: лично открою глаза Станиславовичу на его хвалёного ухаря Зверева. «Помощничек» геройский нашелся…
Ладно, ещё неизвестно, каков этот тюха-матюха Борщов. Может, та ещё птица. Короче, тут явно ухо надо держать востро со всеми.
Борщов просится в нашу «газушку», так как до бульдозера с вешками в санях ещё добраться надо: он возле реки, на которой мы тогда запнулись, дорогу разглаживает.
Ах, ты, бедолага! Надо же было не сообразить, что в долгую дорогу идём: чуть продукты с собой не забыл взять. Мы уже поехали, когда Гамза ему про продукты подсказал. Тогда только выскочил он за коробкой с хлебом, чаем и консервами… Прикомандировали Борщову впридачу парня молодого – вешки ставить. Едем быстро, потому как дорога, на удивление, гладкая и ровная, натоптанная борщевскими мужичками.
Вот и река. Пока нас не было, оказывается, здесь уже сделан надежный выезд к реке и есть бульдозерные следы до неблизкого противоположного берега.
– Значит, так, Сергей, – объясняю дорожнику ситуацию, – у твоего бульдозера средняя скорость около пяти километров в час, а у нашего вездехода при хорошем раскладе по голой тундре может быть и двадцать пять, и даже тридцать км в час. Мы тебя дожидаться не будем. Иди по нашему следу и расставляй вешки вдоль дороги. Но учти: бака с горючим тебе хватит только на треть пути! Дальше не ходи, возвращайся для дозаправки. Или же ползи до двадцать восьмой скважины, это примерно две трети пути, там люди работают, и проси горючего у них. Они ждут нашей дороги, как манны небесной., а следовательно, в горючем тебе отказать не должны. У нас на вездеходе сверху две полные бочки горючего. Учитывая почти полный бак вездехода, нам этого хватит, чтобы вернуться без дозаправки. Всё понял?
Кивает головой, мол, да, понял. Но меня гложут сильные сомнения. Ладно, деваться некуда. Поехали.
Выезжаем на лёд. Недавно совсем, в городе, весьма далеком отсюда, дыша перегаром, рассказывал мне разные страхи про этот переезд один топограф. Глубина реки здесь доходит до тридцати метров. Рядом с местом выхода на лёд впадает в реку Мессояху глубокая, как каньон, речка с быстрым течением, а потому лёд здесь толстым и надежным редко бывает. Если вообще бывает. А ещё случается так, что подо льдом образуется пустота, «воздушный колокол». Именно туда провалился в прошлом году вездеход МТЛБ, неосмотрительно пытавшийся сходу выехать на реку. Неделю вызволяли. Хорошо ещё, что никто не утонул.
Но та зима теплая была. В этом же году – морозы медвежьи, почти месяц стоят. Авось, ничего плохого не случится. Тем более, что следы бульдозера впереди уже есть. Удачно реку проскочили и пошли «намётом» по старому маршруту прошлогоднего зимника: кустов ломать не нужно, ибо нормальный «пролом» в низкой, плотно заросшей кустарником, пойменной части сделан в прежние годы.
Через пару часов приблизились к самому трудному участку: обрывистым, заовраженным берегам Большой Воркутаяхи. Тот же топограф однозначно предупреждал: «Там вы без бульдозера нигде не перейдёте. Обязательно застрянете. Шибко берега крутые, да ещё и не одно русло, а несколько подряд! Так что, не суйтесь даже без спецтехники!»
Предупреждаю обо всём Дениса. Он кивает головой, мол, понял. Но я-то знаю его характер! Раз сказали, что не пройдём, то непременно попробует пройти. Поперёшный у него характер.
И мы пробуем прорваться. Двигатель ревет, дребезжит, машина бьётся среди колдобин и откосов, буквально чудеса совершая. Не знаю, кому ещё по плечу такое. Топограф не врал. Но мы – прошли. В лоб прошли через все буераки и спуски, и подъёмы.
Не знаю, кто кроме Дениса на такое был бы способен… Дальше было проще. Мы добрались до двадцать восьмой, где все, находившиеся в командирском вагончике начальники служб и мастера прежде всего удивились моему появлению, а потом на просьбу о горючке для бульдозера откликнулись очень душевно: «Сколько надо, столько пусть и заливает. Хоть бочку. Для вас – не жалко».
Последние шестнадцать километров давались всё труднее и трудней. Машина ещё шла, но всё её существо, словно конвульсировало, дребезжало внутри.
И мы дошли до конца проектируемой дороги, и повернули назад. Но… недалеко ушли. С километр всего. Умерла наша «ласточка». До последнего шла, сколько могла.
Мы лежим в темноте, понимая всё, что теперь может произойти. Гамза сообщил по спутниковой телефонной связи о случившемся с нами в поселок. Но вертолет поднимут не раньше утра. Потому что экипажей сейчас в поселке нет. Их надо ждать. Да ещё неизвестно когда именно дорожное начальство сообщит о ЧП. Очень оно не любит о таком сообщать. От дорожного отряда на развилке до нас когда-нибудь могут дойти бульдозера, но, нескоро, нескоро… На двадцать восьмом номере «живой» ходячей техники на данный момент просто нет…
Борщов? Скорее всего, судя по Звереву, он давно уже спит в своём вагончике на развилке…
Всё. От холода начинает темнеть в глазах… Тишина. Только в голове шумит. Шумит. Стихает. И опять шумит… Наверное, так застывает кровь? Не вижу. Ничего не вижу. Но шум. Он становится всё явственней. Всё реальней. Денис – глухомань, работа вездеходчика не располагает к остроте слуха. Но Гамза подтверждает: что-то слышно. Мы беремся за руки и медленно, как дети в садике, помогая друг другу, выползаем из кабины…
Вдалеке виднеются огни бульдозера! Борщов! Это едет Борщов!!!
Черт бы тебя подрал, Серёга! Как ты догадался? Почему пошел за нами? Почему?
– Так… Это… Следы были. Я и шел.
– Балда! Ты хоть горючим на скважине заправился? Нет?
– Да, это. Я ж их не знаю: дадут, не дадут. Я просто дальше поехал. За вами.
– С ума сошел?!! У тебя же горючки вернуться уже не хватило бы! Понимаешь? Понимаешь, золотой ты наш!!!
– Ой! Чё-то не подумамши! И правда…
– А парнишка-то твой где?
– Да, я его не взял. Жалко парня. Поморозится ишшо. Я его назад отправил с «Кировцами».
Дорогой ты наш Серёга Борщов! Низкий тебе поклон, русский мужик! Простой, бесхитростный труженик. И пусть пока ты ездил за нами, прощелыга Зверев утащил у твоих ребят на свою базу весь запас мяса, масла и хлеба, оставив только немного крупы и макарон, и пусть начальник твой, Владимир Станиславович бурчит на тебя… Это неважно.
Жизнь всё расставит по своим местам. И каждому воздастся по делам его. Вот увидишь, Серёга. Вот увидишь, родной…
Маруська
Занесло меня как-то декабрьской ночной метелью в старенькую гостиницу в маленьком тундровом поселке. Гостиница без особых удобств – всё в коридоре, общее. Обшарпанное. Заслуженное. В советские ещё времена отстроенное. Типовое – для колхозников, раньше такое в каждом городе возле рынка было, и везде одинаково называлось – «Колос» почему-то.
Но выбирать было не из чего. Возвращался я из тундры, после многочасовой изнурительной тряски в попутном «Урале» среди бесконечных безлюдных снегов. Очень хотелось спать, вытянув ноги горизонтально. Что я и сделал через пару минут после того, как заселился в комнату.
Просыпаюсь утром от резких нечеловеческих вскриков в коридоре. Что такое? Выглянул. Никого. Опять вскрик. Заметил, что доносится он из помещения напротив чуть наискосок. Перед ним вывеска на стене: «Кафе «Мечта». В такой глуши – и целое кафе! Ну, конечно, – мечта и есть. С утра особенно. Умылся и пошел в это самое «кафе». Захожу. И кто тут кричал с утра?
Перед ближайшим столом стоит на стуле и, раскачиваясь, держится за его спинку обеими мохнатыми руками обыкновенная мартышка. То есть, натурально – обезьяна. И не где-нибудь там, в джунглях, а здесь, в дикой тундре! А мартышка, оказывается, прибежала требовать с поварихи законного завтрака. И меня вперед себя пропускать, между прочим, не намерена!
Да, я-то особо и не возражал. Забавное существо. Повариха (она же официант, она же вахтерша, она же и швейцар-вышибала) рассказала короткую историю этой любительницы утренних завтраков в кафе.
Приезжали недели две назад в их поселок какие-то киношники молодые. Вероятно, зимнюю природу снимать. Что тут снимешь полярной ночью-то? С ними и эта обезьянка была. Зачем взяли её в такие холода – непонятно. Чтоб не скучно было, наверное. Пропьянствовали пару дней и уехали. А животное некормленое, естественно, на улицу сбежало. Никто из парней о ней с похмелья и не вспомнил.
Вскоре нашли Марусю (так её здесь сходу «окрестили») два пацана-школьника из дома напротив. Нашли и сюда принесли. К кормежке ближе – в «кафе». Оказывается, сидела несчастная дрожащая Маруся на заборе возле помойки, облаиваемая всеми местными собаками. Видимо, пыталась поживиться на помойке, да не успела. Она ведь для северных собак кто? Дичь. Экзотическая, конечно, но – только дичь, не более того.
Пожалели люди обезьянку, пригрели, выходили от стресса, прикормили, а дальше как быть – никто не знает. Но умереть не дадут. Это я точно знаю. Не такой у нас народ на севере, чтобы живой душе не помочь. Спасибо, люди добрые, за ваши сердца. Фильмов они снимать не умеют, конечно, но зато и в беде никого не бросают. Проверено, правда, Маруська?
Бегущий олень
По рассказам древнегреческого историка Геродота, однажды скифы задумали дать персидскому войску царя Дария решающее сражение. Выбрали место. Скифская кавалерия построилась для битвы. Персы тоже с копьями наперевес приготовились сражаться. И вдруг, откуда ни возьмись, между двумя армиями пробежал заяц. Заметив зверька, скифы сорвались с места и бросились его догонять. Сражение так и не состоялось. Какая битва? Вы что? Добыча убегает! Могучий древний инстинкт охотника и добытчика присущ нормальному мужскому характеру, и он естественно доминирует над всеми прочими доводами логики.
Ездили вчера с рекогносцировочными целями, исследуя возможные пути подхода к старым давно законсервированным скважинам. Когда впереди исчезли какие-либо следы недавнего проезда автотранспорта и перед глазами, куда ни глянь, остались только ровные поля глубокого нетронутого снега, мы начали прокладывать в них свой маршрут в выбранном направлении. Впрочем, какая-то дорога здесь когда-то всё-таки была, о чём свидетельствовали верхушки кустов, проглядывавшие из-под сугробов, словно редкие точечные пунктиры. Со мной в кабине находились два промысловых геолога, работающих по вахтовому графику, и водитель вездехода – Иван. С одним из геологов – Романом мы были немного знакомы по совместному летнему вертолётному облёту скважин, второго я не знал.
Поиски нужной дороги, особенно там, где её нет, – дело кропотливое, требующее внимания и навыка. Поэтому следы на снегу, пересекающие наш маршрут, первым заметил Иван. Он предположил, что они – заячьи. Однако, Рома тут же отверг его предположение, обратив наше внимание на то, что похоже у их владельца имелся хвост. Следы – то тянулись параллельно нашему движению, то вновь пересекали его. Мне версия Романа показалась более убедительной. « Наверное – песец или лиса», – решил я… Едем дальше. Следы не пропадают из виду, тоже тянутся. Начали припоминать разные случаи встреч с дикими животными.
И в этот момент Рома воскликнул, указывая пальцем: «Да, вот же он!» Точно! Поначалу мне сослепу показалось, что там, далеко впереди – что-то похожее на собаку с загнутым крючком хвостом. «Хаски?» – вопросительно посмотрел на меня Иван. «Какие хаски?» – захохотал шибко зоркий Рома -, «это же олень!» Ого! Так и есть!
Мы приближались к нему, а он всё стоял, как бы поджидая нас. Однако, когда между ним и вездеходом осталось метров 15, зверь побежал. Каким образом бегают лесные звери при встрече с человеком не пешим, а находящимся в автотранспорте? По опыту своему скажу, несмотря на то, что зверь в каждый момент своего движения волен бежать в какую ему будет угодно сторону, на самом деле он, по возможности, всегда бежит абсолютно одинаково – прямо перед транспортным средством, никуда не сворачивая с дороги ни вправо, ни влево. Так в прежние годы молодости в одном из кавказских ущелий было при моей встрече с диким кабаном на ночной горной дороге, так произошло и в случае с зайцем в енисейской тайге. И теперь – олень бежал перед машиной строго по прямой линии, преодолевая глубокую снежную целину.
Первым догадался запечатлеть оленя на память второй геолог. Он встал за спиной водителя и начал щёлкать сотовым телефоном. Через минуту и мы с Романом присоединились к фотоохоте. Древний охотничий азарт на минуту захлестнул всю нашу дружную компанию. Какие скважины? Какая рекогносцировка?? Олень убегает! Добыча уходит!.. Как точно и прозорливо писал когда-то поэт Александр Блок: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…» Геродот ничего не придумывал. Видимо, всё так и было во времена царя Дария, как он описал. Суть людская не изменилась.
Наконец, олень сделал прыжок в сторону, отбежал ещё метров десять и, поглядывая на нас, остановился передохнуть. А мы проехали мимо. Вот и вся охота.
Анна Николаевна
Она слушает вас и опять улыбается своей немного застенчивой божественной улыбкой, словно ожидая, что вот-вот должно произойти нечто необыкновенное, светлое, чудесное. Нет-нет, не настораживайтесь, ни в коем случае, никакого подвоха, просто перед вами человек такой. Изумительный человек, улыбчивая светлая женщина. Её зовут Анна Николаевна. У неё взрослые дети, сыновья, которых любит она бесконечно, как может любить одна лишь мать. У неё замечательный муж, настоящий друг, на которого всегда можно положиться хрупкой и нежной женщине.
Она и на работе такая же заботливая. Помнит о дне рождения каждого из нас, её коллег, как, наверное, помнят только о родных. Обязательно загодя напомнит всем остальным, чтобы никто не забыл поздравить своего товарища.
Работает Анна Николаевна в маркшейдерском отделе нашего департамента маркшейдерии и землепользования. Вот, смотрите, собралась она ехать на общей служебной машине в другой офис: срочно нужно отвезти на подпись и забрать важные документы. Торопится, идет по коридору, в руках целая кипа бумаг. Время поджимает. И всё равно: она обязательно заглянет по пути в отдел землепользования и спросит: не нужно ли ещё кому-то в тот же офис, нет ли у земельщиков каких-то дел и бумаг, которые необходимо направить туда же? Никогда не пройдет мимо, как бы ни спешила. На неё всегда можно положиться. Не подведёт.