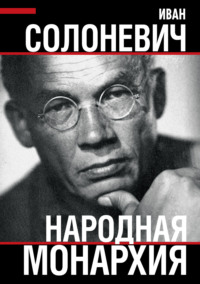Полная версия
Россия в концлагере (сборник)
Московское бюро погоды оказалось, как в сущности следовало предполагать заранее, советским бюро погоды. В августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо суток вязли и тонули в них и с великим трудом и риском выбирались обратно. Побег был отложен на июнь 1933 г.
8 июня 1933 года, рано утром, моя bеllе-sоеur37 Ирина38 поехала в Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявил, что у него какие-то боли в животе. Борис ощупал Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицит. Борис поехал в Москву «отменять билеты», я вызвал еще двух врачей, и к полудню все сомнения рассеялись: аппендицит. Везти сына в Москву, в больницу, на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул. Предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию. Но во всяком случае побег был сорван второй раз. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная – продовольствие, документы, оружие и пр. – все было сорвано. Психологически это был жестокий удар, совершенно непредвиденный и неожиданный удар, свалившийся, так сказать, совсем непосредственно от судьбы. Точно кирпич на голову…
Побег был отложен на начало сентября – ближайший срок поправки Юры после операции.
Настроение было подавленное. Трудно было идти на такой огромный риск, имея позади две так хорошо подготовленные и все же сорвавшиеся попытки. Трудно было потому, что откуда-то из подсознания бесформенной, но давящей тенью выползало смутное предчувствие, суеверный страх перед новым ударом, ударом неизвестно с какой стороны.
Наша основная группа – я, сын, брат и жена брата – были тесно спаянной семьей, в которой каждый друг в друге был уверен. Все были крепкими, хорошо тренированными людьми, и каждый мог положиться на каждого. Пятый участник группы был более или менее случаен: старый бухгалтер Степанов (фамилия вымышлена)39, у которого за границей, в одном из лимитрофов40, осталась вся его семья и все его родные, а здесь, в СССР, потеряв жену, он остался один как перст. Во всей организации побега он играл чисто пассивную роль, так сказать, роль багажа. В его честности мы были уверены точно так же, как и в его робости.
Но кроме этих пяти непосредственных участников побега о проекте знал еще один человек – и вот именно с этой стороны и пришел удар.
В Петрограде жил мой очень старый приятель, Иосиф Антонович41. И у него была жена г-жа Е.42, женщина из очень известной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бывает большинство женщин, считающих себя великими дипломатками.
За три недели до нашего отъезда в моей салтыковской голубятне, как снег на голову, появляется г-жа Е., в сопровождении мистера Бабенко43. Мистера Бабенко я знал по Питеру – в квартире Иосифа Антоновича он безвылазно пьянствовал года три подряд.
Я был удивлен этим неожиданным визитом, и я был еще более удивлен, когда г-жа Е. стала просить меня захватить с собой и ее. И не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ее женихом или мужем, или почти мужем – кто там разберет при советской простоте нравов.
Это еще не был удар, но это уже была опасность. При нашем нервном состоянии, взвинченном двумя годами подготовки, двумя годами неудач, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имела г-жа Е. посвящать м-ра Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны? А что Бабенко был посвящен – стало ясно, несмотря на все отпирательства г-жи Е.
В субъективной лояльности г-жи Е. мы не сомневались. Но кто такой Бабенко? Если он сексот, – мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем. Если он не сексот, – он будет нам очень полезен: бывший артиллерийский офицер, человек с прекрасным зрением и прекрасной ориентировкой в лесу. А в Карелии, с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса, ориентировка в странах света могла иметь огромное значение. Его охотничьи и лесные навыки мы проверили, но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность.
Зашел разговор об оружии, и Бабенко сказал, что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана и что на пятьсот шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной с человека.
Этот «наган» подействовал на меня как удар обухом. На пятьсот шагов наган вообще не может дать прицельного боя, и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать.
В стройной биографии Николая Артемьевича Бабенки образовалась дыра, и в эту дыру хлынули все наши подозрения…
Но что нам было делать? Если Бабенко – сексот, то все равно мы уже «под стеклышком», все равно где-то здесь же в Салтыковке, по каким-то окнам и углам, торчат ненавистные нам агенты ГПУ, все равно каждый наш шаг – уже под контролем…
С другой стороны, какой смысл Бабенке выдавать нас? У г-жи Е. в Польше – весьма солидное имение, Бабенко – жених г-жи Е., и это имение, во всяком случае, привлекательнее тех тридцати советских сребренников, которые Бабенко, может быть, получит – а может быть, и не получит – за предательство…
Это было очень тяжелое время неоформленных подозрений и давящих предчувствий. В сущности, с очень большим риском и с огромными усилиями, но мы еще имели возможность обойти ГПУ: ночью уйти из дому в лес и пробираться к границе, но уже персидской, а не финской и уже без документов и почти без денег.
Но… мы поехали. У меня было ощущенье, точно я еду в какой-то похоронной процессии, а покойники – это все мы.
В Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам. Поездка г-жи Е. отпала, так как у нее появилась возможность легального выезда через «Интурист»44. Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плац-пересадочные билеты до ст. Шуйская Мурманской ж. д.
Я не думаю, чтобы кто бы то ни было из нас находился во вполне здравом уме и твердой памяти. Я как-то вяло отметил в уме и «оставил без последствий» тот факт, что вагон, на который Бабенко достал плацкарты, был последним, в хвосте поезда, что какими-то странными были номера плацкарт – вразбивку: 3-й, 6-й, 8-й и т. д., что главный кондуктор без всякой к этому необходимости заставил нас рассесться «согласно взятым плацкартам», хотя мы договорились с пассажирами о перемене мест. Да и пассажиры были странноваты…
Вечером мы все собрались в одном купе. Бабенко разливал чай, и после чаю я, уже давно страдавший бессонницей, заснул как-то странно быстро, точно в омут провалился…
Я сейчас не помню, как именно я это почувствовал… Помню только, что я резко рванулся, отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе, человек глухо стукнулся головой об стенку, что кто-то повис на моей руке, кто-то цепко обхватил мои колени, какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло – а прямо в лицо уставились три или четыре револьверных дула.
Я понял, что все кончено. Точно какая-то черная молния вспыхнула невидимым светом и осветила все – и Бабенко с его странной теорией баллистики, и странные номера плацкарт, и тех 36 пассажиров, которые в личинах инженеров, рыбников, бухгалтеров, железнодорожников, едущих в Мурманск, в Кемь, в Петрозаводск, составляли, кроме нас, все население вагона.
Вагон был наполнен шумом борьбы, тревожными криками чекистов, истерическим визгом Степушки, чьим-то раздирающим уши стоном… Вот почтенный «инженер» тычет мне в лицо кольтом, кольт дрожит в его руках, инженер приглушенно, но тоже истерически кричит: «Руки вверх, руки вверх, говорю я вам!»
Приказание – явно бессмысленное, ибо в мои руки вцепилось человека по три на каждую и на мои запястья уже надета «восьмерка» – наручники, тесно сковывающие одну руку с другой… Какой-то вчерашний «бухгалтер» держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину. Человек, которого я отбросил к стене, судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее… Словно все купе ощетинилось стволами наганов, кольтов, браунингов…45
***Мы едем в Питер в том же вагоне, что и выехали. Нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому. Вероятно, вне вагона никто ничего и не заметил.
Я сижу у окна. Руки распухли от наручников, кольца которых оказались слишком узкими для моих запястий. В купе, ни на секунду не спуская с меня глаз, посменно дежурят чекисты – по три человека на дежурство. Они изысканно вежливы со мной. Некоторые знают меня лично. Для охоты на столь «крупного зверя», как мы с братом, ГПУ, по-видимому, мобилизовало половину тяжелоатлетической секции ленинградского «Динамо». Хотели взять нас живьем и по возможности неслышно.
Сделано, что и говорить, чисто, хотя и не без излишних затрат. Но что для ГПУ значат затраты? Не только отдельный «салон-вагон», и целый поезд могли для нас подставить.
На полке лежит уже ненужное оружие. У нас были две двустволки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины – маленький браунинг, который Юра контрабандой привез из-за границы… В лесу, с его радиусом видимости в 40–50 метров, это было бы очень серьезным оружием в руках людей, которые бьются за свою жизнь. Но здесь, в вагоне, мы не успели за него даже и хватиться.
Грустно – но уже все равно. Жребий был брошен, и игра проиграна вчистую…
В вагоне распоряжается тот самый толстый «инженер», который тыкал мне кольтом в физиономию. Зовут его Добротин. Он разрешает мне под очень усиленным конвоем пойти в уборную, и, проходя через вагон, я обмениваюсь деланной улыбкой с Борисом, с Юрой… Все они, кроме Ирины, тоже в наручниках. Жалобно смотрит на меня Степушка. Он считал, что на предательство со стороны Бабенки – один шанс на сто. Вот этот один шанс и выпал…
Здесь же и тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной невинностью в бегающих глазах… Господи, кому при такой роскошной мизансцене нужен такой дешевый маскарад!..46
Поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках и никак не может открыть их. Руки мои превратились в подушки. Борис, уже раскованный, разминает кисти рук и иронизирует: «Как это вы, товарищ Добротин, при всей вашей практике, до сих пор не научились с восьмерками справляться?»
Потом мы прощаемся с очень плохо деланным спокойствием. Жму руку Бобу. Ирочка целует меня в лоб. Юра старается не смотреть на меня, жмет мне руку и говорит:
– Ну что ж, Ватик… До свидания… В четвертом измерении…
Это его любимая и весьма утешительная теория о метампсихозе47 в четвертом измерении; но голос не выдает уверенности в этой теории.
Ничего, Юрчинька. Бог даст – и в третьем встретимся…
***Стои́т совсем пришибленный Степушка – он едва ли что-нибудь соображает сейчас. Вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов, хотя между нами и волей – циклопические железобетонные стены тюрьмы ОГПУ, тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что советская власть строит прочно и в расчете на долгое, очень долгое время.
Я подымаюсь по каким-то узким бетонным лестницам. Потом целый лабиринт коридоров. Двухчасовой обыск. Одиночка. Четыре шага вперед, четыре шага назад. Бессонные ночи. Лязг тюремных дверей…
И ожидание.
Допросы
В коридорах тюрьмы – собачий холод и образцовая чистота. Надзиратель идет сзади меня и командует: налево… вниз… направо… Полы устланы половиками. В циклопических стенах – глубокие ниши, ведущие в камеры. Это – корпус одиночек…
Издали, из-за угла коридора, появляется фигура какого-то заключенного. Ведущий его надзиратель что-то командует, и заключенный исчезает в нише. Я только мельком вижу безмерно исхудавшее обросшее лицо. Мой надзиратель командует:
– Проходите и не оглядывайтесь в сторону.
Я все-таки искоса оглядываюсь. Человек стои́т лицом к двери, и надзиратель заслоняет его от моих взоров. Но это – незнакомая фигура…
Меня вводят в кабинет следователя, и я, к своему изумлению, вижу Добротина, восседающего за огромным министерским письменным столом48.
Теперь его руки не дрожат; на круглом, хорошо откормленном лице – спокойная и даже благожелательная улыбка.
Я понимаю, что у Добротина есть все основания быть довольным. Это он провел всю операцию, пусть несколько театрально, но втихомолку и с успехом. Это он поймал вооруженную группу, это у него на руках какое ни на есть, а все же настоящее дело, а ведь не каждый день, да, пожалуй, и не каждый месяц ГПУ, даже ленинградскому, удается из чудовищных куч всяческой провокации, липы, халтуры, инсценировок, доносов, «романов» и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно «жемчужное зерно» настоящей контрреволюции, да еще и вооруженной.
Лицо Добротина лоснится, когда он приподымается, протягивает мне руку и говорит:
– Садитесь, пожалуйста, Иван Лукьянович…
Я сажусь и всматриваюсь в это лицо, как хотите, а все-таки победителя. Добротин протягивает мне папиросу, и я закуриваю. Я не курил уже две недели, и от папиросы чуть-чуть кружится голова.
– Чаю хотите?
Я, конечно, хочу и чаю… Через несколько минут приносят чай, настоящий чай, какого «на воле» нет, с лимоном и с сахаром.
– Ну-с, Иван Лукьянович, – начинает Добротин, – вы, конечно, прекрасно понимаете, что нам все, решительно все известно. Единственная правильная для вас политика – это карты на стол.
Я понимаю, что какие тут карты на стол, когда все карты и без того уже в руках Добротина. Если он не окончательный дурак – а предполагать это у меня нет решительно никаких оснований, – то, помимо бабенковских показаний, у него есть показания г-жи Е. и, что еще хуже, показания Степушки. А что именно Степушка с переполоху мог наворотить – этого наперед и хитрый человек не придумает.
Чай и папиросы уже почти совсем успокоили мою нервную систему. Я почти спокоен. Я могу спокойно наблюдать за Добротиным, расшифровывать его интонации и строить какие-то планы самозащиты – весьма эфемерные планы, впрочем…
– Я должен вас предупредить, Иван Лукьянович, что вашему существованию непосредственной опасности не угрожает. В особенности если вы последуете моему совету. Мы – не мясники. Мы не расстреливаем преступников, гораздо более опасных, чем вы. Вот, – тут Добротин сделал широкий жест по направлению к окну. Там, за окном, во внутреннем дворе ГПУ, еще достраивались новые корпуса тюрьмы. – Вот тут работают люди, которые были приговорены даже к расстрелу, и тут они своим трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью. Наша задача – не карать, а исправлять…
Я сижу в мягком кресле, курю папиросу и думаю о том, что это дипломатическое вступление решительно ничего хорошего не предвещает. Добротин меня обхаживает. А это может означать только одно: на базе бесспорной и известной ГПУ и без меня фактической стороны нашего дела Добротин хочет создать какую-то «надстройку», раздуть дело, запутать в него кого-то еще. Как и кого именно – я еще не знаю.
– Вы, как разумный человек, понимаете, что ход вашего дела зависит прежде всего от вас самих. Следовательно, от вас зависят и судьбы ваших родных – вашего сына, брата… Поверьте мне, что я не только следователь, но и человек. Это, конечно, не значит, что вообще следователи – не люди… Но ваш сын еще так молод…
Ну-ну, думаю я, не ГПУ, а какая-то воскресная проповедь.
– Скажите, пожалуйста, товарищ Добротин, вот вы говорите, что не считаете нас опасными преступниками… К чему же тогда такой, скажем, расточительный способ ареста? Отдельный вагон, почти четыре десятка вооруженных людей…
– Ну, знаете, вы – не опасны с точки зрения советской власти. Но вы могли быть очень опасны с точки зрения безопасности нашего оперативного персонала… Поверьте, о ваших атлетических достижениях мы знаем очень хорошо. И так ваш брат сломал руку одному из наших работников.
– Что это – отягчающий момент?
– Э нет, пустяки. Но если бы наших работников было бы меньше, он переломал бы кости им всем… Пришлось бы стрелять… Отчаянный парень ваш брат.
– Неудивительно. Вы его лет восемь по тюрьмам таскаете за здорово живешь…
– Во-первых, не за здорово живешь… А во-вторых, конечно с нашей точки зрения, ваш брат едва ли поддается исправлению… О его судьбе вы должны подумать особенно серьезно. Мне будет очень трудно добиться для него… более мягкой меры наказания. Особенно если вы мне не поможете.
Добротин кидает на меня взгляд в упор, как бы ставя этим взглядом точку над каким-то невысказанным «i». Я понимаю – в переводе на общепонятный язык это все значит: или вы подпишете все, что вам будет приказано, или…
Я еще не знаю, что именно мне будет приказано. По всей вероятности, я этого не подпишу… И тогда?
– Мне кажется, товарищ Добротин, что все дело – совершенно ясно и мне только остается письменно подтвердить то, что вы и так знаете.
– А откуда вам известно, что именно мы знаем?
– Помилуйте, у вас есть Степанов, г-жа Е., «вещественные доказательства» и, наконец, у вас есть товарищ Бабенко.
При имени Бабенко Добротин слегка улыбается.
– Ну у Бабенки есть еще и своя история – по линии вредительства в Рыбпроме.
– Ага, так это он так заглаживает вредительство?
– Послушайте, – дипломатически намекает Добротин, – следствие ведь веду я, а не вы…
– Я понимаю. Впрочем, для меня дело так же ясно, как и для вас.
– Мне не все ясно. Как, например, вы достали оружие и документы?
Я объясняю: я, Юра и Степанов – члены союза охотников, следовательно, имели право держать охотничьи, гладкоствольные ружья. Свою малокалиберную винтовку Борис спер в осоавиахимовском49 тире. Браунинг Юра привез из-за границы. Документы – все совершенно легальны, официальны и получены таким же легальным и официальным путем – там-то и там-то.
Добротин явственно разочарован. Он ждал чего-то более сложного, чего-то, откуда можно было бы вытянуть каких-нибудь соучастников, разыскать какие-нибудь «нити» и вообще развести всякую пинкертоновщину. Он знает, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку – в СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удается. Я рассказываю, как мы с сыном участвовали в разных экспедициях: в Среднюю Азию, в Дагестан, Чечню и т. д., и что под этим соусом я вполне легальным путем получил оружие. Добротин пытается выудить хоть какие-нибудь противоречия из моего рассказа, я пытаюсь выудить из Добротина хотя бы приблизительный остов тех «показаний», какие мне будут предложены. Мы оба терпим полное фиаско.
– Вот что я вам предложу, – говорит наконец Добротин. – Я отдам распоряжение доставить в вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите все показания, не скрывая решительно ничего. Еще раз напоминаю вам, что от вашей откровенности зависит все.
Добротин опять принимает вид рубахи-парня, и я решаюсь воспользоваться моментом:
– Не можете ли вы, вместе с бумагой, приказать доставить мне хоть часть того продовольствия, которое у нас было отобрано?
Голодая в одиночке, я не без вожделения в сердце своем вспоминал о тех запасах сала, сахару, сухарей, которые мы везли с собой и которые сейчас жрали какие-то чекисты…
– Знаете, Иван Лукьянович, это будет трудно. Администрация тюрьмы не подчинена следственным властям. Кроме того, ваши запасы, вероятно, уже съедены… Знаете ли, скоропортящиеся продукты…
– Ну скоропортящиеся мы и сами могли бы съесть…
– Да… Вашему сыну я передал кое-что, – врал Добротин (ничего он не передал). – Постараюсь и вам. Вообще я готов идти вам навстречу и в смысле режима, и в смысле питания… Надеюсь, что и вы…
– Ну конечно. И в ваших, и в моих интересах покончить со всей этой канителью возможно скорее, чем бы она ни кончилась…
Добротин понимает мой намек.
– Уверяю вас, Иван Лукьянович, что ничем особенно страшным она кончиться не может… Ну пока, до свиданья.
Я подымаюсь со своего кресла и вижу: рядом с креслом Добротина из письменного стола выдвинута доска, и на доске крупнокалиберный кольт со взведенным курком.
Добротин был готов к менее великосветскому финалу нашей беседы…
Степушкин роман
Вежливость – качество, приятное даже в палаче. Конечно, очень утешительно, что мне не тыкали в нос наганом, не инсценировали расстрела. Но, во-первых, это до поры до времени, и, во-вторых, допрос не дал решительно ничего нового. Весь разговор – совсем впустую. Никаким обещаниям Добротина я, конечно, не верю, как не верю его крокодиловым воздыханиям по поводу юриной молодости. Юру, впрочем, вероятно, посадят в концлагерь. Но что из того? За смерть отца и дяди он ведь будет мстить – он не из тихих мальчиков. Значит, тот же расстрел – только немного попозже. Степушка, вероятно, отделается дешевле всех. У него одного не было никакого оружия, он не принимал никакого участия в подготовке побега. Это – старый, затрушенный и вполне аполитичный гроссбух. Кому он нужен – абсолютно одинокий, от всего оторванный человек, единственная вина которого заключалась в том, что он, рискуя жизнью, пытался пробраться к себе домой, на родину, чтобы там доживать свои дни…
Я наскоро пишу свои показания и жду очередного вызова, чтобы узнать, где кончится следствие как таковое и где начнутся попытки выжать из меня «роман».
Мои показания забирает коридорный надзиратель и относит к Добротину. Дня через три меня вызывают на допрос.
Добротин встречает меня так же вежливо, как и в первый раз, но лицо его выражает разочарование.
– Должен вам сказать, Иван Лукьянович, что ваша писанина никуда не годится. Это все мы и без вас знаем. Ваша попытка побега нас очень мало интересует. Нас интересует ваш шпионаж.
Добротин бросает это слово как какой-то тяжелый метательный снаряд, который должен сбить меня с ног и выбить из моего, очень относительного конечно, равновесия. Но я остаюсь равнодушным. Вопросительно и молча смотрю на Добротина.
Добротин «пронизывает меня взглядом». Техническая часть этой процедуры ему явственно не удается. Я курю добротинскую папироску и жду…
– Основы вашей «работы» нам достаточно полно известны, и с вашей стороны, Иван Лукьянович, было бы даже, так сказать… неумно эту работу отрицать. Но целый ряд отдельных нитей нам неясен. Вы должны нам их выяснить…
– К сожалению, ни насчет основ, ни насчет нитей ничем вам помочь не могу.
– Вы, значит, собираетесь отрицать вашу «работу».
– Самым категорическим образом. И преимущественно потому, что такой работы и в природе не существовало.
– Позвольте, Иван Лукьянович. У нас есть наши агентурные данные, у нас есть копии с вашей переписки. У нас есть показания Степанова, который во всем сознался…
Я уже потом, по дороге в лагерь, узнал, что со Степушкой обращались далеко не так великосветски, как со всеми нами. Тот же самый Добротин, который вот сейчас прямо лоснится от корректности, стучал кулаком по столу, крыл его матом, тыкал ему в нос кольтом и грозил «пристрелить как дохлую собаку». Не знаю, почему именно как дохлую…
Степушка наворотил. Наворотил совершенно жуткой чепухи, запутав в ней и людей, которых он знал, и людей, которых он не знал. Он перепугался так, что стремительность его «показаний» прорвала все преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина и Добротин в этой чепухе утоп.
Что он утоп, мне стало ясно после первых же минут допроса. Его «агентурные данные» не стоили двух копеек; слежка за мной, как оказалось, была, но ничего путного и выслеживать не было; переписка моя, как оказалось, перлюстрировалась вся, но и из нее Добротин ухитрился выкопать только факты, разбивающие его собственную или, вернее, степушкину теорию. Оставалась одна эта «теория» или, точнее, остов «романа», который я должен был облечь плотью и кровью, закрепить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на руках у Добротина оказалось бы настоящее дело, на котором, может быть, можно было бы сделать карьеру и в котором увязло бы около десятка решительно ни в чем не повинных людей.
Если бы вся эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соответственно с человеческим мышлением, выбраться из нее было бы нелегко. Как-никак знакомства с иностранцами у меня были. Связь с заграницей была. Все это само по себе уже достаточно предосудительно с советской точки зрения, ибо не только заграницу, но и каждого отдельного иностранца советская власть отгораживает китайской стеной от зрелища советской нищеты, а советского жителя – от буржуазных соблазнов.
Я до сих пор не знаю, как именно конструировался остов этого романа. Мне кажется, что степушкин переполох вступил в социалистическое соревнование с добротинским рвением и из обоих и в отдельности не слишком хитрых источников получился совсем уж противоестественный ублюдок. В одну нелепую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу, и та английская семья50, которая приезжала ко мне в Салтыковку на wееkend51, и несколько знакомых журналистов52, и мои поездки по России, и все что хотите. Здесь не было никакой ни логической, ни хронологической увязки. Каждая «улика» вопиюще противоречила другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую бессмыслицу всего этого «романа».