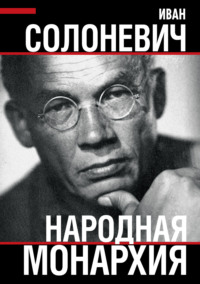Полная версия
Россия в концлагере (сборник)
Но как бы ни оценивать шансы «мирной эволюции», мирного врастания социализма в кулака (можно утверждать, что издали – виднее), один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил краском Тренин16 в «Последних новостях»17: страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите «социалистического отечества» со стороны народных масс – не может быть и речи. Наоборот: с кем бы ни велась война и какими бы последствиями ни грозил военный разгром – все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист!.. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и т. п., и эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны как бараны…
Я не могу сказать, чтобы вопросы отношения масс к религии, монархии, республике и пр. были для меня совершенно ясны… Но вопрос об отношении к войне выпирает с такой очевидностью, что тут не может быть никаких ошибок… Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовых перспектив вообще не видать… Достаточно хорошо зная русскую действительность, я довольно ясно представляю себе, что будет делаться в России на второй день после объявления войны: военный коммунизм покажется детским спектаклем… Некоторые репетиции вот такого спектакля я видал уже в Киргизии, на Северном Кавказе и в Чечне…18 Коммунизм это знает совершенно точно – и вот почему он пытается ухватиться за ту соломинку доверия, которая, как ему кажется, в массах еще осталась… Конечно, осел с охапкой сена перед носом принадлежит к числу гениальнейших изобретений мировой истории – так по крайней мере утверждает Вудвортс19, – но даже и это изобретение изнашивается. Можно еще один – совсем лишний – раз обмануть людей, сидящих в Париже или в Харбине, но нельзя еще один раз (который, о Господи!) обмануть людей, сидящих в концлагере или в колхозе… Для них сейчас ubi bеnе – ibi pаtriа20, а хуже, чем на советской родине, им все равно не будет нигде… Это, как видите, очень прозаично, не очень весело, но это все-таки – факт…
Учитывая этот факт, большевизм строит свои военные планы с большим расчетом на восстания – и у себя, и у противника. Или, как говорил мне один из военных главков, вопрос стои́т так: «где раньше вспыхнут массовые восстания – у нас или у противника. Они раньше всего вспыхнут в тылу отступающей стороны. Поэтому мы должны наступать и поэтому мы будем наступать».
К чему может привести это наступление – я не знаю. Но возможно, что в результате его мировая революция может стать, так сказать, актуальным вопросом… И тогда гг. Устрялову, Блюму21, Бернарду Шоу22 и многим другим – покровительственно поглаживающим большевицкого пса или пытающимся в порядке торговых договоров урвать из его шерсти клочок долларов – придется пересматривать свои вехи уже не в кабинетах, а в Соловках и ББКах, – как их пересматривают много, очень много, людей, уверовавших в эволюцию, сидя не в Харбине, а в России…
В этом – все же не вполне исключенном – случае неудобоусвояемые просторы российских отдаленных мест будут несомненно любезно предоставлены в распоряжение соответствующих братских ревкомов для поселения там многих, ныне благополучно верующих, людей – откуда же взять этих просторов, как не на российском севере?
И для этого случая мои очерки могут сослужить службу путеводителя и самоучителя.
Беломорско-Балтийский комбинат (ББК)
Одиночные размышления
В камере мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стен и лужицы – с полу. К полудню – пол снова в лужах…
Около семи утра мне в окошечко двери просовывают фунт черного малосъедобного хлеба – это мой дневной паек – и кружку кипятку. В полдень – блюдечко ячкаши23, вечером – тарелку жидкости, долженствующей изображать щи, и то же блюдечко ячкаши.
По камере можно гулять из угла в угол – выходит четыре шага туда и четыре обратно. На прогулку меня не выпускают, книг и газет не дают, всякое сообщение с внешним миром отрезано. Нас арестовали весьма конспиративно – и никто не знает и не может знать, где мы, собственно, находимся. Мы – т. е. я, мой брат Борис и сын Юра. Но они – где-то по другим одиночкам.
Я по неделям не вижу даже тюремного надзирателя. Только чья-то рука просовывается с едой и чей-то глаз каждые 10–15 минут заглядывает в волчок24. Обладатель глаза ходит неслышно, как привидение, и мертвая тишина покрытых войлоком тюремных коридоров нарушается только редким лязгом дверей, звоном ключей и изредка каким-нибудь диким и скоро заглушаемым криком. Только один раз я явственно разобрал содержание этого крика:
– Товарищи, братишки, на убой ведут…
Ну что же… В какую-то не очень прекрасную ночь вот точно так же поведут и меня. Все объективные основания для этого «убоя» есть. Мой расчет заключается, в частности, в том, чтобы не дать довести себя до этого «убоя». Когда-то, еще до голодовок социалистического рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизменно вспоминая при этом андреевского студента из «Рассказа о семи повешенных»25. Я надеюсь, что у меня еще хватит силы, чтобы кое-кому из людей, которые вот так, ночью, войдут ко мне с револьверами в руках, переломать кости и быть пристреленным без обычных убойных обрядностей… Все-таки – это проще…
Но, может, захватят сонного и врасплох – как захватили нас в вагоне? И тогда придется пройти весь этот скорбный путь, исхоженный уже столькими тысячами ног, со скрученными на спине руками, все ниже и ниже, в таинственный подвал ГПУ… И с падающим сердцем ждать последнего – уже неслышного – толчка в затылок.
Ну что ж… Неуютно – но я не первый и не последний. Еще неуютнее мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. В его биографии – Соловки, и у него совсем уж мало шансов на жизнь. Но он чудовищно силен физически и едва ли даст довести себя до убоя…
А как с Юрой? Ему еще нет 18 лет. Может быть, пощадят, а может быть, и нет. И когда в воображении всплывает его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова… В Киеве26, на Садовой 5, после ухода большевиков я видел человеческие головы, простреленные из нагана на близком расстоянии:
…Пуля имела модный чекан,И мозг не вытек, а выпер комом…27Когда я представляю себе Юру, плетущегося по этому скорбному пути, и его голову… Нет, об этом нельзя думать. От этого становится тесно и холодно в груди и мутится в голове. Тогда хочется сделать что-нибудь решительно ни с чем несообразное.
Но не думать – тоже нельзя. Бесконечно тянутся бессонные тюремные ночи, неслышно заглядывает в волчок чей-то почти невидимый глаз. Тускло светит с середины потолка электрическая лампочка. Со стен несет сыростью. О чем думать в такие ночи?
О будущем думать нечего. Где-то там, в таинственных глубинах Шпалерки28, уже, может быть, лежит клочок бумажки, на котором черным по белому написана моя судьба, судьба брата и сына, и об этой судьбе думать нечего, потому что она – неизвестна, потому что в ней изменить я уже ничего не могу.
Говорят, что в памяти умирающего проходит вся его жизнь. Так и у меня – мысль все настойчивее возвращается к прошлому, к тому, что за все эти революционные годы было перечувствовано, передумано, сделано, – точно на какой-то суровой, аскетической исповеди перед самим собой. Исповеди тем более суровой, что именно я, как «старший в роде», как организатор, а в некоторой степени и инициатор побега, был ответствен не только за свою собственную жизнь. И вот – я допустил техническую ошибку.
Было ли это ошибкой?
Да, техническая ошибка, конечно, была – именно в результате ее мы очутились здесь. Но не было ли чего-то более глубокого – не было ли принципиальной ошибки в нашем решении бежать из России. Неужели же нельзя было остаться, жить так, как живут миллионы, пройти вместе со своей страной весь ее трагический путь в неизвестность? Действительно ли не было никакого житья? Никакого просвета?
Внешнего толчка в сущности не было вовсе. Внешне наша семья жила в последние годы спокойной и обеспеченной жизнью, более спокойной и более обеспеченной, чем жизнь подавляющего большинства квалифицированной интеллигенции. Правда, Борис прошел многое, в том числе и Соловки, но и он, даже будучи ссыльным, устраивался как-то лучше, чем устраивались другие…
Я вспоминаю страшные московские зимы 1928–1930 гг., когда Москва – конечно рядовая, неофициальная Москва – вымерзала от холода и вымирала от голода. Я жил под Москвой, в 20 верстах, в Салтыковке29, где живут многострадальные «зимогоры», для которых в Москве не нашлось жилплощади. Мне не нужно было ездить в Москву на службу, ибо моей профессией была литературная работа в области спорта и туризма. Москва внушала мне острое отвращение своей переполненностью, сутолокой, клопами, грязью. А в Салтыковке у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная от жилищных дрязг, подслушивания, грудных ребят за стеной и вечных примусов в коридоре, без вечной борьбы за ухваченный кусочек жилплощади, без управдомовской слежки и без прочих московских ароматов. В Салтыковке, кроме того, можно было, хотя бы частично, отгораживаться от холода и голода.
Летом мы собирали грибы и ловили рыбу. Осенью и зимой корчевали пни (хворост был давно подобран под метелку). Конечно, всего этого было мало, тем более, что время от времени в Москве наступали моменты, когда ничего мало-мальски съедобного, иначе как по карточкам, нельзя было достать ни за какие деньги. По крайней мере – легальным путем.
Поэтому приходилось прибегать иногда к весьма сложным и почти всегда не весьма легальным комбинациям. Так, одну из самых голодных зим мы пропитались картошкой и икрой. Не какой-нибудь грибной икрой, которая по цене около трешки за кило предлагается «кооперированным трудящимся» и которой даже эти трудящиеся есть не могут, а настоящей, живительной черной икрой, зернистой и паюсной. Хлеба, впрочем, не было…
Факт пропитания икрой в течение целой зимы целого советского семейства мог бы, конечно, служить иллюстрацией «беспримерного в истории подъема благосостояния масс», но по существу дело обстояло прозаичнее.
В старом елисеевском30 магазине на Тверской обосновался «Инснаб»31, из которого бесхлебное советское правительство снабжало своих иностранцев – приглашенных по договорам иностранных специалистов и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнее – снабжалась из кремлевского распределителя.
Впрочем, это был период, когда и для иностранцев уже немного оставалось. Каждый из них получал персональную заборную книжку, в которой было проставлено, сколько продуктов он может получить в месяц. Количество это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца, но в среднем было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктов первой необходимости – картофеля, хлеба, сахару и пр. И наоборот – икра, семга, балыки, вина и пр. – отпускались без ограничений. Цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10–20 ниже рыночных.
Русских в магазин не пускали вовсе. У меня же было сногсшибательное английское пальто и «неопалимая» сигара, специально для особых случаев сохранявшаяся.
И вот я в этом густо иностранном пальто и с сигарой в зубах важно шествую мимо чекиста из паршивеньких, охраняющего этот съестной рай от голодных советских глаз. В первые визиты чекист еще пытался спросить у меня пропуск, я величественно запускал руку в карман и, ничего оттуда видимого не вынимая, проплывал мимо. В магазине все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлеба; картошка, даже и при икре, все же надоедает, но хлеб строго нормирован, и без книжки нельзя купить ни фунта. Ну что ж. Если нет хлеба, будем жрать честную пролетарскую икру.
Икра здесь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллер поглощал ее в таких количествах… в каких ее поглощала советская Салтыковка. Но к икре нужен был еще и картофель.
С картофелем делалось так. Мое образцово-показательное пальто оставлялось дома, я надевал свою видавшую самые живописные виды советскую хламиду и устремлялся в подворотни где-нибудь у Земляного вала. Там мирно и с подозрительно честным взглядом прохаживались подмосковные крестьянки. Я посмотрю на нее, она посмотрит на меня. Потом я пройдусь еще раз и спрошу ее таинственным шепотком:
– Картошка есть?
– Какая тут картошка…– но глаза «спекулянтки» уже ощупывают меня. Ощупав меня взглядом и убедившись в моей добропорядочности, «спекулянтка» задает какой-нибудь довольно бессмысленный вопрос:
– А вам картошки надо?..
Потом мы идем куда-нибудь в подворотню, на задворки, где на какой-нибудь кучке тряпья сидит мальчуган или девчонка, а под тряпьем – заветный, со столькими трудностями и риском провезенный в Москву мешочек с картошкой. За картошку я плачу по 5–6 рублей кило…
Хлеба же не было потому, что мои неоднократные попытки использовать все блага пресловутой карточной системы кончались позорным провалом: я бегал, хлопотал, доставал из разных мест разные удостоверения, торчал в потной и вшивой очереди и карточном бюро, получал карточки и потом ругался с женой32, по экономически-хозяйственной инициативе которой затевалась вся эта волынка.
Я вспоминаю газетные заметки о том, с каким «энтузиазмом» приветствовал пролетариат эту самую карточную систему в России; «энтузиазм» извлекается из самых, казалось бы, безнадежных источников… Но карточная система сорганизована была действительно остроумно.
Мы все трое – на советской работе и все трое имеем карточки. Но моя карточка прикреплена к распределителю у Земляного вала, карточка жены – к распределителю на Тверской и карточка сына – где-то у Разгуляя33. Это – раз. Второе: по карточке, кроме хлеба, получаю еще и сахар по 800 гр. в месяц. Талоны на остальные продукты имеют чисто отвлеченное значение и никого ни к чему не обязывают.
Так вот попробуйте на московских трамваях объехать все эти три кооператива, постоять в очереди у каждого из них и по меньшей мере в одном из трех получить ответ, что хлеб уже весь вышел, будет к вечеру или завтра. Говорят, что сахару нет. На днях будет. Эта операция повторяется раза три-четыре, пока в один прекрасный день вам говорят:
– Ну что ж вы вчера не брали? Вчера сахар у нас был.
– А когда будет в следующий раз?
– Да все равно эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать.
И все – в порядке. Карточки у вас есть? – Есть.
Право на два фунта сахару вы имеете? – Имеете.
А что вы этого сахару не получили – ваше дело. Не надо было зевать…
Я не помню случая, чтобы моих нервов и моего характера хватало больше чем на неделю такой волокиты. Я доказывал, что за время, ухлопанное на всю эту идиотскую возню, можно заработать в два раза больше денег, чем все эти паршивые, нищие советские объедки сто́ят на вольном рынке. Что для человека вообще и для мужчины в частности, ей-богу, менее позорно схватить кого-нибудь за горло, чем три часа стоять бараном в очереди и под конец получить издевательский шиш.
После вот этаких поездок приезжаешь домой в состоянии ярости и бешенства. Хочется по дороге набить морду какому-нибудь милиционеру, который приблизительно в такой же степени, как и я, виноват в этом раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабаке, или устроить вооруженное восстание. Но так как бить морду милиционеру – явная бессмыслица, а для вооруженного восстания нужно иметь, по меньшей мере, оружие, то оставалось прибегать к излюбленному оружию рабов – к жульничеству.
Я с треском рвал карточки и шел в какой-нибудь «Инснаб».
О морали
Я не питаю никаких иллюзий насчет того, что комбинация с «Инснабом» и другие в этом же роде – имя им – легион – не были жульничеством. Не хочу вскармливать на этих иллюзиях и читателя.
Некоторым оправданием для меня может служить то обстоятельство, что в Советской России так делали и делают все – начиная с государства. Государство за мою более или менее полноценную работу дает мне бумажку, на которой написано, что цена ей – рубль и даже что этот рубль обменивается на золото. Реальная же цена этой бумажки – немногим больше копейки, несмотря на ежедневный курсовой отчет «Известий», в котором эта бумажка упорно фигурирует в качестве самого всамделишного полноценного рубля. В течение 17 лет государство если и не всегда грабит меня, то уж обжуливает систематически, изо дня в день. Рабочего оно обжуливает больше, чем меня, а мужика – больше, чем рабочего. Я пропитываюсь «Инснабом» и не голодаю, рабочий ворует на заводе и – все же голодает, мужик таскается по ночам по своему собственному полю с ножиком или ножницами в руках, стрижет колосья – и совсем уже мрет с голоду. Мужик, ежели он попадется, рискует или расстрелом, или минимум, «при смягчающих вину обстоятельствах», десятью годами концлагеря (закон от 7 августа 32 г.). Рабочий рискует тремя – пятью годами концлагеря или минимум – исключением из профсоюза. Я рискую минимум – одним неприятным разговором и максимум – несколькими неприятными разговорами. Ибо никакой «широкой общественно-политической кампанией» мои хождения в «Инснаб» не предусмотрены.
Легкомысленный иностранец может упрекнуть и меня, и рабочего, и мужика в том, что, «обжуливая государство», мы сами создаем свой собственный голод. Но и я, и рабочий, и мужик отдаем себе совершенно ясный отчет в том, что государство – это отнюдь не мы, а государство – это мировая революция. И что каждый украденный у нас рубль, день работы, сноп хлеба пойдут в эту самую бездонную прорву мировой революции: на китайскую красную армию, на английскую забастовку, на германских коммунистов, на откорм коминтерновской шпаны. Пойдут на военные заводы пятилетки, которая строится все же в расчете на войну за мировую революцию. Пойдут на укрепление того же дикого партийно-бюрократического кабака, от которого стоном стонем все мы.
Нет, государство – это не я. И не мужик, и не рабочий. Государство для нас – это совершенно внешняя сила, насильственно поставившая нас на службу совершенно чуждым нам целям. И мы от этой службы изворачиваемся как можем.
Теория всеобщего надувательства
Служба же эта заключается в том, чтобы мы возможно меньше ели и возможно больше работали во имя тех же бездонных универсально-революционных аппетитов. Во-первых, не евши, мы вообще толком работать не можем: одни – потому, что нет сил, другие – потому, что голова занята поисками пропитания. Во-вторых, партийно-бюрократический кабак, нацеленный на мировую революцию, создает условия, при которых толком работать совсем уж нельзя. Рабочий выпускает брак, ибо вся система построена так, что брак является его почти единственным продуктом; о том, как работает мужик – видно по неизбывному советскому голоду. Но тема о советских заводах и советских полях далеко выходит за рамки этих очерков. Что же касается лично меня, то и я поставлен в такие условия, что не жульничать я никак не могу.
Я работаю в области спорта – и меня заставляют разрабатывать и восхвалять проект гигантского стадиона в Москве. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нет элементарнейших спортивных площадок, что люди у лыжных станций стоя́т в очереди часами, что стадион этот имеет единственное назначение – пустить пыль в глаза иностранцев, обжулить иностранную публику размахом советской физической культуры. Это делается для мировой революции. Я – против стадиона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться от него.
Я пишу очерки о Дагестане – из этих очерков цензура выбрасывает самые отдаленные намеки на тот весьма существенный факт, что весь плоскостной Дагестан вымирает от малярии34, что вербовочные организации вербуют туда людей (кубанцев и украинцев) приблизительно на верную смерть… Конечно, я не пишу о том, что золота, которое тоннами идет на революцию во всем мире и на социалистический кабак в одной стране, не хватило на покупку нескольких килограммов хинина для Дагестана… И по моим очеркам выходит, что на Шипке все замечательно спокойно и живописно35. Люди едут, приезжают с малярией и говорят мне вещи, от которых надо бы краснеть…
Я еду в Киргизию и вижу там неслыханное разорение киргизского скотоводства, неописуемый даже для Советской России кабак животноводческих совхозов, концентрационные лагери на реке Чу, цыганские таборы оборванных и голодных кулацких семейств, выселенных сюда из Украины. Я чудом уношу свои ноги от киргизского восстания, а киргизы зарезали бы меня как барана и имели бы весьма веские основания для этой операции – я русский и из Москвы. Для меня это было бы очень невеселое похмелье на совсем уж чужом пиру, но какое дело киргизам до моих политических взглядов?
И обо всем этом я не могу написать ни слова. А не писать – тоже нельзя. Это значит – поставить крест над всякими попытками литературной работы и, следовательно, – надо всякими возможностями заглянуть в глубь страны и собственными глазами увидеть, что там делается. И я вру.
Я вру, когда работаю переводчиком с иностранцами. Я вру, когда выступаю с докладами о пользе физической культуры, ибо в мои тезисы обязательно вставляются разговоры о том, как буржуазия запрещает рабочим заниматься спортом и т. п. Я вру, когда составляю статистику советских физкультурников – целиком и полностью высосанную мною и моими сотоварищами по работе из всех наших пальцев, – ибо «верхи» требуют крупных цифр, так сказать, для экспорта за границу…
Это все вещи похуже пяти килограмм икры из иностранного распределителя. Были вещи и еще похуже… Когда сын болел тифом и мне нужен был керосин, а керосина в городе не было, – я воровал этот керосин в военном кооперативе, в котором служил в качестве инструктора36. Из-за двух литров керосина, спрятанных под пальто, я рисковал расстрелом (военный кооператив). Я рисковал своей головой, но в такой же степени я готов был свернуть каждую голову, ставшую на дороге к этому керосину. И вот, крадучись с этими двумя литрами, торчавшими у меня из-под пальто, я наталкиваюсь нос к носу с часовым. Он понял, что у меня керосин и что этого керосина трогать не следует. А что было бы, если бы он этого не понял?..
У меня перед революцией не было ни фабрик, ни заводов, ни имений, ни капиталов. Я не потерял ничего такого, что можно было бы вернуть, как, допустим, в случае переворота, можно было бы вернуть дом. Но я потерял 17 лет жизни, которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции, в жульничество, которое диктовалось то голодом, то чрезвычайкой, то профсоюзом – а профсоюз иногда не многим лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими семнадцатью годами я еще дешево отделался. Десятки миллионов заплатили всеми годами своей жизни, всей своей жизнью…
Временами появлялась надежда на то, что на российских просторах, удобренных миллионами трупов, обогащенных годами нечеловеческого труда и нечеловеческой плюшкинской экономии, взойдут наконец ростки какой-то человеческой жизни. Эти надежды появлялись до тех пор, пока я не понял с предельной ясностью – все это для мировой революции, но не для страны.
Семнадцать лет накапливалось великое отвращенье. И оно росло по мере того, как рос и совершенствовался аппарат давления. Он уже не работал, как паровой молот, дробящими и слышными на весь мир ударами. Он работал, как гидравлический пресс, сжимая неслышно и сжимая на каждом шагу, постепенно охватывая этим давлением абсолютно все стороны жизни…
Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны – это еще терпимо. Но когда от вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов, еще и энтузиазма, – жить становится вовсе невмоготу, захлестывает отвращение.
Вот это отвращение толкнуло нас к финской границе.
Техническая ошибка
Долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума, рока, невезенья – называйте как хотите. Первая попытка была сделана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и разведку местности. Я предварительно поехал в Карелию, вооруженный, само собою разумеется, соответствующими документами, и выяснил там приблизительно все, что мне нужно было. Но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября – время для Карелии совсем неподходящее, и перед нами встал вопрос: не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года.
Я справился в московском бюро погоды – из его сводок явствовало, что весь август и сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Следовательно, угроза со стороны карельских болот отпадала, и мы двинулись.