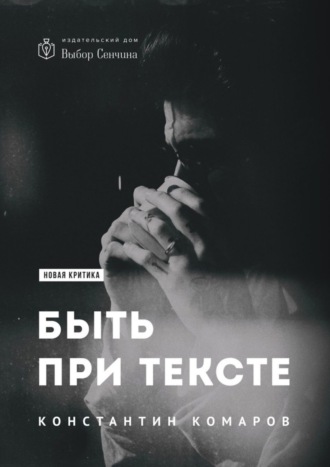
Полная версия
Быть при тексте. Книга статей и рецензий
И второй – о художнике, пишущем портрет с натуры:
А слава, видимо, его не волновала,Она придет к нему лишь через триста лет,А жизнь таинственна, а краска не устала,Вобрав печаль в себя, и пристальность, и свет.Разные стихи. Понятно, что далеки друг от друга художественные задачи, что различно эмоциональное наполнение… И все-таки есть во втором отрывке какая-то тяжеловесность, утомленность в сравнении с первым, некая избыточность, не объяснимая только требованиями соответствующего размера и ритма. Нет той мощи, стихового напора, куража, которые так явственны в стихотворении 1976-го. Тенденция к прозаизации стиха, отмеченная Татьяной Бек еще в статье 1998 года, явственно дает о себе знать в новых стихах поэта. Бек, говоря о «грандиозных возможностях Кушнера как поэта-прозаика», отмечает: «Эти зерна в кушнеровской лирике последних лет все мощнее набухают, но в полной мере прорасти им еще надлежит»38. Новая книга Александра Кушнера «Мелом и углем» (2010) являет собой подтверждение ее предсказания. Обратимся к этому сборнику.
Все столь привычные и любимые приметы кушнеровского «лица необщего выражения» в книге есть: и богатейший культурный фон (от Плутарха до Феллини), и любимые Тютчев, Фет, Баратынский, Пушкин, и острое внимание к детали (один из разделов книги так и называется – «Да здравствует деталь!»).
Много в книге излюбленных Кушнером мыслей – как, например, утверждение преемственности культуры или приоритета конкретики над высокими, но «эгоистическими» абстракциями: «Рай – это место, где Пушкин читает Толстого. / Это куда интереснее вечной весны». По-прежнему настораживают Кушнера «избытки» и «излишки»: «Не надо сплошной красоты, / Излишек ее неприятен!».
Все так же абсолютно убеждение, что «искусство и есть природа, / Продолжение молний, побег жасмина, / Превращение в дерево, а не мода, / Не игра и при ней напускная мина».
Так же велика вера в заинтересованную открытость миру как источник творчества: «Но одно я доподлинно знаю: не может / Быть поэтом флегматик и не был ни разу». Поэт все так же внимателен к миру: он задумывается о метафизике голубиного «кивания», о том, что бабочку близость к Богу «томит сильней, чем нас». Не забыта, конечно, и музыка. В стихотворении «Державинская флейта и труба» Кушнер «раздает» поэтам по музыкальному инструменту, отражающему их поэтический темперамент. Большое и малое для Кушнера по-прежнему равнозначны в едином завороженном признании мудрости бытия:
Большие гавани и бухточки,Весь этот мир люблю огромный,Который подан, как на блюдечке,Мне на балконе ночью темной.Шиллер и Гете, равноправные с мотыльками; бабочка, читающая Державина; голуби, решающие судьбы вселенной, – одомашниваемое, ассимилируемое «исподволь, тайком» мироздание – все это по-кушнеровски. Книга, как всегда, архитектурно простроена, как всегда она позволяет автору развернуть повествование о своей жизни, зафиксировать в стихах процесс собственного душевного развития и наполнения.
Даже смерть здесь обжита – «Меня там любят, мне там будут рады» – и, как обычно у Кушнера, «дух живет в культуре и не тяготится материей или бытом, легко взмывая над ними и столь же легко в них возвращаясь»39:
…это лирика и есть, когда предметТвоим вниманием обласкан и согретИ тайна жизни в нем блеснула, проступила.Шкатулка Чичикова или щит Ахилла —Какая разница? Да здравствует деталь,Подробность, будничность, бессмыслица, печаль!Однако при чтении (возможно, это субъективное ощущение) не можешь отделаться от мысли, что утрачивается необходимый катарсис, оригинальная хлесткость лирического высказывания. Сказанное Татьяной Бек по поводу любви Кушнера к употреблению уменьшительно-ласкательных суффиксов в применении к книге «Избранное» (1997) может быть спроецировано и на его поэтику в целом – и она тоже стала «отдавать инерцией, усталостью безошибочно утепляющего речь жеста»40. В этом большая доля неизбежности. Трудно требовать от поэта на протяжении стольких десятилетий сохранять действенность и действительность своей интонации – двигатель мощен, но не вечен.
Возьмем показательный пример кушнеровского стихотворного рассуждения:
Никакой поэтической мыслиВ этом стихотворении нет,Только радость дымящейся жизни,Только влагой насыщенный свет.Кто мне дал эту сырость густую,Затруднил по траве каждый шаг?Я не мыслю, но я существую.Существуя, живу, еще как!К сожалению, как раз «поэтической мысли» становится у Кушнера все больше, «дымящейся жизни» все меньше… и в результате стихотворение часто уходит в сугубую дидактику. При сохранении твердости и звучности голоса ушла из него какая-то нотка умело темперированной лирической дерзости, которая раньше была у поэта постоянной. Приведу в качестве примера свое, пожалуй, любимое кушнеровское стихотворение 1962 года:
Танцует тот, кто не танцует,Ножом по рюмочке стучит,Гарцует тот, кто не гарцует —С трибуны машет и кричит.А кто танцует в самом деле,И кто гарцует на коне,Тем эти пляски надоели,А эти лошади – вдвойне!Поэтическая убедительность этого стихотворения абсолютна. Смысловая компрессия поразительна. Мысль и чувство неразделимы и выражены с пушкинской простотой и мощью прямого высказывания. Теперь же стиху Кушнера все чаще требуются разнообразные «подпорки», прямое слово уже не вызывает мгновенного эффекта.
Определяющую роль в стихах Кушнера играет интонация. Это отмечал еще Бродский, сравнивая кушнеровскую интонацию с «вечным двигателем внутреннего сгорания». Последнее время эта интонация начинает «провисать», в новых же стихах кушнеровская рассудочность становится и вовсе прямолинейной и публицистичной, так же несколько спрямилась и упростилась и неизменная авторефлексия:
О, вот она, любовь моя к природе,Как ни смешно звучит такая фраза.Или еще:
Я – плохой россиянинВ этой смуте и мгле.И что вовсе уж неприемлемо, появилась спорная манифестальная декларативность, органически чуждая, на мой взгляд, кушнеровскому таланту:
А стихи утверждают свободу,А в пророчествах нету ее!Не стоит забывать, что «кушнеровский способ говорения <…> плод его врожденного и неистребимого простодушия»41. Оно и подкупает, и очаровывает, и его-то как раз тоже становится меньше в новых стихах. Столь притягательная, располагающая кушнеровская наивность («Душа моя, как все-таки наивна / Ты, как тебя нетрудно раскачать») теперь проходит ровно и как-то натруженно.
Не так давно была непомерно раздута история со стихотворным посвящением Кушнера губернатору Петербурга Валентине Матвиенко, сделавшей некое благое дело для петербургских писателей. Ничего особенного: человек захотел поблагодарить другого человека и, будучи поэтом, вполне характерно сделал это стихами. Не стал же он, в конце концов, печатать этот текст, включать его в книги. Но в некоторых стихах последнего времени (например, в стихотворении «В цеху разделочном мясном кипит работа» из книги «Мелом и углем») можно уловить те же интонации, что и в «оде» Матвиенко. Открытая, не опосредованная новизной «ракурса» стихотворная публицистика совершенно не свойственна Кушнеру, тем страннее его обращение к ней.
Анализируя изменения кушнеровской поэтики на рубеже веков, Ольга Канунникова справедливо отмечает, что «в прежних стихах поэт исповедовал, так сказать, „негативный метод повышения жизненных ценностей“ (определение Л. Гинзбург) – то есть от обратного <…> и все происходило под знаком пастернаковского доверия к жизни»42. Теперь это доверие несколько притупилось, стало менее очевидно.
Можно и вовсе уж осмелиться и обратить к Кушнеру его же собственный призыв: «Сам себе побудь экзаменатором, верность чувству смутному храня». Поэзия как «слово в неземном значении своем» в новой книге Кушнера напоминает о себе реже, чем хотелось бы того, и реже, чем этого можно было бы ожидать от поэта столь высокого уровня.
Таким образом, некоторая настороженность, появившаяся среди знатоков творчества Кушнера в последнее время, видимо, имеет под собой основания: кушнеровская «поэтика обузданного многословия» дает небольшие, но каждый раз ощутимые сбои. Воспользовавшись метафорой самого поэта из стихотворения, включенного в книгу, можно сказать, что его поэзия нарочито «хандрит».
Это не значит, что в книге нет стихов, напоминающих о прежнем, «классическом» Кушнере. Есть. И в достаточном количестве. Это те стихи, в которых сохраняется гармоническая взаимосвязь и баланс между частным и общим, внешним и внутренним, где в их сочленении не чувствуется искусственности, где не удивляешься сопоставлению Гоголя с бельем, упавшим с веревки. Это такие стихи, как «Картинка из кубиков», «В итальянской живописи небо», «Тот, кто оставил очки на скамье», «А бабочка стихи Державина читает…», «Черемуха», «Отца и мать, и всех друзей отца…» и многие другие.
Свои эстетические принципы Кушнер проговаривает привычно четко:
В красоте миловидности нет.Боже, как хороша миловидность!Это отсвет скорее, чем свет.И открытость, а вовсе не скрытность.Это прядку со лба, не с челаПодбирают, и детская мина.И актриса такая былаУ Феллини – Джульетта Мазина.Совершенства не надо! ПечальИ доверчивость, полуулыбка.И стихи я люблю, где детальТак важна, а значение зыбко.Да и в целом поэтические достоинства сборника «Мелом и углем» непросто оспорить. В этой книге поэт, по словам Юрия Казарина, «именует время свое объективно и, как всегда у Кушнера, интимно, обезоруживающе прямо, но негромко, почти тихо, почти шепотом или вполголоса – но абсолютно точно, точно, точно, эксплицируя полную трехстороннюю адекватность частной жизни, исторической эпохи (любого отрезка социального времени) и судьбы поэта». И – что особенно важно – «в книге ощущается явное (и явленное в слове) духовное движение от физического к интерфизическому и далее – в метафизическое. Такой вектор движения души создает в сфере вербальности эффект подлинности, достоверности и успокоенного, уговоренного, вразумленного отчаяния»43.
Конструктивная особенность кушнеровского таланта – «двойное зренье». Ее специфику замечательно формулирует Игорь Шайтанов: «Сиюминутное видится как вечное, тем самым мифологизируется, не отменяя сокровенного – то как будто отступающего, то вновь подступающего слезой – знанья о не-вечности себя и своего». Отсюда и постоянно скользящий по строчкам Кушнера «холодок невыносимой жалости к предметам», так подкупающий нас в его поэзии.
Вот и в «Мелом и углем» предостаточно таких строк – «без слез, но со слезой. Мягким тоном, но с несгибаемым характером»44:
Хотелось умереть, о, если б застрелили!Ударили ножом, шагнув из-за угла.Но ветер дул в лицо, но тучи в небе плыли.Но смерть была мечтой, а жизнь при мне была!Поэтому поэзия Александра Кушнера остается в итоге сама собой, наиболее концептуальных своих качеств все-таки не утрачивая:
Лепного облака по небу легкий бег,Такой стремительный, мечтательный такой!Кто любит Моцарта, хороший человек,Кто любит Вагнера, наверное, плохой.Весна-причудница шагает вдоль аллейИ легкомысленно глядит по сторонам.Категорические заявленья ейНе очень нравятся, не нравятся и нам.Путь Кушнера всегда отличался поступательностью, но и нелинейностью (вспомним хотя бы сборник «Кустарник», в котором столько совсем нехарактерных для Кушнера черт, являющих себя на самых разных уровнях). Впрочем, рассуждения о путях развития кушнеровской поэтики имеют локальное значение по сравнению с бесспорным утверждением значимости поэта Александра Кушнера для русской словесности.
2011Что нам Бажов?..
Что мы Бажову?..
Размышления
об одной литературной премии
Литературных премий сегодня в России великое множество. Автор чуть ли не любой книги или журнальной подборки обязательно увенчан какими-нибудь «Вятскими просторами» или «Псковскими далями» (названия условны, но не удивлюсь, если и такие премии существуют). Проникнувшись заочным уважением к лауреату, начинаешь читать его произведения и… понимаешь все и об авторе, и о премии, и даже можешь легко представить сам «премиальный процесс», благо он давно унифицирован и стандартизирован.
Критик Данила Давыдов пишет о нынешней премиальной пестроте: «Все это мельтешение имен, быть может (и даже скорее всего), ничего по большей части не говорящих читателю, профессионально не занимающемуся литературой, – таков, в сущности, и есть литературный премиальный процесс. Что ж, к извечному „писатель пописывает – читатель почитывает“ прибавилось „а жюри выбирает“. И все расходятся в недоумении (кроме победителя, конечно)»45.
Но сколь бы ни множились местечковые премии, читатель все равно будет ориентироваться на премии статусные («Нацбест», «Большая книга», «Букер», премия Андрея Белого и т. д.). Тьмы и тьмы же лауреатов «золотых полей» и «поющих березок» (зачастую – самоназначенные) спокойно удовлетворят простое, как три рубля, и неистребимое графоманское самолюбие. И, казалось бы, ничего страшного… Но не замусоривает ли это все литературное пространство, и так чистотой не блещущее?!
Споры о необходимости литературных премий, их роли в литературном процессе ведутся не первый год. Достаточно вспомнить не столь давнюю телевизионную дискуссию в программе «Культурная революция» между главным редактором «Нового мира» Андреем Василевским и главным редактором «Юности» Валерием Дударевым на тему «Литературные премии губят литературу?». За полной беспомощностью оппонента верх одержал Василевский, выступающий за то, что «не губят». Дисскусия, однако, не закрыта, да и вряд ли можно закрыть ее окончательно.
В самой идее литературной премии априори присутствует элемент некоего «искажения» идеальной объективности. Приведу слова Владимира Новикова: «Впрочем, где ее взять, компетентность? Учреждают премии, как правило, люди, далекие от литературы, а присуждают, наоборот, слишком к ней близкие. Когда писатели решают, какому из собратьев дать премию, – это все равно что первую красавицу выбирали бы другие красавицы. Никто открыто не признается в зависти и ревности, но эти чувства проявляются на уровне коллективного бессознательного. А оно неуклонно ведет арбитров и судей к присуждению премии по принципу „кому не жалко“»46. Добавим сюда и имеющую место «национальную специфику» – в России зачастую литературные премии, по словам Марии Галиной, «либо подкармливают авторов коммерческих („раскрученных“), либо становятся примером корпоративного снобизма»47.
С другой стороны, трудно не согласиться с Евгением Шкловским: «премии мало-мальски оживляют довольно унылый пейзаж нашей словесности»48.
На мой взгляд, литературу губят не премии как таковые, а их избыточность. Валентин Курбатов пишет: «Большое количество премий вроде хорошо для писателя (жить-то на что-то надо!), но пагубно для читателя. А там и для самого писателя. Оно сбивает с толку и уничтожает критерии»49. Оставить бы 5—6 основных премий, да и дело с концом, не будут рябить в читательских глазах лауреаты каких-нибудь «Рябиновых кустов» или «Руси непокоренной». Но эта идея утопическая, ибо ордам писателей 4-го, 5-го и далее рядов все равно нужно будет подтверждение их творческой значимости.
Своя рубашка ближе к телу, поэтому попробуем разобраться в том, какое же место занимает в нынешнем премиальном круговороте премия им. П. П. Бажова, вручаемая ежегодно в Екатеринбурге.
Урал дал русской литературе одного гения – Павла Петровича Бажова. Логично, что его именем названа самая авторитетная литературная премия Уральского региона. Но отчего же в ее авторитетности возникают все большие сомнения?
Одна из главных проблем премии, как мне кажется, в том, что у нее нет (или, по крайней мере, не просматривается) четкой эстетической базы, нет необходимой идейной основательности, а ее отсутствие всегда оборачивается плохой провинциальностью (не в географическом, а в духовном плане). А этой провинциальности Екатеринбург себе позволить не может, являясь, на мой взгляд, одной из культурных (в частности, поэтических) столиц России, генерирующей, если угодно, эстетическую энергетику.
Валентин Лукьянин, попытавшийся осмыслить и обобщить десятилетнее существование премии, однако, уверен, что идеология у премии есть и заключается она не в чем ином, как в ее – премии – «общелитературности», в ее демократичности, в «ориентации не на устоявшиеся формы и признанные авторитеты, а на поиск, азарт, неведомое и нарождающееся»: «это премия для „живой“ литературы – движущейся, пролагающей новые тропы, ищущей новые возможности постижения смысла и пробующей новые выразительные средства. Премия для литературы не столько „высших достижений“, сколько углубленного поиска и творческого азарта»50. Но одержимость «творческим азартом» и стремление к «углубленному поиску» вряд ли могут служить достаточным основанием художественной значимости текста и творческой состоятельности и «самостоянья» его автора.
Идеология – это всегда нечто конкретное, направленное, здесь же мне чудится какая-то абстрактность и всеядность. «Провинциального шитья по столичным лекалам» никто от номинантов не требует, так же как и умения «соответствовать» (требованиям критики, «толпы», «тусовки»), но это не значит, что нужно громогласно открещиваться от «литературы высших достижений». Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. А вот «рядовой», удостоенный премии, очень легко может себя «генералом» возомнить…
Любопытные мысли по поводу Бажовской премии еще несколько лет назад высказал Герман Дробиз, неоднократно бывший членом жюри премии. Дробиз справедливо замечает, что ввиду знаковости имени Павла Петровича Бажова для нашего края именно Бажовская премия должна стать наиболее авторитетной и весомой в ряду других литературных премий Урала и Екатеринбурга: «по своей сути и премия губернатора, и премия имени основателей Екатеринбурга никогда не приобретут ни всероссийского, ни даже регионального размаха. Другое дело – Бажовская, освященная именем всенародно известного писателя»51. Но соответствует ли реальное положение вещей заявленной и ожидаемой весомости премии?
Первое – географический охват премии. Премия позиционирует себя как всероссийская. Однако за 4 последних года из 22 лауреатов Уральский регион не представляют только трое, а большая часть награжденных – непосредственно из Екатеринбурга. «Всероссийский аккорд», получается, сплошь из «уральских нот» состоит…
Второе – премиальный процесс. Говоря об одной из премиальных церемоний, Дробиз, знающий ситуацию изнутри, констатировал «келейность в деятельности жюри и оргкомитета и полное отсутствие общественного интереса и мнения» и справедливо отметил, что утверждение организаторов о том, что лауреаты премии сразу получают выход к широкой читательской аудитории, «отдает горьким юмором». Действительно, работа оргкомитета премии почему-то не предусматривает обнародования списков номинантов с перспективой их дальнейшего рецензирования, критического осмысления, высказывания прогнозов52. Интенсивность и динамика премиального процесса, таким образом, сводятся практически к нулю. Дробиз приводит очень точную аналогию: «Опубликуй список номинированных произведений – глядишь, появятся отклики критиков, а то и читателей. Ведь всякий конкурс – соревнование. Нечто похожее на спорт. Ну, можно ли себе представить, чтобы болельщикам на стадионе объявили что-нибудь эдакое: что сегодня в забегах участвуют тридцать девять спортсменов. Они тут побегают-побегают, а мы потом назовем вам победителей. А кто были остальные – неважно».
Далее. Каждый год премию Бажова получают 5—6 авторов. Урал – край на таланты не бедный, но при таком раскладе очевидно, что количество достойных претендентов закончится довольно быстро. Не лучше ли было вручать премию одному-двум, но действительно стоящим писателям? Можно не сомневаться, достойный претендент (а в урожайные годы и не один) всегда найдется, но зачем снижать и нивелировать ценность его признания, награждая еще 4—5 человек, творчество которых зачастую представляет собой стандартную «плохопись»?
Если же оргкомитет считает невозможным уменьшение «квоты», то рамки премии должны быть реально расширены до пределов всей нестоличной России. При этом именно художественная состоятельность текстов должна ставиться во главу угла и иметь приоритет над «различного рода „политическими“ ситуативными соображениями», имевшими место в работе жюри в 2010 году, по признанию его председателя Андрея Расторгуева. К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы этот первейший критерий подзабыт. По крайней мере, так кажется.
Теперь заострим внимание на слове «литературная» в наименовании премии. Наличие в списке номинаций публицистики, литературоведения и краеведения уже вызывает сомнения в чистой литературности премии. На мой взгляд, жанровую целостность премии как именно литературной эта линия нарушает. Безусловно, за книгой Ольги Сидоновой «Крепостные художники Демидовых. Училище живописи. Худояровы XVIII—XIX веков» или за исследованиями Натальи Паэгле о политических репрессиях стоит немалый и вдумчивый исследовательский труд, что обеспечивает этим книгам научную ценность, оригинальность и значимость. Однако мне кажется, такое размывание жанра не идет на пользу премии. Такой жанровый разброс во многом нарушает единство премии как целокупного социокультурного феномена.
Наконец, нельзя не заметить, что жюри премии меняется очень редко и очень незначительно, хотя кардинальная ротация состава жюри (вплоть до его полной смены на каждый премиальный сезон) давно вошла в практику ведущих литературных премий. Отсутствие ротации в составе жюри плачевно сказывается на динамике развития любой премии.
За 10 лет существования премии ее лауреатами стали такие видные участники современного литературного процесса, как Ольга Славникова, Николай Коляда, Вадим Месяц, Сергей Беляков, Алексей Иванов и др. Но зададимся вопросом – повлияла ли как-то премия на их и без того достаточно громкую известность или на формирование этой известности? Не думаю.
Обратимся к лауреатам 2010 года. Это Евгения Изварина, Нина Буйносова, Елена Габова и Герман Иванов.
Герман Иванов номинируется на премию уже не в первый раз. Прежде его кандидатуру отклоняли. Возможно, потому, что, например, такие опусы трудно счесть серьезной поэзией:
Запрессованный в дымный автобус,Нашпигованный в ребра и в зад,Собираюсь, коплюсь и готовлюсь,Ведь на следующей вылезать.Или вот еще:
Никогда мы не имелиНи богатства, ни земли —От Ивана, от ЕмелиНас с тобой произвели.Крестьянское происхождение лирического героя, однако, не повод игнорировать комические эффекты на стыках слов («от Емели») и не освобождает автора от необходимости вслушивания в свои собственные строки и поверки таковых на элементарную адекватность, которой (необходимостью) поэт, «нашпиговывающий» своего лирического героя «в ребра и в зад», явно пренебрегает.
Премию Герман Иванов получил «за гармоническое философское отражение связи человека и природы в книге лирических стихотворений „Весло и лодка“». Перлов, подобных процитированным выше, в ней нет. Кажется, Иванов нашел свою тему – тему природы. Однако поэтическое описание ее взаимосвязи с человеком, на мой вкус, поверхностно и наивно наивностью любителя. Не пастернаковская «неслыханная простота», в которую «нельзя не впасть к концу, как в ересь», а упрощенность. Кстати, о Пастернаке. Программное стихотворение, открывающее книгу и задающее ей обертон (и выделенное по такому случаю жирным курсивом), выглядит бледной пародией (и содержательно, и ритмически) на пастернаковское «Во всем мне хочется дойти до самой сути»:
Чтоб на земле оставить след,Будь я художник,Я б написал седой рассветВесенний дождик.Иванов пытается «рисовать словом», но картинки зачастую выходят обесцвеченные, обездвиженные, лишенные плотной лирической конкретики. Лучшим стихам Иванова не откажешь в пронзительности, но непрофессионализм дает себя знать то тут, то там: то неоправданным употреблением затертого эпитета («за немыслимым пределом»

