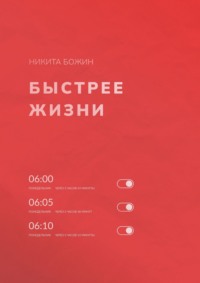Полная версия
Петроград
В странных раздумьях он провел несколько бесполезных часов, напрягая разум и душу. Не имея возможности ничем помочь городу, он все же терзался мыслью, что должен помочь опытом хотя бы двоим. Полеевым. Алексей Сергеевич смотрел на одинокую пару, что, как и многие, прибыла сюда искать нечто, с уважением и немножко их жалел. Он уважал их бедность, их стремление и силу духа. Но все это ничто, город сломает их, сотрет. Толпа смешает однажды их либо с пылью, либо сравняет с собой. Это смерть или обезличивание, так видел Нечаев толпы, как куклы, над которыми не верховодит никто, (а может и есть некто) и все эти маски бредут ровной толпой, и на их белых лицах лишь оскал и кровавые очи. И что среди всего этого люди к городу даже не привыкшие, не жившие здесь, не знавшие ни обычаев, ни масштабов, ни людей? Город сам по себе зол и враждебен, неприветлив и неуважителен. А что есть город? Дома его, улицы, учреждения, история? Город – это люди всего лишь, а вот городским камням ни до чего дела нет. А с людьми очень сложно.
Он поднялся к мансардам, и осторожно постучал в дверь Полеевых. И к удивлению, в первом часу ночи они не спали и открыли дверь, хотя в ладони у Федора Федоровича крепкой хваткой зажат молоток, должно быть где-то украденный. Откуда, в конце концов, у него молоток? Глядя в лицо Федору, и с любопытством посматривая на крепкий хват ладони, Нечаев подумал: «Не смотри, что улыбаются и делают вид, что так запросто гуляют и живут. Осторожничают тоже, боятся».
– А что это вы с молотком? – любезно осведомился Нечаев, как будто даже невзначай, но с тонкой издевкой.
– А что это вы стучите ночью? – в той же шуточной манере ответил Полеев, хотя и понял, что выдал себя, развеяв долго сохраняемый образ спокойствия и легкости.
Нечаев извинительно положил руку на плечо Полееву и просил войти.
– Не держитесь за все это, – подвел итог длинной речи Нечаев, когда объяснил молодежи свою позицию на все происходящее. – Вы не видели город другим. То, что с ним теперь – это болезнь, это не его состояние. Не для того воздвигали столицу. Вам лучше не знать этого, вам лучше сбежать.
Полеевы с удивлением смотрели и слушали. Нет, они не глупы, все видели и слышали, но удивлялись, почему взрослый человек приходит с таким очевидным, и даже повседневным, советом. Зачем он учит их, как быть? Они сами видят, слышат и знают, но пока не хотят уезжать.
– Но вы не понимаете, вы погибнете! Ваша молодая семья исчезнет, город перемелет. Вы же ходили по улицам и площадям, вы же видели людей. И после вы различаете здесь какие-то надежды? – просто негодовал Нечаев.
– Всем теперь нелегко, но столько людей живет, справляется, даже место радости находят, – серьезно ответил Федор Федорович и слегка обернулся назад, к жене.
– Люди по привычке живут. Они, видите ли, родились здесь, им проще. Так почему вы мучаете себя нахождением здесь, в очаге? – тоже глянул куда-то за спину Федору Полееву Нечаев.
– Но мы и не страдаем. Мы пробуем жить, – собеседник противился словам Нечаева.
– Пробуете? У вас есть другое место, там ведь, наверняка, лучше, спокойнее.
– Спокойнее, может быть, но не лучше.
– Но спокойнее, – упирал на этот аргумент Алексей Сергеевич.
– Но не лучше. От чего же все теперь едут в столицу, или Москву? Оттого что жизнь другая. Вы не бывали в Орловской губернии?
– Я, знаете, нигде особенно не бывал. В Гельсингфорсе бывал и в Шлиссельбурге, и еще…, – ударился в воспоминания Нечаев, да только в голову ничего не шло.
– Вот потому так и говорите. Потому все сюда и приезжают.
– Но теперь едут назад, – поймал на слове «приезжают» Нечаев.
– Если придет наше время, уедем и мы, – тихо и неуверенно вступила в разговор Анастасия Полеева.
– Слишком поздно может быть!
– Алексей Сергеевич, чего же вы от нас хотите? – искренне негодовал муж.
– Чтобы вы спаслись, глупые люди, от других людей, – как истину глупцам проговорил эту фразу Нечаев.
– Кругом последствия революции, и у нас в отчих краях тоже, не сомневаюсь. Вся страна теперь одно целое. Мы не уедем, прошу, не терзайте нас речами, самим нам решать, самим, – откровенно просил Полеев желая закончить скорее этот разговор, и то и дело глядел на поникшую жену.
– Да что же вы такие… – сказал Нечаев и махнул рукой и поднялся с неудобного старого стула.
Нечаев вышел огорченным. В самом деле, он сохранял искреннюю уверенность, что своим ораторством сможет направить этих птенцов, что бурей прибило к неспокойному острову, но ничего не вышло, и к себе он возвращался точно с поражением, сам не понимая, что с ним. Что собой представляет страна в других ее краях, он смутно догадывался. Никогда не бывая дальше Пскова, Нечаев во все годы жизни не сильно стремился узнать, что там дальше. Он читал лишь о Сибири, несколько интересуясь таким далеким, неизведанным местом с немногочисленными городами, а вот центральная часть оставалась для него загадкой, как и вообще вопросы земли и крестьян. Образы большинства населения рисовались для него исключительно Петроградскими представлениями. Нечаев хорошо представлял массы рабочих с заводов, фабрик, всяческих предприятий. Толпы тружеников в городе из камня и железа и служили для него образом населения, а вот тот момент, что где-то дальше существуют наиболее обширная крестьянская часть, совсем выпадал из соображений, и, выгоняя обратно Полеевых, он даже не представлял, куда они вернуться. Орловская губерния вызывала у него лишь смутные ассоциации с Тургеневым, которого он, к слову, весьма любил, читал, но, похоже, до конца не понимал. А вот земля… что это, и какое значение имеет, об этом Алексей Сергеевич знал очень мало.
А молодая семья, конечно же, не стала бы спешить выносить скрытые мысли на чужой обзор. Даже если Алексей Сергеевич пришел с самыми популярными идеями, угадал детально содержание разговора супругов пятиминутной давности, вполне возможно, что они с ним не стали бы делиться и откровенничать. И может быть потому, что не всякий вопрос хочется обсуждать с малознакомыми людьми, а может потому, что не во все хочется верить, даже в очевидное, и всякому мгновению нужно дать шанс, не позволяя посторонним даже промелькнуть рядом. Когда Нечаев оставил их, они лишь переглядывались, но между собой не решались продолжить разговор, такой уж нежелательной выдалась беседа с Алексеем Сергеевич и после обсуждать и без того актуальные проблемы не оставалось сил.
Утром Нечаев пошел на работу, как обычно по Садовой улице. Он еще прежде обещал Ивану Михайловичу пройти мимо аптеки немцев Майеров, но бессовестно забывал об этом, а потом немножко лгал, что мол, проходил, все спокойно. В самом деле, если лавку разгромили и ограбили, то узнав об этом днем раньше или днем позже, Ольхин ничего уже не изменит, да и не узнает. Но это, без сомнения, слишком страшный, по его надеждам, невероятный сценарий. Нечаев хоть и беспокоился за судьбу аптеки и ее хозяина с хозяйкой, но сохранял твердую уверенность, что ничего с ними не должно случиться. В действительности, он вообще не одобрял панических опасений, что с Майером непременно что-то произойдет. Во-первых, с самого февраля к нему и попыток не предпринималось грубым образом вломиться и что-то злое совершить, во-вторых, хозяина многие лично знали и не только люди состоятельные, а вполне простые граждане, кто мог позволить себе брать лекарства в аптеке.
Вышагивая по улице, Алексей Сергеевич несколько дрожал от холода. Сыро, и вроде бы без особого ветра, но сильный туман, казалось, капли висят в воздухе как рассеянные по огромной серой паутине, заволакивающей весь город, и сквозь них изредка проглядывает свет окон, да навстречу выныривают люди и вновь исчезают в пелене. Сама по себе видимость оставалась не такой слабой, но еще не успело должным образом расцвести, и потому казалось, что туман поглотил все вокруг. Но что для жителя Петрограда туман? Он помнит каждый камень в городе, чувствует его и идет по памяти, будь кругом даже полная темнота.
Местами на улицах оказывалось даже пустынно, несколько непривычно. Как прежде помнил сам Нечаев, случалось время, особенно в начале года, когда активно поползли слухи о дефиците хлеба, кругом полно народа, стояли очереди, напряжение царило, и даже в морозы на улицы шли все те, кто в иной период оставался бы дома. Те времена ассоциировались с массовой активностью, которая теперь, по наблюдениям Нечаева, несколько стихла. По крайней мере, если брать горожан, то они в некоторой мере охладели ко всему происходящему и уже бы не сильно возражали вернуться к чему-то былому, привычному, но, такое ощущение, что этому уже никогда не бывать.
Да и все, что имеем теперь, все, к чему пришли, всего этого тоже могло не бывать, а если и суждено случиться, то верно, что к результатам можно прийти и иным образом. Да, именно, к любому итогу можно подойти бесчисленными путями, и существовали, должно быть, пути и лучше. Прежде никто и не подумал бы о таком повороте, но если кто и помышлял, может, видел переход мягким, естественным, но разве бывает так с нашим народом? Все так, все непросто и всегда одно и то же. И то, о чем горячо кричали, чего желали, бесчисленные революционные идеи уже как будто больше никого не интересуют. Пока совершенно неясно, кто от этого однозначно выиграл. Люди пресытились свободой, и кое-кто не отказался бы уже и от пастыря, да нет его, а кругом лишь вырвавшиеся на свободу пороки и страхи, что каждый хочет спрятать далеко-далеко под самым крепким замком.
Вопреки опасениям и пугливым фантазиям, перед аптекой Майеров даже чище, чем в ином месте, не говоря уже о следах бесчинств. Ни следа разбоя или даже посягательств разглядеть не представляется возможным. Ни царапин, ни битых стекол, хоть каких бы зацепок или причин встревожиться. Да и сам немец всегда скрупулезно относился к пространству вокруг своей аптеки и по совместительству дома, и эта особенность никуда не исчезла, даже когда почти исчезли дворники. Оказавшись здесь, могло на секунду показаться, что все по-старому и на душе становилось очень тепло. Постояв пару секунд перед входом, Нечаев шагнул внутрь как обычный незнакомый покупатель.
Внутреннее убранство осталось таким же неизменным, как со времен открытия. И вид, и запахи, и даже предметы – все очень похожие. Посетителя без каких-либо эмоций приветствовал сам хозяин, что находился на тот момент в одиночестве, в своем тихом месте на карте шумного Петрограда. Со стула осторожно поднялся пожилой немец Иоганн Готфрид Майер, потомственный аптекарь из Гамбурга. Родился в Бергедорфе, в семье небогатого аптекаря, вскоре перебрался в Гамбург, где прожил до девятнадцати лет, после чего женился, вернулся в Бергедорф с женой Генриеттой Майер, что жила там с семьей, но, не выдержав быта провинции, вновь вернулся в Гамбург, и через два года, в 1883, прибыл в Петербург с женой и отцом, что организовал здесь дело, скоро полностью перешедшее к сыну. Иоганн и Генриетта Майеры жили здесь все эти годы, вырастили сына, но тот, прожив долго в Петербурге, уехал в Германию, а они остались.
По внешнему виду господина Майера легко читалось, что юность его прошла буйно – шрамы на лице, вероятнее всего от драк, а то и дуэлей. Мешки под глазами, может, и от старости, но представлялось, немец прежде был не прочь выпить, однако, при всех пороках всегда оставался культурен, вежлив, а главное дело свое вел честно. Жена ни на мгновение не оставляла аптеку без надзора, и возможно во многом благодаря ней помещение содержалось в столь приятном виде. Об этом месте знали в городе, вероятно, не все, но многие, и народ ходил сюда с давних пор.
Иоганн Майер немного знал Нечаева, но скорее как жильца Ольхина и не питал к нему особых чувств, но, все же, считал приятным собеседником и не отказывался перекинуться парой слов. Тем более он всегда имел в виду, что тот заходит к нему либо принести новости от совсем осевшего дома «струсившего» Ивана, как с издевкой его звал немец, либо наоборот, набраться новостей. С Иваном Михайловичем они знакомы издавна и в далекие времена совместно обильно и регулярно кутили. Случилось даже такое, что пять лет они оставались неразлучными и проводили немало ночей в загулах и празднествах. Ольхин всегда был немного тише, его образ всегда сохранялся романтичным и легким, а немец наоборот – вздорный, активный и неугомонный. Выпивал он всегда больше, но умело, в то время как Ивана Михайловича домой временами приносили. Но шли годы, возраст брал свое, а вместе с тем и времена менялись. Так совпало, что как раз после 1905 года вся их радость сходила на «нет», и вот уже больше десяти лет они оба ведут жизнь тихую и почтенную, а что до Ольхина, так после Февраля жизнь его и вовсе затворническая.
– Как здоровье у нашего дорого Ивана Михайловича? – почти военным, чеканным тоном спросил немец.
– Умеренно, чувствует себя недурно, – тихим, и напротив, повседневным тоном доложил Нечаев.
– А я уже имел предположение, что вы зашли за лекарствами ему.
– Нет, все проще, – не стал лукавить Нечаев. – Очень просил осведомиться, все ли тихо у вас. После вестей с фронта.
– Наслышан… досталось. И к нам заходили. Обыскивали молодцы, кое-что забрали, но не тронули нас.
– Невероятно! К вам, как я знаю, никогда не смели заглядывать. Что же ищут?
– Капиталы, пулеметы, спирт. Что угодно. Немец, – говорят, – враг теперь.
– Не страшно вам? Каждый день рискуете.
– Ничего, пока ничего. Люди болеют. А теперь разруха. Заведений в этом порядке нет, все поменялось. К нам за спасением ходят. После 3-го июля ходили, и теперь ходят.
– Теперь ведь меньше стреляют.
– Травятся много. За качество продуктов теперь сложно ручаться, ведь видели вы, как пыльно? Предупредите Ивана Михайловича, чтобы осторожнее обходился с пищей. С самого мая еще от пыли не продохнуть, а по улицам тем же, торговцы продают рыбу, грибы, ягоды, мясо… что угодно. Оно ведь и прежде такое допускалось, да только теперь улицы полны пыли, грязи, все это оседает на еду. Знаете, какие беды несут? С желудком надобно быть внимательным, что попало не следует есть. Но что делать? Ситуация тяжкая нынче, едят все равно. Знать, не убудет у меня посетителей.
– Но вы же не рады? Такие деньги нельзя ценить, – пытался поймать Нечаева немца на аморальности.
– Я могу прекратить работать, думаете, лучше станет?
– Не уверен.
– Даже в самые напряженные периоды люди живут. Не лечь же нам всем и страдать. Нужно проживать. Но кому-то в это время страдать, а кому-то и помогать. А так, время теперь непростое, чего уж оправдывать.
– А вы не хотели бы вернуться обратно, откуда вы пришли… Бремен?
– Гамбург. Нет, не хочу. Сегодня не хочу.
– Но ведь в Петрограде неспокойно. Сами не скрываете.
– В Европе не лучше. Помните, что война идет не только у вас, точнее у нас с вами. Весь мир в огне. Не думайте, Алексей, что где-то хорошо, а только тут плохо. Но не сомневайтесь, когда будет нужно, я уеду, а нет – останусь здесь до конца дней. За меня не тревожьтесь, я твердо знаю, как жить.
– Я лишь зашел проведать вас. Рад, что все в порядке. Передам почтение от вас Ивану Михайловичу. Прощайте.
– До встречи, Алексей, – точно так же чеканно ответил немец, и вмиг обернулся спиной, занявшись своими делами.
После общения с немцем Нечаев иногда приходил в гнев, но быстро отходил и после уже вспоминал о нем с хорошими чувствами и всегда тайно побаивался, что, проходя мимо лавки, он увидит битые витрины, разгром и кровь на идеально чистом тротуаре. И при всей странной манере немца то грубить, то выражаться надменно или откровенно пренебрежительно, он не вызывал крайних антипатий. Да, сегодня поговорили вполне сносно, без обид даже, а вот завтра зайдешь, он начнет палить остро и неприятно, и уж, грешным делом, чего зря про Майера надумаешь. Странный человек, и быть может, болезнь какая загадочная так управляет его настроем? О всяких причинах, увы, Алексей Сергеевич ничего не знал.
В конторе «Нового времени» говорили о сильном похолодании в Москве. Погода там испортилась основательно, и город захлестнули продолжительные ливни, очень похолодало, и даже начались ураганы. Град, ко всему прочему, уже несколько раз прошелся по Белокаменной. Эта непогода постепенно подбиралась и к Петрограду, и теперь как температура, так и нагнетающие ветра, дожди готовы окутать столицу. Выходя на промозглый холод, что уже в конце августа постепенно превращался в настоящую напасть, оставалось лишь горько призадуматься о том, что таким образом есть риск вообще однажды ночью околеть. Немало выпало трудностей в ту пору, но проблема обеспечения домов теплом все чаще поднималась в беседах горожан, особняком выделяясь на фоне прочих. Всякое может расстроить, но перспектива померзнуть уж и вовсе не оставляла хоть каких-то надежд пережить зимний период. Про уголь речи и не шло, но тех же дров не хватало, а холодные каменные дома превращались в сырые пещеры. Разговоры о климате Петрограда это отдельное удовольствие и уже традиция многих поколений. Иному человеку бы и надоело, но как не ругать, как не поминать погоду, когда терпеть ее сил нет? Хоть и век живи в этом городе, а все равно не привыкнешь. И, к сожалению, центральным отоплением обеспечены немногие дома, а все больше жителей, как и прежде, топились дровами. Кухонные печи же и подавно все оставались на дровах. Между тем, дрова поступали хуже, они дорожали, и страшно не только замерзнуть где-нибудь в уголке окраинного домишки, но и оказаться на длительное время без необходимой теплой пищи, а это того и гляди, не сегодня, завтра настанет. Ольхин в этом вопросе старался достичь компромисса, будучи человеком исключительно мерзнущим, он всячески пытался решить вопрос отопления, но не в его силах повлиять на ситуацию, и успев немного замерзнуть прежними ночами, Нечаев понимал, что с наступлением осени, от даже такого преждевременного холода, он будет мерзнуть всегда и везде. Так непривычно и мерзко, как он этого не хотел. Закрывая глаза, Алексей Сергеевич представлял теплые океаны на том краю земного шара, но перед очами его пробегала лишь холодная и полноводная Нева. Сам того не замечая, он побрел по улицам, задумавшись, как многие из новых бедолаг, что бродят по улицам, что сошли с ума от этих революционных безумств, Нечаев точно так же поддался забвению и очнулся у набережной, глядя на воду.
«Вода, ты протекаешь так же, как и теперь моя жизнь. Чему подвластна, чьей воле? Зачастую лучше не видеть автора, не знать творца. Так и не стоит мне знать того, кто все это пустил: твое течение и мое».
Над гладью Невы, что переливалась в вечернем свете огней, высились мосты и гранитные набережные. Холодные воды омывали их, как и прежде омывали берега. Река с силою мчится от самого Ладожского озера и впадет в море. Полноводная, северная, русская река, ты протекала здесь целую вечность, и все, что здесь теперь происходит, для тебя ничтожно. И задолго, задолго до Петра ты была здесь. Не он открыл это место, и даже не древние рыбаки или иные народы, что в разное время здесь обживались, а ты, ты одна определяешь чему быть у берегов твоих. И теперь, когда люди крепко устроились при тебе, в чистые воды стекает кровь и грязь улиц. Воды твои скоро охватит лед, и на поверхность его лягут отражение уцелевших фонарей, огней домов, таинственный свет мягко расстелится пред тобою, а скоро скованную гладь накроет снег, а сверху упадет и городской мусор. Благо, если воды твои или ледяной панцирь не засыплет телами, и тебе не придется видеть, как город угасает. Были дни, бывали времена, когда могучие потоки топили безжалостно Петербург, не считалась река с ним. Тогда это казалось бедою, а теперь, так может и спасением бы стало. Всех прогнала вода и всему конец. А то ведь, что теперь? Весь народ, что двести лет гулял близ тебя, что боялся и восхвалял, теперь он больше не видит ни реки, ни самого города, в глазах его пелена, зло и обреченность.
Нечаев стоял, опершись на холодные грязные камни. Уставившись в воду, он временами отвлекался только на проходивший туда-сюда народ. К вечеру обстановка на улицах менялась, вдруг опять прибавилось людей. И сразу с тем стало несколько не по себе. Каждое лицо мерещилось лицом предателя, что без затруднений совершит злобное деяние против своего же, русского человека. И потому Нечаев не боялся немцев, и что они придут, а боялся он своих людей, точнее их новое воплощение. Кругом, где есть прекрасное, где создано великое, соберутся те, кто будет это искажать и портить. И новая свобода уже превращает город в яму с отходами, в руины и прах. А самые худшие примеры граждан перетягивают на свою сторону тех, кто сомневается. Сомнение. В этом состоянии многие и жили. Сам Нечаев страдал от сомнений. Уже давно, глядя на происходящее, он пытался понять, какой же путь верный. Верный себе или верный чему-то новому, заманчивому? С тоской он обернулся на реку, прежде чем совсем уйти и позавидовал, что Неве нет дела до всего людского.
Вечер выдался прохладный для августа. Известно, что в иных местах страны бывает и теплее в это время года, да и не только в августе. Но Нечаев без особенных причин симпатизировал северу, точнее собственной причастности к проживанию в холодных, непогодливых широтах. Порой ему нравилось с некоторой гордостью относить себя к истинному жителю Петербурга, который стойко переносит все продолжительные тяготы погоды и чуть не круглый год с уверенно поднятой головой встречает то ледяные ветра, то дожди, или снега в любой месяц. Даже холодный май, что был уж в среднем очень неприятен в текущем году, Нечаев переносил надменно легко, поговаривая, между прочим, что такая непогодь ему даже нравится. В прошлом году, раза два или три, он выходил на необязательные прогулки в сильные снегопады, когда ветер пронизывал насквозь, а мокрый снег, походу замерзавший до состояния маленьких ледяных капель больно рассекал по лицу, но Алексей Сергеевич все гулял и как будто не обращал на это он внимания. На словах, погода, разумеется, его удовлетворяла и нравилась. Так он говорил всегда, и хоть сам искренне тяготился холодом, пусть и попривыкнув к нему за всю жизнь, про себя регулярно выругивал погоду, но на людях о таком говорить не предпочитал. Но оправдывая его, стоит отменить, что в целом, в своих домыслах и суждениях он искренне заключал, что именно в холодных краях деятельность людей наиболее правильная, направленная на выживание, и как итог на стремление к чему-то большему после того, как справился с холодом. В речах он любил упомянуть борьбу человека с неподатливой природой, часто к разговору добавляя литературные красноречия про могучие скандинавские скалы, густые леса, полноводные реки и небо, высокое и чистое. В таких декорациях превозмогал изображаемый им человек, учился, развивался и наконец, достиг нынешнего пика развития. Оттого с радостью он смаковал изящество и суровость северной природы, так благосклонно влияющей на деятельность во всех аспектах. Все это ему как будто глубоко любо. На досуге он даже часто представлял, как в старости уедет к финской стороне, станет жить у озера или уйдет в церковь. Но тут дело уже не только в одной северной погоде и тем более не в религиозности, а покое и отстраненности, которых, как он думал, очень захочется с годами. Неизвестно, поступил бы он так или нет в итоге. Прежде, мечты без колебаний подводили его именно к такой старости, и решительный переезд в тихое одиночество считался лишь делом времени. Но, увы, к нынешнему дню он ощущал только апатию, и грезам просто не оставалось места. Все происходило уже само по себе, события тянулись друг за другом, как русло реки, каждый день, все одно и то же, а кругом – революционный Петроград. А повлиять на это Нечаев совершенно не мог, потому не строил надежд и лишь терзался от ощущения, что у него отобрали не только настоящее, но и сразу будущее, а в таком возрасте, надо полагать, это означает, что отобрали уже все. Только и оставалось разобраться, кто отобрал и зачем, с этими тонкостями пока сложно. Между тем, он все думал и тихонько, даже вежливо поругивал холод, точно так, чтобы его мысли никто не мог разгадать.
Уже добравшись домой, Нечаев слышал, как Ольхин кому-то горячо рассказывал про далекие события ноября 1903 года, когда случился потоп и вода даже залила Никольский рынок. Одна из его популярных баек, превращавшихся в легенду. На самом деле, то событие выдалось самым рядовым, не опасным для города, но Иван Михайлович очень любил рассказывать историю, снабжая ее такими подробностями, коих и не случилось в действительности. С годами история становилась все интереснее и, повторяя ее каждую осень, он, казалось, все более заимствовал слов и оборотов из «Медного всадника» Пушкина, что проживи Ольхин еще лет сто, то этот мелкий подъем воды звучал бы уже полностью стихами поэта.
Нечаев зашел лишь на мгновение, чтобы передать, что у Майеров все нормально, и аптека их цела, и сам он не плох и все тот же «старичок». Ольхин успокоительно крестился, благодарил Нечаева за «хоть какие-то» добрые вести, и после продолжил свой рассказ, как оказалось, Полеевым. Те не могли застать 1903 год здесь, поэтому слушали его изложение, хотя бы впервые и вообще первые слыхивали об этом. Новым слушателям всегда интереснее что-то нести, поэтому Ольхин выражался крайне импульсивно, с выражениями, жестикулируя и переменами тональности. Не сказать, что из него мог получиться прекрасный рассказчик, а может даже востребованный артист, но что-то такое чувствовалось в человеке, особенно в мгновения, когда он забывался от окружающего быта, ударяясь в далекие воспоминания или фантастические размышления. Порой до того было его приятно слушать, что даже жена дивилась, и невольно увлекаясь, присаживалась на край стула и навострила слух, иногда кивая головой.