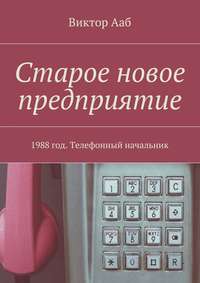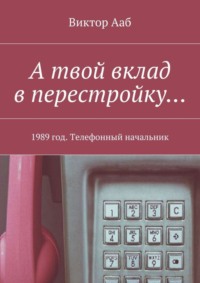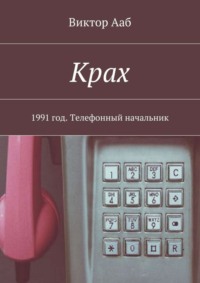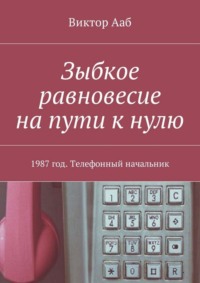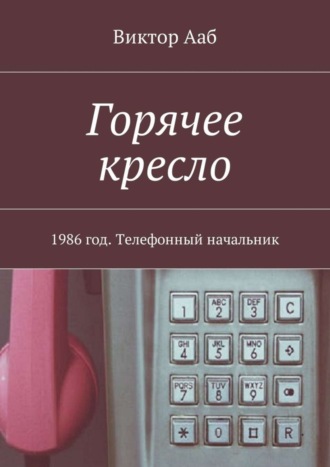
Полная версия
Горячее кресло. 1986 год. Телефонный начальник
О труде связистов на войне…
Из романа В. Астафьева «Прокляты и убиты…»
…(место действия – плацдарм на реке Днепр).
…Почти все телефонные линии, проложенные с левого берега, умолкли или едва шебуршали. Среди великого развала, хозяйственного разгильдяйства, допущенного в подготовке к войне, хуже, безответственней всего приготовлена связь – собирались же наступать, взять врага на «ура!» и бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить – чего ж возиться с какой-то задрипанной связью – вот и явились в поле военные рации устарелого образца в неуклюжем загорбном ящике и с питательными батареями, величиной и весом не уступающими строительному бетонному блоку. Парой таскали рации и питание к ним радисты, но, пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые за пазухой батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась контактная более-менее надёжная рация, однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах на более важных, чем передовая, объектах.
Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался посредством наземной связи – сереньким, жидким проводочком, заключённым в рыхлую резинку и в ещё более рыхлую матерчатую изоляцию. Пролежавши четыре-пять часов на сырой земле, провод намокал, слабел в телефонах звук, придавленной пичужкой звучала по ним индукция. Товарищи командиры, гневаясь, били трубкой по башкам и без того загнанных, беспощадно выбиваемых связистов, тогда как надо было бить трубкой или чем потяжелее по башке любимого вождя и учителя – это он, невежа и вертопрах, поторопился согнуть в бараний рог отечественную науку и безголово пересадил, уморил в лагерях родную химию, считая что учёные этой науки и без того нахимичили лишка, отчего происходит сплошной вред передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером посдержанней, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых учёных, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность.
Чужеземный, более жёсткий, чем русский, провод заключён в непроницаемую пластмассовую изоляцию – ничего ему ни на земле, ни в воде не делается. Телефонные аппараты у немцев лёгкие, катушки для провода компактные, провод в них не заедает, узлы не застревают. Связисту-фрицу выдавался спецнабор в коробочке – портмоне с замочком, в желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены: плоскогубцы-щипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки – назначение их не вдруг и угадывалось. Отважным связистам-Степанам вместо технических средств выдавалось несчётное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахомудию, имеющуюся на вооружении у фрица, Степан-связист заменил мужицкой смекалкой: провод зачищал зубами, перерезал его прицельной планкой винтовки или карабина, винтовочный шомпол употреблял вместо заземлителя. Линия связи – узел на узле, ящички телефонных аппаратов перевязаны проволоками, бечёвками, обиты жестяными заплатами.
Уютно осевшие на дно траншеи, бойцы отводят глаза, когда уходят из окопа в разведку ребята. А разведчики одаривают завистливым, напряжённо-горьким, прощальным взглядом остающихся «дома». Так разведчики-то не по одному, чаще всего группой идут на рисковое дело. И сколько славы, почёта на весь фронт и на весь век разведчику. Связист, драный, битый, один-одинёшенек уходит под огонь, в ад, потому как в тихое время связь рвётся редко, и вся награда ему – сбегал на линию и остался жив. «Где шлялся? Почему тебя столько времени не слышно было? Притырился? В воронке лежал?» Словом, как выметнется из окопа связист – исправлять под огнём повреждения на линии, мчится, увёртываясь от смерти, держа провод в кулаке – не до узлов, не до боли ему, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони, их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемёта, секло осколками. Опытных связистов на передовой надо искать днём с огнём. От неопытных людей на войне, в первую голову в связи, – только недоразумения в работе, путаница в командах, особенно частая у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша да и авиация лупили по своим почём зря. Толковый начальник связи должен был толково подбирать не просто боевых, но и на ухо не тугих ребят, способных на ходу, в боях, не только сменить связистское утиль-сырье на трофейный прибор и провод, но и познать характер командира, приноровиться к нему. Толковый начальник не давал связистам спать, заставлял изолировать, сращивать аккуратно провода, чтоб в горячую минуту не путаться, сматывать нитку к нитке, доглядывать, смазывать, а если потребуется, опять же под огнём, починить, собрать и разобрать телефонный аппарат. Толковый командир связи обязан с ходу распознать и разделить технарей, тех, кто умеет содержать в порядке технику, носиться по линии, и «слухачей» – тех, кто и под обстрелом, и при свирепом настроении отца-командира не теряет присутствия духа, понимает, что пятьдесят пять и шестьдесят пять – цифры не одинаковые, если их перепутаешь, – пушки ударят не туда, куда надо, снаряды могут обрушиться на окопы своей же пехоты, где и без того тошно сидеть под огнём противника, под своим же – того тошнее. Телефонист с ходу должен запомнить позывные командиров, номера и названия подсоединённых к его проводу подразделений, штабов, батальонов, батарей, рот. Кроме того – Бог ему должен подсоблять – различать голоса командиров: терпеть они не могут, особенно командиры высокие, когда их голоса не запоминают с лету, для пользы дела надо телефонисту мгновенно решить – звать или не звать своего командира к телефону, кому ответить сразу: «Есть!», кому сообщить, что товарищ «третий» или «пятый» пошёл оправиться. И всечасно связист должен помнить: в случае драпа никто ему кроме Бога и собственных ног, помочь не сможет. Связист – не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди. Убегать связисту всегда приходится последнему, поэтому он всечасно начеку, к боевому манёвру, как юный пионер к торжественному сбору, всегда готов – мгновенно собрав своё хозяйство, он обязан обогнать всех драпающих не только пеших, но и на лошадях которые. Будучи обвешанным связистским оборудованием, оружием, манатки свои – плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки клятые ни в коем случае не терять – никто ему ничего взамен не выдаст, с мертвецов же снимать, да на живое тело надевать – ох-хо-хо. Кто этого не делал, тот не почует кожей своей…
«Где эта связь, распра…» Не дав закончить складный монолог, связист должен сунуть разгорячённому командиру трубку: «Вот она, т-ыщ майор, капитан, лейтенант! Тутока!»
***
Жёстко, сурово, обнажено правдиво, и в самую точку. И хотя сейчас не было войны – и ситуация в мирной жизни совершенно иная и несопоставима по напрягу с реальными ужасами военного времени, но ассоциации просматривались. Я быстро понял, что Телеграфно-телефонная станция в Синегорске – это очень удобный молниеотвод для очень многих руководителей предприятий. На этот «молниеотвод», с молчаливого согласия властей, – очень легко можно переложить, направить собственные просчёты. Недостатки собственной хозяйственной деятельности.
Смириться с навязываемой мне ролью «молниеотвода» я не хотел. Всегда мог постоять за себя. А в данном случае, – моим «Я» должно было стать это, нежданно-негаданно, свалившееся на меня попавшее в беду предприятие. И пока ещё только подсознательно, мне начинало становиться за него обидно.
Поняв, что со мной каши не сваришь, Анатолий Никифорович приказал
– Вот, лично и доложите Дымченко о своём неумении работать.
Делать нечего – надо было звонить Дымченко.
Позвонил в приёмную, секретарь соединила.
– Александр Сергеевич, по таким-то и таким причинам – я не смогу выполнить ваше задание, – виноватым голосом выдавил я.
– Какого же черта вы тогда мне звоните, – раздражённо бросил секретарь и положил трубку.
Да… – с начальством отношения у меня явно не клеились.
А может быть, бросить всё и отказаться от начальнического титула, пока, не успел ещё и окончательно не увяз в этом болоте? – скользнула предательская мысль. Пока, ещё только скользнула…
Поздно вечером возвращался домой, как всегда пешком. Поймал себя на мысли, что постоянно думаю о работе, мучительно думаю, – а ведь раньше со мной такого не бывало. Обычно в дороге я всегда напевал какую-нибудь песню. Сколько себя помню – всегда пел. В зависимости от того, где нахожусь, или «про себя», или вполголоса, или просто мурлыкал мотивчик. Или, – особенно в детстве, – насвистывал. Заливался свистом. Мать так и поддразнивала – наш «свистун»!
Песни были разные. В зависимости от настроения, – о любви, просто красивые, бодрящие и «боевые». Я знал массу песен наизусть, и обладал прекрасным слухом и неплохим голосом.
По этой причине меня непрерывно тянули худруки в самодеятельность, а я её боялся как черт ладана. Почему боялся – это другая история…
И вдруг – молчу. Попытался запеть осознанно – не пелось…
А ночью засыпать становилось все труднее.
Прошло ещё несколько дней. Вопросов без ответов становилось все больше и больше. Вокруг появлялось все больше и больше начальников разного ранга, которые считали своей обязанностью дать мне очередное задание с требованием «исполнить его в кратчайшие сроки». Я все больше и больше огрызался и все больше и больше портил отношения с руководящими работниками города и частично, области.
Наконец не выдержал – пошёл к своему Семенову. Алексей Николаевич после передачи мне власти в ЭТУС выбрал себе место для скромной работы в техническом отделе. Там и находился. Принял меня с радостью – выслушал, посочувствовал.
– Виктор Васильевич, вам надо выдержать этот натиск. Вас сейчас все пробуют «на зуб». Вам надо проявить характер.
– Да, вот я его и проявляю! Но мне за это все чаще, и все больнее, «достаётся на орехи» – пожаловался я. Такое количество поручений – что только от перечисления их кругом идёт голова! И все требуют их выполнить, и все – немедленно!
Алексей Николаевич ответил просто
– А зачем их ВСЕ выполнять? Выполните два-три, из десяти. Главных ваших начальников это устроит. И посоветовал
– Сходите к начальнику Почтамта Селину Степану Ивановичу. Он имеет огромный опыт работы со структурами власти, его советы будут для вас полезны. И добавил на прощание
– Не хватайтесь за все сразу. Определите конкретные, пусть даже маленькие проблемки, поддающиеся решению, и старайтесь последовательно их выполнять.
Странное чувство… Он не был многословен. Говорили его глаза. Из них лучилась твёрдая уверенность в том, что я со всем этим обязательно справлюсь.
К Селину – проработавшему в городских предприятиях связи долгие годы, причём, успешно проработавшему и в настоящее время возглавлявшему городской Почтамт, пока особой нужды идти не было. Чтобы взбодриться, мне хватило Алексея Николаевича. Но напоминание Семенова о нем было кстати. Действительно, полезно было бы с Селиным поговорить, но это я сделаю попозже…
А пока, я приглашал в кабинет Ковалёва, задавал ему возникающие в ходе ознакомления с предприятием вопросы, просил охарактеризовать наиболее ключевых руководителей и работников, мотал его информацию на ус. Выводов никаких не делал, просто принимал её к сведению.
Пётр Романович внешне был для меня полностью открыт, но мне приходилось учитывать, что он обозлён на весь мир, Практически всех работников цеха ГТС, за редким исключением, кроме как сволочами и пьяницами не называл. Убеждал меня, что воздействовать на них, кроме как через ругань и крики, почти невозможно. По поводу взаимоотношений с властями только сочувственно вздыхал, но о том, как строить работу со службами и цехами ТТС – делился охотно.
Вот и сейчас, он вводил меня в курс дела, – каков порядок проведения приёма посетителей по личным вопросам. Делился опытом. В ближайшую пятницу во второй половине дня мне предстояло провести свой первый приём.
Глава 7. Приём по личным вопросам
Оказывается, приём граждан «по личным вопросам» занимает важное место в распорядке дня начальника ТТС. Проводится в специально отведённые для этого действа часы и не подлежит отмене, ни под какими предлогами. На приём посетителей отводится три часа времени, в каждую пятницу, во второй половине дня.
Пётр Романович рассказал о порядке проведения приёма, предупредил, что практически все посещения жителей города касаются либо установки телефона, либо восстановления его работы.
Сообщил, что при приёме на рабочих местах должны находиться начальник цеха ГТС, начальники абонентского и технического отделов. По специально организованной прямой связи необходим постоянный контакт с ними, в процессе приёма. Предупредил, что я должен общаться с посетителями обязательно при свидетеле и порекомендовал, для присутствия в кабинете, почему-то – начальника отдела кадров Парк Светлану, которая будет заодно вести сопутствующую документацию. Посоветовал быть максимально сдержанным, ибо мне придётся иметь дело с совершенно непредсказуемым поведением людей
– Разные люди заходят в этот кабинет…
Рассказал несколько возмутительных историй. О том, как на него один из инвалидов-посетителей набросился с костылём… Другой – пытался схватить за грудки….
При этом, его резко усилившееся заикание выдавало внутреннее волнение. Чувствовалось, что процесс приёма был для него довольно неприятной обязанностью, – одни только воспоминания о которой, вызвали прилив крови к голове. Мало того, что он все сильнее и сильнее заикался, его лицо сильно побагровело, стало откровенно жёстким и угрюмым. Наверное, сказывалось то, что Грачева не просто уволили с работы. На него завели уголовное дело по каким-то махинациям, связанным с установками телефонов. Проводилось следствие, и его ждал суд…
На следующий день, в пятницу, после обеда, мне предстояло испытать приём на себе.
Я уже познакомился и побеседовал с начальником абонентского отдела – Юртабаевой Асией Хасановной и начальником технического учёта – Боровик Любовью Ильиничной – миловидными, приятными женщинами, очень вежливыми и предупредительными со мной.
Любовь Ильинична, маленькая, юркая, вся была усеяна конопушками, что было очень необычно, и они её совершенно не портили. Она откровенно радовалась моему приходу на предприятие и при первой же встрече, видно желая сделать комплимент, сообщила, что наслышана обо мне только с хорошей стороны и уверена, что с моим приходом, на ТТС, наконец, возобладает порядок.
Асия Хасановна – статная, высокая татарка, чувствовалось – женщина себе на уме. Комплиментами не сыпала, держалась настороженно, но с достоинством.
Из беседы с ними при знакомстве я понял, что они прекрасные специалисты, хорошо знают сеть и готовы ответить на любые вопросы, возникающие в процессе приёма. На опасения, что я, пока, вряд ли смогу что-либо обещать людям – уверили, что два-три положительных решения они мне найдут. И этого на приём будет достаточно.
Ну вот! И здесь действовало правило указанное накануне мне в качестве совета у Семенова.
Уже уходя на обед в столовую, в час дня, увидел в приёмной несколько горожан записывающихся на приём у секретаря. Секретарь приёмной на обед не уходила.
Возвратившись с обеда, за пятнадцать минут до начала второй половины рабочего дня, я с трудом смог пробиться в кабинет. Приёмная была буквально набита людьми разных возрастов. Их было человек двадцать. Некоторые были очень пожилыми, явно больными и сидели на немногочисленных стульях, имеющихся в приёмной. Остальные, просто стояли.
Меня, естественно, никто не знал. Я выглядел очень молодо, был стройным и подтянутым и совсем не походил на начальника. Вняв просьбе секретаря, люди расступались, чтобы пропустить меня в кабинет. Я осторожно протискивался сквозь толпу, ощущая на себе удивлённые и любопытные взгляды.
В кабинете уже сидела Парк Светлана. На её столе находилась картотека, в которой по алфавиту были разложены во время предыдущих приёмов заполненные листки на посетителей, стандартной формы, в каждом из которых была зафиксирована суть просьбы, принятое решение, ход и сроки её исполнения. Рядом лежала стопка незаполненных бланков.
Било волнение. По прямому телефону попросил секретаршу впустить первого посетителя. Приём начался.
К моему удивлению – нет, не вошли, – буквально вползли два человека. Это были очень-очень больной старик, практически почти не умеющий передвигаться без посторонней помощи, и молодая, очень бойкая на вид, решительно настроенная девушка, похоже – его внучка. Так и оказалось.
У меня невольно вырвалось
– Зачем Вы привели этого дедушку?
– Для того, что бы вы лично убедились, насколько ему нужен телефон на квартире – нагло ответила девица.
– Покажи, покажи ему документ, – обратилась она к больному дедушке, который трясущейся рукой, что-то бормоча, пытался вытащить из кармана удостоверение участника войны.
– Он – участник войны! У него льготы, а вы ему даже телефона поставить не можете, – продолжала внучка. Ещё ничего не услышав от меня, она уже переходила на крик.
На деда было жалко смотреть. Но он, тоже, пытался что-то говорить, и, похоже, плохо слышал. Его бы в больницу…
– Это же не медицинское учреждение, а я не врач – растерянно пытался девушку урезонить. – Неужели вы не смогли бы сами без его присутствия изложить просьбу об установке телефона? Неужели вам его не жалко было больного, сюда тащить?
– Это вам его не жалко… – накаляла обстановку посетительница.
И тут, вмешалась Парк. По фамилии ветерана войны, указанной в удостоверении, она нашла в картотеке листок приёма с широкой красной полосой, нанесённой по диагонали. В листке было записано, что дом, в котором проживает ветеран, не только сам не телефонизирован, но не телефонизирован и весь микрорайон, только недавно начатый застраиваться в городе. Внизу, под записью стояла резолюция: – телефон будет установлен во втором квартале 1986 года.
– Вам же объясняли, что надо подождать до весны, – твёрдо отчеканила Светлана. – Если что-то наметится ранее, мы вам сообщим. А теперь, прошу вас дать возможность, нам нормально работать.
– Он не доживёт до лета, – визгливо закричала девушка. – Ставите всем телефоны по блату… Ну, ничего, я найду на вас управу!
Взгляд её упал на стоявший в углу телевизор. – Живете здесь в роскоши…
Деду явно было тяжело это выдерживать, он пытался встать. Света подскочила к нему, подхватила его под руку и повела к выходу. Внучка, продолжая сыпать угрозами, невольно поспешила за ними.
– Уф-ф-ф…
Я тут же, позвонил по прямой связи Асие Хасановне и спросил:
– Мы, действительно, сможем установить этому человеку телефон во втором квартале?
– Нет, – помявшись, ответила она.
– Тогда почему же мы ему это обещаем?
– А мы просто не можем отказывать людям, особенно участникам войны – услышал я обескураживающий ответ.
Да, похоже, обещания в этом кабинете раздавались щедро…
Следующей посетительницей была женщина средних лет, интеллигентного вида, почему-то вошедшая раньше многочисленных людей пожилого возраста находившихся в приёмной. Несмотря на свою интеллигентность явно не в её правилах было уступать им очередь. Она очень сочувственно посматривала на меня. Её лицо выражало откровенное презрение к выковылявшему предшественнику. Даме тоже требовался телефон…
Мы приняли более двадцати человек и только двум из них, как и обещала Асия Хасановна, дали надежду на установку телефона, правда, после дополнительной проверки монтёрами свободных линий.
Посетителям, пришедшим лично сказать, что у них очень давно повреждён домашний телефон и что мер по восстановлению его работы не принимается – я тоже, ничего не обещал. Говорил лишь что разберусь. Созванивался с Висящевым по прямой связи, и, видя, что консультации с ним ни к чему определённому не приводят – откровенно говорил людям, что пока не могу им ничего сказать конкретного, кроме как разобраться с причиной повреждения, закреплённого за ними номера. Не обозначая сроков, просто просил их ещё немного потерпеть. Некоторые меня понимали, но на лицах большинства посетителей читалось разочарование и не только оно…
Когда приём закончился, было около восьми часов вечера. Эти, без малого шесть часов непрерывного общения с людьми, показались мне вечностью. Интересно, лицо у меня было таким же багровым как у Ковалёва, при упоминании о приёмах?..
Проблема телефонизации квартир граждан – жгла, горела…
Добрая половина посетителей, прошедших через приём, действительно, нуждалась в телефонах. Многие приходили сюда не первый раз. Почти все заявляли, что стоят в очереди давно, десятки лет, а очередь не продвигается. Некоторые заявляли, что в их доме недавно поставили телефон. Хотя они, в доме по очереди, – первые?!.. И услышав, что сейчас им поставить телефон нет возможности – тут же требовали объяснений. На каком основании (подразумевалось, что, конечно же, – по блату) этот счастливчик – их сосед по дому – сумел получить заветный номер?
Я выяснял это у Асии Хасановны – и, с её слов, сообщал причину установки телефона счастливчику: – «по производственной необходимости»… – «по распоряжению обкома… горкома… горисполкома»… Конечно же, данный ответ их не устраивал, и люди уходили недовольными.
Да лучше бы я вместо встречи с этими людьми разгрузил вручную несколько машин с углём!
Перед приёмом, по совету Ковалёва, я внимательно изучил нормативные документы по Правилам установки телефонов. К сожалению, реальность резко отличалось от идиллии, прописанной в них. К тому же «Правила» были очень не конкретны.
Во время приёма особенно было жаль больных и стариков. Их рассказы о своих «болячках» больно трогали душу.
Мне всегда было жаль слабых и обиженных. В детстве, даже, был случай, когда я очень сильно подрался со своим лучшим другом, только из-за того, – что он убил первую весеннюю муху. Это смешно, но это правда.
А тут люди! Больные, страдающие люди!.. И в настоящее время, не в моих силах было им помочь.
С гнетущим чувством, пешком, возвращался домой. Осмысливал проведённый приём. Получался какой-то парадокс: – мы делали вид, что принимаем людей с целью – сделать им хорошо, а на деле, только озлобляли их.
Люди, приходя к нам, делали вид, что верят нам, а на самом деле, безапелляционно опротестовывали наши решения – и этим, озлобляли нас. Какой-то чудовищно глупый, механизм взаимного озлобления! Кому это выгодно? Ради чего это делается?..
Было ощущение бесполезно потраченного времени. И самое главное – для меня это сразу стало очевидно – выходу из тяжелейшего кризиса с отвратительным качеством работы сети, в котором явно находилось предприятие, эти приёмы совершенно не помогали. Чувствовал, может быть из-за непривычки, что приём просто выбил меня из колеи. Полная неудовлетворённость в душе…
Хотя, двум счастливчикам, все-таки, повезло. По адресам их проживания таки были выписаны справки на дополнительное обследование возможности установки. Пока, только – возможности…
На следующий день, первым делом распорядился, чтобы телевизор был вынесен из кабинета. Его установили в приёмной. В отличие от директора телевизор секретарше в приёмной, наверное, смотреть было можно. Впрочем, она его почему-то, тоже, не включала.
Глава 8. Почему всё так плохо?..
Незаметно пролетели две недели. Ничего существенного за это время не произошло. Висящева понапрасну не дёргал. Собирались втроём по вечерам. Я все больше и больше вникал в суть эксплуатации линейно-кабельного хозяйства города все яснее и яснее представлял для себя весь трагизм ситуации сложившейся в цехе ГТС.
Совсем не случайно получилось, что именно этот цех – цех с очень тяжёлыми и непривлекательными условиями труда, предполагающими в любую погоду, его работникам исполнять свои обязанности на улице, стал наиболее слабым звеном в комплексе взаимоувязанных, очень ответственных, задач поставленных перед ТТС. Здесь, в первую очередь, отражались наиболее неблагоприятные тенденции имевшие место не только в отрасли, но и в народном хозяйстве страны, в целом.
Изучая кадровый состав цеха, я сразу же обратил внимание на то, что в цехе не оказалось ни одного специалиста с высшим образованием. Даже с техникумом связи, не было. Малочисленные инженерные должности занимали самоучки.
Не было заманчивых стимулов привлекающих на этот, особенно в глазах молодёжи, непрестижный участок работы. Поэтому и не шли сюда люди. Инженеры и техники с образованием не шли из-за уравниловки, царившей на предприятии, в целом в системе, оплаты труда. Даже начальник цеха здесь получал заработную плату, в лучшем случае, наравне с кабельщиком—спайщиком, у которых, кстати, заработная плата была тоже неадекватна тем скотским условиям, в которых они работали. По крайней мере, в то время когда я пришёл. Начальник цеха ГТС – Александр Дмитриевич имел за плечами только ПТУ, получал на практике зарплату даже меньше чем у подчинённых ему кабельщиков – в сложившейся ситуации премии он, как правило, не получал. Было много причин – лишить его этой премии.