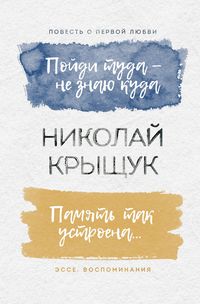Полная версия
Ваша жизнь больше не прекрасна
– Спасибо, Константин Иванович.
Мой кураж сдулся и погас. Выходит, меня слышали? Алевтина Ивановна?
Тогда, что значит «спасибо»? И есть, наконец, в этом мире обратная связь, или ее нет? «Константин Иванович»! Непременно слышали. Значит, все же индивидуальный подход?
Теперь «индивидуальный подход» – это рутина сервиса и педагогики, в любой лавочке вас встретят радушно, как родственника с кавказских небоскребов. Хотя и этот эксперимент не был у нас доведен до конца. Потому что уже через минуту могут и послать, если как следует принюхаются. Доброжелательность еще не вошла в гены, и разбуди работника просвещения среди ночи: «Правда ли, что личность человеческая является абсолютной ценностью?» – можно и в рот получить.
Я еще несколько раз с силой нажал на кнопку. Домофон молчал. Нет хуже, когда дух протеста или хотя бы просто подгулявшего юродства вдруг сталкивается с лицом. Неловко становится за свою нескромность и размашистую беспощадность. Лучше все же знать заранее, перед кем ваньку валяешь. В этом случае особенно – заранее лучше.
Мне тут же захотелось объясниться с Алевтиной Ивановной другим тоном.
– Обесточен дом, зря стараетесь, – снова появилась классовая догматистка. – Нам нельзя под напряжением работать. На прошлой неделе одного уже утараканило. Люди на тот свет так и бегут.
В неисправной технике мне всегда чудился личный произвол и равнодушие. Иногда даже Того, Кто то ли волосы на наших головах считает, то ли и нас не успел еще толком разглядеть.
– А чего бегут-то? – спросил я.
– Так жить, наверное, надоело. Технику безопасности не дураки сочиняют.
– Что же во мне такого блатного? – Меня, видимо, тяготило еще и это недоразумение. Уйдешь от людей, и останутся от тебя одни превратные впечатления.
– Да вы не расстраивайтесь. Приходите завтра часов в семь. Пока то да сё. Ток будет.
– А танцы?
Пошла возвратная волна вчерашней алкогольной эйфории. Она уйдет быстро, и жить сразу станет трудно и неинтересно, не лучше, чем рыбке на берегу. Я знал это точно.
– Эта где сидит? – показал я на домофон. – Разве не у вас?
Девушка посмотрела на меня с такой улыбкой горькой и терпеливой жалости, с какой самоотверженный дефектолог смотрит на пациента-дауна.
Всё! Мосты сожжены! Приливная волна шла еще на меня, я почти захлебывался.
«Братья по недоразумению! – крикну я сейчас ожидающей меня толпе. – Дорогие калеки! Задумчивость – рыбацкое свойство, мысль о мысли, которую хочется поймать на голый крючок. Конечно, рыбка несъедобна. Но это праздное соображение. Младенец заглатывает соску, как титьку неба, в котором все дары и ароматы бессмертия. Теплая туча воркует над ним. Дети мои, как сказал Джамбул. Милые мои смертники. Небеса всегда подставляли вместо себя кормилицу. Мозг отцвел. В голых кронах плутают одышливые бабочки, разгребая от пепла вечную синеву. Босая любовь мнет виноград, счастлива нашим безумьем. Плоскостопие мечты освобождает ее от долгого похода. Поэтому она и обзаводится крыльями. Еще по одной?»
Но вышло все не так…
Курицы перед грозой выглядят менее растерянными, чем эти люди, в ожидании Суда Небесного думающие о том, как получить в этот суд повестку, потому что знают, что никакие небесные силы без этой повестки не станут ими заниматься. Как всегда в минуты народных смут разговор то и дело сворачивал на политику.
– Производства легли, а мы всё поем, – сказал молодой разночинец, зло выглядывая из запотевших норок очков.
– В компьютере искали? – тихо обратился мужчина с внимательным, бухгалтерско-профессорским профилем к мужу Фроси.
– Они по чернобыльским дням стирают информацию. Вирусы обновляются каждый месяц.
– Я не против петровских реформ, – снова попыталась отогнать вуаль дама. – Но, коли дело дошло до всеобщей и полной компьютеризации, – тут я славянофил. Пусть лучше будет коммунизм.
– Вы скажете тоже, – улыбнулся муж Фроси.
– Я скажу. Да.
Тут я заметил, что в стороне, на покрытом гарью сугробике, стоит группа поменьше, и парень в офицерском бушлате записывает что-то на бумажке. Я двинул к ним.
– Есть варианты? – спросил я, заглядывая через чье-то плечо, вставая на цыпочки и чуть-чуть подпрыгивая.
– Варианты всегда есть, – ответил тот, не поднимая на меня взгляда.
– Подождите, мужчина, – запротестовала вдруг женщина с молодой сединой и почему-то с рюкзаком за плечами. – Вы ведь только подошли. А осталось всего два места. – Я подумал, что и при жизни она пребывала всегда в состоянии ажиотажа и нервной соревновательности, поводов для которой у нас не надо искать. И при этом руководило ею конечно высшее, быть может, еще комсомольское чувство справедливости.
– Я вообще с ночи стою. Почему сразу не сказали? – подбежала, оскальзываясь, дама. Вуальку, по такому случаю, она засадила на шляпу, и черные проталины ее глаз заставили вздрогнуть даже этих, не самых счастливых на сегодняшний день людей. – А я уже больше не могу. Каждую ночь он приходит ко мне и просит еды. Мама, говорит, ну что, тебе жалко?
– Вы о ком?
– Сын. Он в Чечне погиб. А гроб раскрыть не разрешили. Я хочу к нему. У меня уже приготовлено всё его любимое. Он поест и успокоится.
– И обратно – очередь. Совсем довели страну, – это разночинец. К сугробу все же потянулся и он.
– Я записываюсь, – решительно сказала дама, растирая по лицу слезы, как будто это был дождь.
– Да погодите вы! – снова женщина, которую очень молодила седина. – Уж если по справедливости, то места надо отдать этим вот старичкам.
– Пусть в Смольный ходят без очереди, – выпалил кто-то горохом.
– Да уж, ветеранов теперь и в магазинах не пропускают, – вздохнула дама, и было непонятно, кому она в этом случае сочувствует.
– Вы-то чего так на тот свет торопитесь? – сказал разночинец. Говорил он, не открывая рта, из чего явствовало, что при жизни у него не было ни времени, ни денег на дантиста. – Молодая, красивая. Накормить она хочет. Это же смешно!
– Хам! – дама неожиданно смутилась, и вокруг ее носа отчетливо проявился белый треугольник.
– Сколько? – спросил между тем разночинец.
– Десять, – ответил офицер. – Дальше не знаю, это уже не со мной.
– Десять? Это балл!
– Кому дорого, есть фирма «Последний срок». Идите туда.
– Я была, – сказала дама, снова опустив на лицо вуаль. – Там хорошо. Живая музыка и все такое. Батюшки молодые. После кремации белую голубку из преисподней выпускают. Но там без свидетельства ничего. Только горсть земли с родины. Тысяча за пакетик. Я купила. А так ничего.
Час назад я не мог подумать, что больше всех из друзей по несчастью мне станет жалко эту коммунистку с душой белого голубя.
Умершая в один день пара уже выпотрошила старухину сумочку и протягивала офицеру деньги.
Почувствовав, что траурный поезд на этот раз уйдет без него, разночинец скривил лицо в нигилистической ухмылке:
– Слушай, а у тебя контакт с Самим, или приходится архангелам отстегивать?
– Да вы, наверное, самоубийца?! – возмущенно воскликнул муж Фроси.
– Смешно. С собой кончают люди, лишенные чувства юмора. У меня с этим в порядке.
– Если в порядке, чего же ты с нами толчешься?
– Я никого не заставляю, – просто сказал офицер в бушлате. И добавил, показывая на меня и даму с вуалью: – Могу взять еще у вас двоих. Но не ручаюсь. Вечером надо созвониться.
Странно, никто не зароптал. Все смертники стали вдруг рассеянно смотреть по сторонам: на смелых птичек, лезущих под ноги, на солнце, которое начало уже припекать. Все как-то сразу почувствовали, что Радий Прокопьевич (так звали человека в бушлате) не только облечен полномочиями, но обладает и еще более таинственным правом: разделять людей по одному ему известным качествам и незримым превосходствам, которые в этой ситуации были важнее других, видимых. Как ни понимал я, что горе и у всех стоящих здесь одинокое и особое, но выбор Радия Прокопьевича был мне приятен и казался заслуженным. Он отчасти совпадал с моим, потому что ведь и сам я только что искренне пожалел даму с вуалью, которая сначала представилась неприятной.
Деньги при мне были, я догадывался, что путешествие не будет бесплатным. Когда мы с Радием Прокопьевичем обменивались телефонами, сквер был уже пуст. Я пожалел, что не успел выразить дружеского соболезнования даме в вуали. Но нам, похоже, еще предстояло увидеться, ведь оба мы были сверх лимита.
Снова стало одиноко, но грело чувство удачно оформленной сделки, и путь не казался пройденным: до того как прозвучит последний аккорд, оставались еще необходимые дела и заботы. Наш с дамой вагон стоял пока не прицепленным.
Сквер колыхался над головой, как утренняя, косо освещенная люстра. И жить так хотелось!
Перформанс: маленький человек
В этом звонком состоянии почти уже устроенного будущего отправиться бы куда-нибудь в лесопарк, кормить уток и дергать со дна реки золотых ершей. Сколько времени выделено! Дома запечь ершей в духовке, снимать с них, пригласив детей, колючие панцири, подкидывая лучшие, еще дымящиеся экземпляры жене. А вечером уж позвонить Радию Прокопьевичу. Может, и не получится еще у него, не бог все же. Успеем тогда договорить обо всем, успею наставления дать и распорядиться: кому рубашку, кому костюм, диктофон «Sony», фонарик с компасом, авторучку с фонариком, кусок малахита, миниатюрный бронзовый иконостас, медаль «Голос сезона». Полное собрание книг рукой огладить и каждую сопроводить напутствием. Расспросить маму о своем и ее детстве. Вернуть жене письма; почитали бы вместе, поплакали, поделились угрызениями совести. Тогда уж можно и расставаться.
Но надо было идти на радио.
Я, однако, пошел не напрямую, а через тихие улицы Коломны, изредка поднимая взгляд на кариатиды, которые смотрели на меня в упор. Не им бы укорять меня! Тоже, конечно, не отпуск, но все же на людях и при деле.
Нельзя сказать, чтобы я оставлял мир с чувством, что вот не успел закрепить в нем какой-то болтик, провести последний штрих и, пожалуйста, хоть сейчас в гости к Лауре, если бы она вдруг снова поблажилась: «Примите благосклонно сей бедный плод усердного труда». Нет, мир давно, а сейчас особенно, представлялся мне чем-то вроде перформанса, и давно я подыскивал в нем местечко для себя. Как-то раз показалось даже, что нашел.
Это был перформанс посвященный чеховской «Чайке», вернее, одному из персонажей, Якову-работнику. Никто, наверное, и не помнит такого. По сюжету, он действительно как будто не нужен. В пьесе у него всего две реплики, кажется: «Удочки прикажете укладывать?» и «Мы, Константин Гаврилович, купаться пойдем».
Но Чехов не от больной ведь головы ввел этого Якова. Масса людей мучается, сходит с ума, любит, ненавидит, стреляется из-за отсутствия смысла жизни, и рядом – человек, совершенно не замороченный высшим, материальная основа пьесы, да что там – всей жизни, всех ее маний и фобий. Во-первых, он – работник, во-вторых, он – Яков, в-третьих, как бы это сказать, он производит минимальные подвижки в пространстве: не хлопочет, не влюбляется, не воспаряет, не ревнует, но он – нужен. Авторов интересуют вещи и поверхности. В инсталляции использованы плесень, следы от чая и вина, умерший и проросший горох. И все это прочно закреплено на металле. На Якове-работнике держится мир.
Однако желание превратиться в маленького человека – своего рода мания величия, присущая так называемым интеллигентам. Какой я, к черту, Яков-работник? Рубаху надеваю, не расстегивая манжет. Гречку перебирать, завязывать шнурки на детских ботиночках – вот самое мое дело. Неуютно было жить с такими руками под статуей Рабочего и Колхозницы.
Теперь, впрочем, и этого символа над нами нет, все только продают или покупают, и мои ювелирные руки никому не режут глаз. Но от этого стало почему-то еще тревожнее, будто лишился я прописки и даже конкретного презрения не достоин. Еще меньше понимаю, кто я, собственно: крайний слева на фотографии миллионов (лицо не установлено) или голос сезона, автор несуществующих романов, напичканный комплексами, горький плод безотцовщины или отломившийся от отца осколок, несущийся вслед за ним по его орбите в неизвестность? Чем был усыпан путь мой?
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
Дом на воде
Отец. Беспокойные ритмы
Об отце надо мне рассказать особо, потому что именно он, вернее, его внезапное распыление в пространстве и времени, было причиной бюрократической болезни, которая поразила меня еще до моей смерти.
Был он краснодеревщиком, ремесленной элитой, почти художником, и того, как раз, цеха, к которому равно благожелательны ветра всех времен. По крайней мере, за свой достаток он мог быть спокоен при любом карауле.
В эпоху пчелиных новостроек и мебели, с ее стилем гладких поверхностей, экономных линий и комбайновой компактности – кресло-стол, откидная кровать, раздетые до рожков люстры, в эпоху строя и спортивной униформы, когда и сами дома, и одежда, и убранство квартир отличались только номерами инвентарных бирок, отец и его бригада делали на заказ барочную мебель, и отбоя от этих заказов не было. Объяснить этот парадокс мог бы, наверное, суд, если бы линзы его не были настроены на другие объекты. А только я с детства усвоил, что не всякая видимая жизнь – видимая, и даже в советском равнинном равенстве существуют оазисы неподотчетной роскоши.
Сначала строили из дуба, потом из ореха, сначала только с гнутыми ножками, вьющимися стеблями и плотно отобедавшими купидонами; но заказчик борзел, наливался, требовались уже венки, раковины, тяжелые фестоны, в которых при переносе света играли бы итальянские тени, картуши, то с самодельным гербом, то с латинским изречением, в котором жизнь представала sub specie aeternitatis[1]. Сами эти вечные формулы, напоминающие свежие эпитафии, заказчики брали из словаря иностранных слов, который как раз тогда вышел.
Отец мыслил гарнитурами, даже интерьерами, потому что помню, как ругался с кем-то по телефону и, кипятясь, доказывал, что жаккардовая ткань отправит в могилу весь замысел и что нельзя злоупотреблять венецианской штукатуркой. С годами он сам становился похож на свою мебель, особенно если иметь в виду изначальный смысл слова – легко двигающийся. Я помню его еще банкеткой, консольным столиком с газельими ножками, которые легко могли перенести его к окну или остановить в центре комнаты. Напиваясь, он грузнел от наполнявшего его и не умеющего найти выражение смысла. Тогда отец напоминал сундук со спинкой и локотниками или вздутый комод. Животик уже проявился к тому времени и жил как независимая субстанция, вступая с хозяином то и дело в философскую перебранку.
Лицо отца горело, оно было сделано из глазета с золотым личным утоком, роль которого исполняла разбегающаяся сеть мелких морщин. Только северные, ручьистые глаза никак не приживались на этом лице, и мелкий сиплый говор башибузучничал в плодоносной и самодовольной спальне Людовика Четырнадцатого.
Больше всего нравился он мне кабинетом-секретером с маленькими ящичками и откидной доской для письма. Именно бывая кабинетом, он в мае, например, вывертом из-за спины протягивал мне на прямой ладони загоревшую с одного края грущу (кто сейчас поймет цену этого подарка?), а потом снова таинственно закрывался, становился суров, даже угрюм, но мне казалось, я слышал, как и тогда продолжало булькать в нем счастье. В эти моменты я прощал ему зловредное обращение «Кистинтин», которое в других случаях сводило меня с ума.
В своем ремесле он был жадным путешественником, цель которого не добыча, а освоение пространств. Возглавляя бригаду столяров, отец постепенно переквалифицировался в резчика, сделал несколько китайских росписей по черному лаку, потом занялся интарсией, почему-то предпочитая это слово французскому маркетри, при слове же инкрустация его одолевала зубная боль. К словам он относился как коллекционер, в тайну его пристрастий проникнуть было невозможно.
В конце он увлекся стилем Буль, неизвестно где отыскивая черное дерево, слоновую кость, перламутр, черепаховые панцири, учился огненному золочению бронзы – это был высший взлет и одновременно тупик его вдохновенья; он ненавидел свою работу, ненавидел толстосумых заказчиков, которых именовал «иезуитами»; ум его в эту пору не то что повредился, но стал питаться самим собой и слабо реагировал на окружающее.
Беспокойные ритмы, кривые линии, всю эта хитровязь природы, которая отзывалась узорам его души, отец превращал в остановленное мгновенье, не копировал, но строгал и выклеивал собственные сны, в которых больше было тревожной и влюбленной наблюдательности, чем своеволия. Не робеющее поклонение, конечно, но ведь и не бессмысленное соперничество с природой. Боже упаси, он был всё, что угодно, но не глуп.
Заказчики его были, напротив, именно в этом пункте бесхитростно тщеславны, глупы, не в житейском, а в каком-то метафизическом смысле, где уж я не знаю, как это и называется, потому что речь не о недостатке ума, а о его качестве. Сказать ли просто? Мне кажется, они не догадывались о смерти, в то время как отец жил с ней рядом и, может быть, даже по-своему ее любил. Как это у молодого Пушкина: «Я видел гроб; открылась дверь его: Туда, туда моя надежда полетела…».
Вслед за своим французским патроном, заказчики, сплошь партийные баритоны, не признавали иных границ, кроме собственной воли, и фантазии отца, плюс то, что они могли их купить, поддерживали в них иллюзию власти уже не только над людьми, но над природой и временем. Синдром опять же пушкинской старухи. Только шествие гробов главных лиц по главной площади страны могло их хотя бы на время отрезвить, но до этого впечатляющего парада было далеко.
Геометрия взбунтовалась
Всё это не могло не отзываться в отце глубокой оскорбленностью, которая проявлялась обычно в волшебном пьянстве, чтении стихов и судорожных попытках купить дом на Ладоге или Онеге, для чего он срывался иногда по звонку среди ночи и пропадал на несколько дней. Семейные скандалы стали рутиной, отцовская греза стучалась к нам в сердца с прихотливой, возвышенной и часто липкой артикуляцией, доверия к ней не было, в доме жить стало неспособно, а я был еще совсем маленький и тоже начал поневоле мечтать.
Может быть, дело было не в этом, а в чем-то другом или в третьем, это ведь никому неизвестно. Отец, выражаясь сленгом тех лет, искал себя, мама, в отместку ему или тоже несомая поветрием, пустилась в собственный поиск, пути их шли разными колеями, но трагически пересекались в квартире, и от этого нарушения логики, геометрия взбунтовалась.
Почему люди так далеко уклонились от распоряжений природы? Только у них пора брачных игр продолжается после свадеб и деторождения, становится даже еще более изобретательной, разгорается от препятствий и продолжается иногда вплоть до полного изнеможения организма. Птица все же сначала ставит на крыло птенца, тюлениха выкармливает потомство, прежде чем сигануть за сотни миль куда-нибудь к Фолклендам в поисках нового счастья. Лососи и вовсе отдают себя на съедение малькам. А ни у кого из них нет, между прочим, ни образа Божия, ни святых мощей, ни юридического толковища о свободе воли. Почему так получилось, что наши воображение и возможности вступили в кровавый конфликт с первоначальной программой?
Впрочем, что я говорю? Мне в этом вопросе надо бы замолчать первому.
Мама вдруг увлеклась танцами. Не «вдруг», конечно. Всё детство она положила на балет, училась преодолевать тяготение. Сохранилась фотография: девочка в пачке парит перед удивленным кустом жасмина, голова ее в аккуратной корзиночке волос повернута к нам, – улетает домашний ангел, нездешнее озорство, прощальный снимок, улетает навсегда. Маленькая собачка до старости щенок весело бросилась за ее пяткой. Последней поймет: нет больше хозяйки, улетела, всё. Услада семьи.
Эта фотография всегда стояла у мамы на этажерке.
В Вагановское ее не приняли из-за висячих коленок. Но подъем, прыжок, но шаг, говорили, да, звезды шарахаются, такой шаг, если бы не висячие коленки. И еще рост. Обещает быть выше нормы.
Селекционный отбор мама не прошла, хотя тут же прекратила расти, показывая тем самым, на какие жертвы готова была ради искусства. Печально, когда такая самоотверженность оказывается невостребованной, это может убить любую мечту, веру в людей, если не в жизнь. Но, вероятно, все же не может.
Мама танцевала чардаш, и венгерку, и русскую плясовую в Доме культуры профсоюзов. Перед областным концертом – так даже ночами. А потом гастроли по трудовым коллективам, музыкальный фестиваль в Костомукше, знакомство с Народным театром Англии, цветы и дипломы – дома валилась в постель без ужина.
В пять утра подъем, на почту, ветераны писали жалобы в ЦК: почему, разлепив утром не прыгливые уже веки, бегут они по знакомой с детства лестнице за глотком последних партийных новостей, как к кислородной подушке, и обнаруживают ящики пустыми? Каждый день живут, можно сказать, как последний, а и тот в условиях саботажа им не мил. После этого их стали уважать еще больше. Поэтому, не спи почтальон, надевай на пальчик пупырчатую резинку, листай, сортируй и вперед по гробовым улицам, чтобы успеть к первому завтраку ветерана.
Мама относилась к своей работе весело, ноги легкие. Вечером тем более – снова чардаш, полька, краковяк; разноцветные ленты, лайковые сапожки, пылающие лица партнеров. И дома она ни секунды не сидела на месте, продолжала танцевать. Круглое лицо ее, какое бывает у молодых поварих, оставляло после себя в комнатах световую дорожку. Во мне мешались досада и восторг, как будто я наблюдал карнавал из-за садовой ограды.
Вдохновение искусства и вдохновение любви питаются, видимо, из одних живых и мертвых источников, только вот осложнения после этого разные, и, главное, такая путаница. Не только в голове зрителя, между прочим, но и у самого участника. Ничье сердце не признается своему взволнованному обладателю, что именно привело его в великое смятение: достоинство предмета любви или его двойничество с шедевром, разбудившие генетическую память ритмы танцев или дыхание и мускулистое объятие партнера? Для самого носителя экстаза это, конечно, квазипроблема, а наблюдатель, напротив, очень даже, бывает, настойчив в смысле прикосновения к правде. Отец трагически сомневался, что лицо мамы светится вдохновением одного только искусства.
Маминым партнером по танцам был Аркадий И. Ващин, который запомнился мне не только смоляными волосами и тем, что скосил один глаз и по-офицерски боднул каблук о каблук, когда мама нас знакомила, но и тем, что был на голову выше папы, так выгодно выше, что я едва не заплакал. Отец сразу его не полюбил. Кому приятно смотреть на другого снизу вверх? К тому же мама и во сне продолжала танцевать с этим красавцем и с несвойственной ей требовательностью шептала в ухо папе: «Какаша, здесь нежнее!» Тут и менее злобивый человек мог за сутки превратиться в мизантропа. С каждой новой маминой гастролью отец запивал. Он пел и плакал, хохотал, пугая младенцев, которых сам тут же успокаивал вымышленной колыбельной:
Угу-люлю, тебя люблю.Коты и люди тебя любят.И стакан, и подстаканникза тобою поскакали.Молока наливают,доброй ночи желают.И звезду кладут в кровать,до которой не достать.Всё казалось ему одушевленным – деревья, кошки, муравьи, со всеми он заговаривал, делясь остроумными, как ему казалось, наблюдениями над тщетой красоты и безнадежностью смысла. В своем пьяном антропоморфизме он доходил иногда до экстаза почти религиозного, чем страшно меня пугал.
«Мы не понимаем? – пытал он вождя муравьев, пересадив того к себе на ладонь. – И мы не понимаем. Спрашивай, гордый человек». Схватив в саду за рукав проходившего мимо старичка с шахматной доской, наставлял его по-соседски: «Через все деревья пропущен ток. С ножом – кору там, веточку – ни-ни! И внукам скажи. Ударит».
На пустыре отец непременно ввязывался в футбол, предварительно бросив в пыль рубашку. Победно неся перед собой животик, играл он виртуозно, это все знали, поэтому ему были рады. Если приходилось забить гол, отец тут же начинал одеваться и, злясь на свой недавний азарт, говорил: «Я не нарочно. Это фукс, Алешка! Честное советское!» И еще долго бормотал себе под нос: «Бессмысленное ты существо, Иван».
Дома пластинка переворачивалась: отец кричал, выговаривал всему, что попадется под руку, в первую очередь, мне, временами впадал в малодушное, патетическое отчаянье и то и дело срывался на слезы.
– Кистинтин, подай глаза! – кричал в поисках очков. – Где мать? Не шепелявь! Ну-ка, подойди ближе. Улыбнись мне как родному. Что это у тебя с зубами?
Он залезал мне футбольным пальцем в рот, потом им же в рот себе, сверял. Вербные глазки его теряли всякое выражение, веки мелко дрожали, сопровождая крайнюю внутреннюю сосредоточенность.
– Иди к черту! – кричал я и вырывался из его нецепких рук.