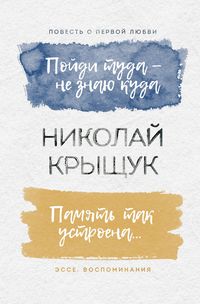Полная версия
Ваша жизнь больше не прекрасна
– Они в положение человека не входят. Если им не дать в руку.
– В лапу, бабуля, – поправил ее младший, отпав от арбуза.
– Ну, я и говорю, что надо… Муки для блинов купили?
Меня огорчила эта их будничная деловитость – речь ведь идет отчасти о духовном происшествии. Как будто не я, а они только что завершили дело жизни и теперь отдыхают в марципановой крошке.
– Что это вы все расслабились? – кричу.
– Батя, тебя чего так колотит? Прямо как Матросов…
– Может быть, вы уже и гроб заказали?
– С этим проблема. Пока все деньги на водку ушли. Обещали Максимовы.
– Ну да, у нас так обычно – сначала покупаем водку, потом заказываем гроб. Дайте выпить, что ли!
После первой бутылки я понял, что водка не берет. Что-то такое бывало и при жизни, но тогда я относил это на счет эйфории организма, мобилизованного, приблизительно говоря, удачным контактом с космосом. Тогда организм, удивляясь себе и длящемуся контакту, пьет еще, еще и опять не пьянеет. Тут в нем восстает прежде не заявлявшая о себе гордость. Он выпивает снова, то ли для того, чтобы утвердить, по Кириллову, свое превосходство перед Богом, то ли, напротив, чтобы сойтись с ним ближе. В конечном счете, организм обнаруживает себя в другой поре суток, с плохо регулируемым чувством тоски и оскоминой миновавшего вдохновения.
Но у меня-то ведь теперь другая ситуация. Вероятно, я просто превратился в продырявленный сосуд – еще одна метафора посмертного существования. Немного хотелось философствовать, но это в моем положении было как раз более чем понятно.
– Вот тебе сюжет, – сказал я жене, – человек всю жизнь выращивал синий помидор. Вырастил. И что?
Уличный фонарь качался прямо за головой жены, поэтому казалось, что качается сама голова, скача по мне своей тенью. Это создавало ощущение нервного молчаливого разговора. Я подумал о маме, к которой не успел зайти ни перед смертью, ни после. Сколько вообще долгов оставил я в ушедшей уже от меня жизни!
Жена смотрела мимо. Я видел ее чистый, не постаревший лоб и изящный носик, похожий на перевернутую запятую. Близкий уже к состоянию гордости собой, выпил еще рюмку.
– Помнишь, зять умершую тещу положил в гробу на бок, чтобы она не храпела? – вспомнил я старый анекдот и первым засмеялся. Хотелось как-то подбодрить совсем поникшую жену, включить, так сказать, нашу печальную повесть в контекст светского порожняка. Рано или поздно все равно это произойдет, почему бы не мне первому проявить инициативу?
– Анекдот эпохи бараков? – сквозь невидимые слезы спросила жена. – Боже, как все переменилось! Клопы, и те вымерли. Скажи, у тебя что – совсем ничего святого?
– Дорогая, обо мне полагается говорить в прошедшем времени.
– Шут, – сказала жена.
– При чем здесь вообще идеалы? Как ты до сих пор не поняла! Буквально ничему не научили тебя наши разговоры до утра.
– В них было больше стихов, чем дела. Не говоря уже о деньгах, – заметила моя милая.
– Правильно. Согласен. – Я вдруг разгорячился, что проявилось в непроизвольном принятии еще одной рюмки. – Был такой грех. Но ведь сколько уже после этого было съедено и выпито горького.
Жена нервно захохотала, но меня теперь несло – свет истины, как бывало уже не раз, бил мне в глаза.
– Не надо только ни на что намекать, – шепотом, чтобы не разбудить детей, закричал я. – Тем более запоздало. К тому же я, при всех пороках, никогда не пренебрегал своими семейными обязанностями.
– Даже когда ушел ночью собирать землянику и забыл меня одну на платформе, а сам заснул под каким-то там кустом?
– Но я ведь заснул, я ведь заснул! Как же можно спрашивать с человека, который заснул?! А ты сейчас специально про все это, чтобы не услышать того важного, что я хочу сказать. А я тебе, если хочешь, вот что скажу: гипертрофия возвышенного всегда ведет к гипертрофической низости и, если хочешь, к аморализму.
– Не хочу, – сказала жена.
– Ну вот, ты опять! Что ты вяжешься к словам? Никто не хочет. Но таков закон. И именно так мы прожили большую часть своей жизни – головой в облаках, а ступнями в дерьме.
– Боже, как красиво! Если бы только ступнями…
– Не надо, не надо только представлять все так, как будто я тебе друг Кирсанов, а ты всю жизнь занималась анатомией. Все отдали дань. И было время, когда тебе это нравилось.
– К сожалению.
– Так ведь и я о том. Но я еще при жизни успел спуститься на землю. И я старался не брать на себя больше, чем мог, но зато то, что умел, делал честно. И мне сейчас ближе всех великих и героических афоризмов надпись на писсуаре: «Не будь самонадеян – подойди ближе». Это, если хочешь, мой девиз.
Симфония небывалого воздуха вплыла в мою душу. Много лет я искал инструмент волшебного звучания. Жалейка? Флейта? Бандура? Однажды включил телевизор – играл симфонический оркестр. Вот. Коллективное бессознательное.
Я стою в саду. Вокруг меня сырая, уже обносившаяся осень. Небо, откупившись птицами, погасило синеву и спит. Мамонты шумно бредут куда-то в сторону бывшего ипподрома. Зеленый рак в окне пивной поднял клешни вверх и замер. Хозяйка обтирает его тряпкой, успокаивает. Тяжело мерцающая Фонтанка вдруг изогнулась около Свято-Троицкого собора и потекла мимо его голубых гуашевых куполов.
Припозднившаяся девочка стоит в другом конце сада и ждет, когда пройдут мамонты. В ее коленях дрожит восторженная газель. Она без пальто, в коротком платьице, как будто вышла на минутку с мусорным ведром, пока остывает чай. То и дело откидывает мешающую ей смотреть на меня челку. Я подбрасываю ногой сырно пахнущие листья, пытаюсь справиться со слезящимися от долгого смотрения глазами. Мамонты не злые, но их поход бесконечен. Нам с девочкой не встретиться никогда.
Темнеет.
Потом, помню, я заболел, как провалился в вату. Иногда выныривал и пел: «Есть море, в котором я плыл и тонул и на берег выбрался – к счастью». «К счастью» было не вводным словом, а неким существом, которое ждало меня на берегу. К нему я и выбрался. Не уверен, что это была женщина. Может быть, фисгармония производства «Циммерман», которая стояла у соседей и которую я безуспешно клянчил у мамы. Я любил светлого дерева виноград над ее клавишами, вращающиеся подсвечники и звук, одухотворенный астмой. Когда ее основание заметно источили жучки, она на ковре, через длинный барачный коридор перебралась, наконец, в мой угол.
Бурно и любовно я овладевал ее тайнами, вдохновенным слухом преображал в чистоту звучания поврежденные звуки. Старенький инструмент трудился вместе со мной, страдая об утерянном совершенстве. Отец заливал микроскопические норы жучков остро пахнущим раствором, но через какое-то время узорчатая труха, сохраняющая первоначальную форму деталей, вновь оживала. Однако и при этом смертельном недуге фисгармония вела себя мужественно и как настоящий музыкант продолжала служить искусству. Мы достигли с ней небывалых высот, не выходя из-за вишневой занавески, объездили с гастролями весь мир, где нас неизменно встречал успех и слезы восторга. Годам к четырнадцати, когда я почувствовал себя мастером, готовым выйти к настоящей публике, моя подруга умерла.
А девочка – неужели ждет? Вон уже снег выпал. Мамонты раздувают хоботами костры или спят на ипподроме, до которого нам с мамой так и не удалось дойти.
Приговором моей ненародившейся любви были голоса дикторов. Стоило мне услышать: «В 19.20 – радиоспектакль “Ты меня на войну провожала”» или «В кинотеатре “Победа” смотрите фильм “Дорогое мое чудовище”», и я понимал: никто не звал меня, чтобы я родился. И я, кому почему-то казалось, что его звали, настолько смешон и глуп, что у серьезных людей могу вызывать только презрение.
Я первым вдохновенно начинал вызывать в себе это к себе презрение. Одновременно с ним и уже непроизвольно возникала жалость. Для демонического высокомерия и отрешенности дух еще не созрел, но они витали где-то рядом. Однако, как бы все это не разрешилось, с девочкой из сада мы уже никогда хорошо не встретимся, потому что я отравлен. Я это понимал.
В комнате темно. У меня температура. Тени кактусов на занавеске – высокий тропический лес. По нему ползают божьи коровки, огромные, как черепахи. Сейчас с улицы на подоконник вкатится маленький уличный троллейбус, обронит на пол лиловые искры, я схвачу со стола тряпку и буду гасить их.
Через несколько лет я встречу эту девочку и в подростковом мистицизме решу, что она ждала меня все эти годы, не желая вырастать и храня себя для певца и создателя…
– Ладно, – сказал я, – лишь бы со всей это мусульманской братией договориться. Иначе никто не дотянет до оледенения.
И вдруг заплакал.
Жена сидела напротив и улыбалась внимательно, будто видела что-то поразившее ее, что происходило за моей спиной, на другом берегу. Ее печаль была продолжительнее, чем моя.
– Можно, я буду приходить к тебе по четным дням? – спросил я. – Или ты предпочитаешь по нечетным?
Утренний звонок
Пьянство очень все же отвлекает от личной жизни. Первое, что представилось мне, когда я проснулся, – Верхняя Вольта, утыканная ракетами. Даром что африканцы, а все как у нас. Все почему-то недовольны и сами с собой не могут договориться. Распускают Национальное собрание, потом снова его собирают, затем снова распускают. Отменяют конституцию, потом, опомнившись, восстанавливают, но при этом запрещают все политические партии…
И что, казалось бы, – козы и барашки пасутся на волнистых плато, климат экваториально-муссонный, арахиса, как у нас репейника, и поливать не надо…
Не пойму, откуда в моем мозгу возникло сразу столько необязательных сведений? Так же, как и то, почему на столе у меня лежит русско-молдавский разговорник на латинице. На миг показалось даже, что именно это обстоятельство и было предзнаменованием мрачного события, которое произошло вчера. Будто этот разговорник попал ко мне из того времени, когда дружбы народов у нас было больше, чем магазинов, а в обкомы набирали исключительно немых ребят.
Собственная же ситуация меня как будто вовсе уже не волновала. Вот то, что я пережил такое количество американских президентов, – да! Это как же они состязались в свободном мире, сколько извирались, людоедствовали, интриговали, умирали!.. А я все жил в тишине своего непорочного государства, иногда только отвлекаясь на стоны и выкрики моих более доблестных, но почему-то душевно не близких собратьев. Все, так или иначе, творили историю, в то время как я, примерно, варил кашу. Одни давно уже и вполне помпезно попрощались, другие в политическом забвении пересчитывают нажитое. Я же, глядевший в щелку на их неплохо организованный базар, вот он, только-только ступил на последнюю дорогу. Но кому придет теперь в голову вспомнить меня? Ни Карибского кризиса за мной, ни трактата о конвергенции, ни «Будденброков», ни лагерей, ни самосожжения. Посчастливилось бы, на худой момент, наткнуться на останки Атлантиды или раскопать Трою, однако и эта удача прошла мимо. Вот во что, выходит, обошлось мне мое презрение к деятелям жизни.
Комната напоминала просторный склеп фараона, но без скарба и провизии, необходимой для вечного путешествия. Был бы лимон или стакан пива. Без меня, конечно, никто об этом не позаботился. Жена, вероятно, стояла уже на углу Гостиного и созывала ошеломленных туристской гонкой на обзорную экскурсию. Скатерть на столе пахла общественной столовой, через которую каждый день проходили ненасытные народы. Уют жене только снился, взгляд ее всегда был устремлен к людям. Надолго загипнотизировали нас походные костры и хоровое пенье, которые мы так любили в юности.
Ни лимона, ни пива. Дети спали в позе титанов, прогуливали школу на законном основании. Я опять остался один.
Но в этот момент зазвонил телефон.
В трубке был женский плач. Я помнил его еще с тех пор, когда все деревья были большими. Это был плач соседской хозяйки в поселке Дудергоф, где мы снимали дачу.
Меня привозили на дачу рано, когда пена сирени поднималась на глазах и пышно выпадала за ограду. Я задыхался от этого зрелища. Теперь мне кажется, что это был первый мой опыт общения с алкоголем или, быть может, первый опыт любви.
Постепенно сирень взрослела, начинала горделиво подставлять груди неожиданно выпавшему дождю, заглядывала, таращась, в глаза. Потом опоминалась, уходила в себя, вальяжничала и в конце концов медленно осыпалась поржавевшими звездочками на совсем еще молодую, попионерски напрягшуюся траву. Я всегда пропускал этот момент, потому что задолго до него сирень становилась мне не интересна.
Выпавшие птенцы пищали о милости. Я поднимал с земли эти по-рентгеновски незащищенные, с короткой, как бы послетифозной опушкой существа, поднимал с брезгливостью, жалостью, страхом и переносил на стол в беседке.
Воздух вечерами волокнился и клубился, как льдинки в сиропе. Быстро холодало. Мама занимала меня оладушками со сгущенкой, а Фаина Николавна в это время плакала на веранде, пеняя мужу-биологу, что от него пахнет неизвестными духами. Тот смеялся, уверял, что это формалин и что не сегодня-завтра они найдут секрет искусственного оплодотворения, в свете чего ревность перестанет существовать как факт. При этом Игорь Николаевич то и дело подливал себе в маленькую рюмку водки и расстегивал одну за другой пуговицы рубашки.
Я завидовал увлекательной жизни соседа, в которой ничего не смыслил.
Иногда Игорь Николаевич заходил на нашу половину дома, смотрел на нас с мамой серо-зелеными, раскрашенными водкой глазами, что-то искал в светлой бородке и вдруг говорил:
– Ах, простите, я забыл, что вы оба не курите.
От оладушков он отказывался, изысканно и непреклонно, как от дорогого подарка, и тихо, не поворачиваясь к нам спиной, уходил. А мама еще долго сама себе усмехалась, расточительно заливая мои оладьи сгущенкой.
Все эти воспоминания пронеслись во мне в одну секунду, как только я услышал в трубке плач Фаины Николавны. Сколько прошло!
Игорь Николаевич не решил, конечно, задачу искусственного возникновения жизни, но на пути к ней открыл многое, хотя и не поднялся, кажется, выше доктора наук.
И вот звонок.
– Фаина Николавна, я узнал вас. Что случилось?
– Игорь Николаевич, – всхлипнуло и зарыдало в трубке. – Костик…
Я вспомнил не к месту, что с годами у Фаины Николавны появились удивительные ямочки при локтях – в каждую можно было положить по сливе. И веселый, блуждающий взгляд, миновав пору бесчинств и ошибок, превратился в скорбно влюбленный взгляд верной спутницы великого человека, которая одна знает и способна заплатить цену его успеха. Глаза ее при этом стали часто моргать, как будто пытаясь вернуть утерянную картинку мира. Следствие катаракты. Но губы до сих пор производили непереводимую улыбку, а закаменевшая под лаком прическа-взрыв не обещала прощения.
– Костик, ты ведь скажешь на его уход свое, м-м-м, неординарное, прочувствованное слово. Я не представляю, чтобы он ушел без этого.
К патетической чувствительности вдов я привык, как к туалетной бумаге (простите). Профессия, увы, на каждом оставляет свой отпечаток (хочется сказать: пальцев; опущу). Но Игоря Николаевича я действительно жалел. Мне казалось, что и после моей смерти он будет сщелкивать с волос и с плеч слепых мотыльков, улыбаться, как улыбаются рыбаки после улова, и подливать в рюмку водки. Похоже, это немного примиряло меня с неизбежным концом, о котором я, конечно, имел тогда приблизительное представление. Как все кумиры детства, Игорь Николаевич был бессмертным.
– Фаина Николавна, я вам очень сочувствую. А Игорь Николаевич… Это даже не произнести. Какой ужас! Мне казалось, он должен был уйти позже всех нас или совсем не уходить. Ему так шла эта жизнь.
Что я несу, Господи?!
– Ну конечно, Костик! Вот именно – об этом. Только ты это сумеешь.
Рыдания становились невыносимыми. Они падали в трубку мелкими порциями кефира, и конца им не предвиделось.
– Но выполнить вашу просьбу мне, к сожалению, не удастся. Дело в том… как бы это поточнее… я тоже в некотором роде… уже отсутствую.
Ах, как не хватало лимона и пива, чтобы обрести ясность и мужественность речи. Что же могло быть проще того сообщения, которое я вынужден был сделать? Но в моих онемевших устах оно звучало фальшиво, не сомневаюсь. Даже эта, последняя из презентаций мне не давалась.
– Костик! Что за ненужные отговорки? В такой ситуации! – в голосе Фаины Николавны появились нотки хоть еще и надрывные, но уже переходящие отчасти в борзый лай – она явно овладевала ситуацией. – Взгляд… его взгляд… Он всегда был не с нами. В какую-то даль всегда уходил его взгляд, будто (не знаю, поймешь ли ты?) что-то искал на постоялом дворе марсианина. Даже я не всегда умела проследить за его ублудившимся взглядом. Ты пойми, он ведь был единственным из ученых, кто верил в существование души.
– От чего он умер?
– От защемления грыжи. Всё искали повторного инфаркта, а он умер от защемления грыжи. Как всегда у него – неожиданно и парадоксально.
Поверите ли, что этот прозаический диагноз нанес мне глубочайшую обиду? В свои семьдесят три года Игорь Николаевич должен был решиться на первый прыжок с парашютом и погибнуть в свободном полете от разрыва сердца – не меньше. Не мог он так бесславно кончить. На миг мне показалось даже, что всё это козни Фаины Николавны.
Я воспитан в пугливом почтении перед медицинской латынью. В сочетании с плебейской гордыней – смехотворно-опасная смесь. Недели за три до моей смерти доктор Степан Павлович, с мшистыми бровями, поставил мне диагноз: артрозо-артрит. Содрогнувшись от предчувствия неизбежного, я посмотрел на него с невероятной твердостью и спросил: – А если серьезно?
В трубке рыдало:
– И вот это безвременное, безвременное… К тому же, он так тебя любил.
«Это я любил его так, – захотелось сказать мне, – а он любил мою маму».
Степан Павлович был платным врачом, поэтому не только обходительным, но и расточительным, за мой счет. Он тут же прописал мне рентген, массаж, академическую мазь, УВЧ и УФО (лет двадцать назад я непременно прибавил бы: а также Дефо, Ду Фу и Басё). Я принялся откладывать деньги.
– Фаина Николаевна, но я ведь тоже не спешил, знаете, к этому… последнему пределу. В сущности, преждевременная неприятность, к тому же финансово необеспеченная.
– Ах… Ну конечно, какие разговоры! Я заплачу. Хотя он к тебе так хорошо относился.
Фаина Николавна была женщиной приятной во всех отношениях, кроме тех, в которых была превосходна. К последним относилось ее безукоризненное чувство ситуации. Но горе сбивает, видимо, даже природную настройку организма. На этот раз она поняла меня превратно.
– Да я ведь вам говорю, что меня нет. Не похороны же вы мои собираетесь оплачивать!
– Что, что похороны! Это все пустяки. Ритуал для чужих, Костик. А он был таким верным, неистовым и трудным человеком.
Она внятно надиктовывала мне конспект радионекролога. Человек я терпимый, может быть, даже слишком, но профессия есть профессия.
– Я позвоню вам с радио.
– Костик… Костик… Он ведь говорил, что самая малюсенькая клетка содержит в себе больше четверти миллиона молекул. Как это умещалось в одном мозгу?
Все это я почему-то сразу перевел на рубли, как, не сомневаюсь, и Фаина Николавна. И повесил трубку.
В ожидании Суда Небесного.
У меня появляется надежда (хм!)
Птицы давно проснулись и шныряли у земли в поисках второго завтрака. Я как всегда опоздал. Небо было отмыто до чистоты Юоновой лазури, которая стала почти звуком. Уши заложило, глаза слезились от слепящего грохота и блеска. Из «Салона красоты» вышел мужчина в живой пыжиковой шапке и недоверчиво посмотрел на меня.
Дом с пилястрами на этом празднике весны выглядел непрезентабельно, как станционный смотритель, некстати приехавший в гости к дочери. Бросалось в глаза, что он стар, немного кособок, и давно нуждается в ремонте, который, как тут же выяснилось, и шел полным ходом. Народ, всегда в межсезонье одетый пестро, волновался у негостеприимно распахнутой двери. Окурки в лужах сопротивлялись легкому бризу, и казалось, что плыли. Митинг был в разгаре.
– Только так говорится: счастливо и в один день, – вскрикнула старушка и почти упала в подмышку своего мужа. Пальто «летучая мышь» обвисло на ней, седая головка в малиновой шляпке и пальцы, скребущие сумку, едва из него выглядывали. – И зачем ты за мной пошел, Гриша?
– Не плач, Фрося, – высокий старик наклонился над спутницей жизни. – Душу мне царапают твои слезы.
– Ну что же это, и после смерти пороги обивать?
– Мы и здесь, Фрося, вместе. – У старика было худое умное лицо, которое, быть может, только вчера утратило свою четкость.
– Безобразие! – сказала неопределенного возраста дама, зарделась и дунула на траурную мушиную вуальку. – Они полагают, что с мертвецами можно поступать, как с покойниками. – В ответ на этот провокационный возглас люди заговорили разом и неразборчиво. Голова каждого была окружена утренним светящимся нимбом; вместе они образовывали конструкцию опасного нагревательного прибора в прозрачном корпусе.
Душа моя, обычно откликавшаяся движению толпы, на этот раз осталась безучастна. Вопреки очевидному я был уверен, что меня ждут.
Проникнув самым нечувствительным образом сквозь скорбную группу, по доскам, проложенным через мартовскую бездну, я вошел в гулкий предбанник. Девушка в газетной пилотке, повернулась ко мне от мешка с цементом:
– Еще ВИП пожаловал. В то окошечко, гражданин. Если, конечно, вам положено.
Я направился к народному окошку, которое, как все такие окошки, было закрыто, и уже хотел было постучать, но та же девушка остановила меня:
– Звоните. Кнопка справа. Звоните. ВИП, а не знает. Что за люди? Или ты по блату?
До чего живуча классовая недоверчивость, подумал я, и одновременно готовность установить фамильярный контакт, за которым следует то же классовое верховенство. Щеки у девушки были ярко-кирпичные, как будто до возни с цементом она разбивала в печке прогоревшие поленья. Вызывающие щеки и улыбка заядлой маевщицы; наверняка после первой рюмки она изменяла направление своего общественного темперамента, тащила танцевать того, кто попадался под руку, чтобы при первом же волнующем сближении обнаружить в нем общность взглядов и интересов. В чем-то мы были похожи, но смерть всех делает чуть аристократичней.
– Вы могли бы оставить меня одного? – попросил я.
– Ой, ой, геморрой!
Легко подкинув ведро с цементом, она все же удалилась туда, где еще вчера я так, казалось, перспективно беседовал с Алевтиной Ивановной.
Над домофоном со знакомым мне профилем совы висела табличка: «Пункт реабилитации пострадавших от жизни». В формулировке чувствовался скрытый пафос, интонация хорошо оплаченной сердечности и явно преувеличенного представления об особой незащищенности номенклатурных лиц. Классовая непримиримость маевщицы была, конечно, реакцией на эту печатную интимность. Я нажал на кнопку.
– Оставьте ваши координаты, с вами свяжутся. У вас двадцать секунд.
С радостным волнением я узнал голос Алевтины Ивановны.
– Алевтина Ивановна, – закричал я в домофон, – это я, Костя! Константин Трушкин. Тоже Иванович. Мы с вами вчера не договорили. Я по личному делу. Мне нужно свидетельство о моей кончине. Помните? И, собственно… Если, конечно, у вас будет время…
– Спасибо, – прервал меня механический голос.
Меня не слышали. Это была не Алевтина Ивановна. Это была Алевтина Ивановна, но из компьютера, то есть разговаривала она не со мной, а вообще. А я с кем тогда говорил, перед кем, можно сказать, оголялся? Всегда так: когда просят вывернуть карманы, я начинаю изливать душу. Ничто ничего в человеке не меняет. Даже смерть. Глупо. Как будто шел с поющими птицами за пазухой, а попал на заседание трибунала.
Только тут я обратил внимание на список, который висел около домофона. Посетителю предлагалось сообщить о себе следующее: ФИО, имена трех поручителей, членство в партии (подпункт: сочувствующий), чем занимался в августе 91-го, отношение к воинской повинности, любимое увлечение, цвет, газета, музыка, женщина (в скобках: мужчина), литературный герой, время года. И в конце крупно: ДИАГНОЗ.
И все это за двадцать секунд? Мне давно казалось, что жизнь человека, даже самая долгая, может уместиться в короткий рассказ. Но чтобы такой спринт? Все люди, конечно, сестры, как любил на наших профессиональных и, в основном, женских вечеринках тостировать Тараблин, но не все при этом сестры таланта.
Однако я решил взять себя в руки. Никаких сантиментов и в то же время поблажек. Допрос? Извольте. Не в санаторий прошусь. Пока свободою горим и так далее.
Я снова нажал на кнопку и после приглашения Алевтины Ивановны начал выпускать обойму:
– Объясняю. Трушкин Константин Иванович. Поручители: Пушкин, Сахаров, Христос. Не состоял, не состою, не сочувствовал, не сочувствую. В августе 91-го боролся с крысами в городе Невельске. Отношение к воинской повинности отрицательное. Любимое увлечение: портвейн на природе. Цвет – желтый. Газета – в сортире и под обоями. Ария Фигаро. Женщина, которую люблю сейчас. Любимый герой – капитан Миронов. Время года – переходное. Диагноза не знаю. А вы?