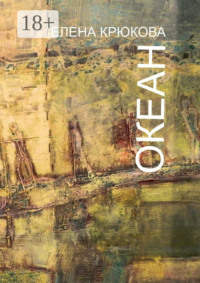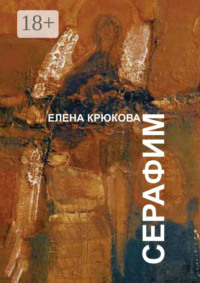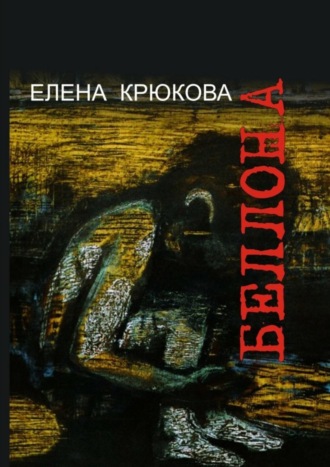
Полная версия
Беллона
И всегда стоял рядом кто-то, а может, стояла, кто протягивал руки к убитой земле и к корявому, страшному ребенку ее, и хрипел: дайте мне, я выращу, воспитаю.
И рос новый народ, безумный ребенок, и изо всех сил пытался стать умным, мертвой матери достойным; да не получалось.
И вырастал, повторяя чертами род, убитую мать и погибшего на старой войне отца, дедов и бабок, да ухватки были другие, да говор – другой! И, главное, сердце, сердце билось под арматурой ребер – другое. Ничего, никого нельзя повторить.
Земля свирепо и бешено летела под ногами, под животом Ажыкмаа, в таком батмане она парила в первый раз, глаза не успевали схватить и запомнить все, что билось внизу – вон они, россыпи городов и черные мухи забытых сел, ползущие по смертельной белизне полей, отроги и лощины, речные обрывы, баржи-самоходки и плывущие по бесконечным серебряным рыбам рельсов грохочущие коробчонки поездов, провода, сверкающие колким праздничным инеем, горы исковерканного железа на перегонах – вот авария, и еще одна, и еще, в ком одного дикого теста смешались кровавая плоть и железо, – рыжие сухие стволы сгоревшей по лету тайги, и вот перевалила Иртыш, вот прочертила могучую Обь, вот пересекла яростный Енисей, глаз Байкала сине, страшно, водяно мелькнул, опушенный мощными ресницами заснеженного кедрача, и Ажыкмаа скосила глаза: вот, вот она, ее родина! Ее горы!
Не успела она возрадоваться родине, как мощный нездешний воздух легко, насмехаясь над ней, беспомощной, перекатил ее, она перевернулась с боку на бок, такого сильного партнера у нее еще не было никогда, она удивилась, как просто можно станцевать жизнь, – и она полетела умалишенно и бесповоротно, неостановимо, вниз головой, туда, вниз, все ближе к земле, все ближе к настоящему, неподдельному, не снящемуся, а подлинному, не спящему, а пробужденному, – невоскресимо, погибельно, слишком быстро, слишком мгновенно.
…ощупать себя. Белый халат. «Да, это я. Халат не сняла. Значит, больница».
Но мало то, что гудело и лязгало вокруг, походило на больницу.
Хотя внутри дрожащей и пылающей тьмы здесь, мимо нее, двигались люди в белых халатах и даже в белых масках; и все это, судя по всему, были врачи.
Она слышала их голоса, как сквозь воду.
И что-то трещало рядом; будто дрова в печке.
– Истолька! Истолька! Истолька!
– Черт, опять заснула.
– Истолька! Пайка лишу! Кору дуба будешь жрать! Где ты! Ребят привезли! Мясо с костей сползает! Шить надо, а ты… где ты, черт тебя!
– Ну что ты так, Осип, ну притомилась баба, свалилась где-нибудь тут… за вещмешками… и спит на ящиках. А ты ее костеришь.
– Я не костерю! Я просто убью! Обеих! Ната! Ната!
Ажыкмаа широко раскрыла глаза, и они вобрали, втянули сутулую, в выпачканном кровью халате фигуру, потом другую, рядом, тоже в халате, да не в белом, а в мышино-сером, тоже обляпанном кровью, и в плечах пошире, статью помощнее, и оба мужика – в резиновых перчатках по локоть. И лица у них бледные, потные, дикие.
Стоят, как мясники. Только топоров в кулаках нет.
Да это же хирурги, догадалась Ажыкмаа, хирурги!
«Но не те, что мою дочку резали».
Сутулый, в круглых очках, сделал крупный рассерженный шаг к Ажыкмаа и встал слишком близко к ней. Напротив ее лица поднимались и опускались, под окровавленным халатом, его ребра. Так тяжело, умалишенно он дышал.
– Ната! Вот она где! Одну – нашел! Натка! Быстро к столу! Уснула, ишь ты! Бой идет, а она, черт, уснула!
Ажыкмаа поднялась с табурета, потрясенно заправляя волосы под белую сестринскую шапочку.
– У меня вся землянка госпитальная, ко всем чертям, под завязку ранеными забита!
– Но я не…
– Черт! Оправдываться будешь потом! К столу! Ассистируй! Я не шестирукий Шива!
Второй хирург, широкоплечий, хохотнул.
И все трое внезапно, резко присели, и затылки ладонями закрыли: ухнуло рядом. Близко!
Внутри хирургической землянки все сотряслось, потом звон в ушах утих, и жахнуло уже поодаль.
– За рекой, – сказал тот, что потолще. – Оська, валяй оперируй. Натку нашли. Теперь Истольку отыщем. Истолька! Истолька-а-а-а-а!
Ажыкмаа уже стояла, выпрямив жесткую спину, у операционного стола.
Да и не стол никакой это был. Поставленные друг да друга ящики; и на них сверху положены широкие доски; и на досках лежит человек. Не в военной форме. А она думала – солдат. Простой мужик. В гражданском, штатском пиджаке. И это ее, ее руки стаскивают с него пиджак, стягивают рубаху, обнажают простреленную грудь, умело готовят операционное поле к танцу скальпеля.
Вот он, со скальпелем в задранных высоко, будто молится, руках. В маске. Круглые птичьи очки. Из-под маски ругается. Взрывы. Чей-то крик вверх, над землянкой. Человека убили. Они здесь человека оперируют.
– Миша, они тут нам навезли черт знает сколько народу! Ну мы же не медсанбат!
Поправил очки выгибом запястья. Ажыкмаа протерла и залила спиртом адскую, глубокую, как пропасть в горах, колотую рану.
– Это его штыком?
– Черт знает чем. Ната, шевелись быстрей! Зажимы!
Ажыкмаа железной негнущейся рукой подала тому, кого звали Осип, два зажима. Он наложил их на сосуды. Она глядела, как это происходит, глядела и не видела. Все видела ее душа.
«Душа, эй, где ты? Сказки все про тебя. Это я, меня здесь зовут Ната, и я все вижу».
Она стояла рядом с хирургом во все время операции; Осип то ругался, то орал, то ласково бормотал: «Лигатурку… лигатурку, вот так-то!» – то один раз чуть не влепил Ажыкмаа пощечину, за то, что она сразу не подала ему иглу и кетгут. Неожиданно все кончилось, и невидимые руки подняли раненого со стола и унесли; она уж думала, все, можно отдохнуть, как на столе лежал новый раненый, и это был ребенок.
– Великий Тенгри, – прошептала Ажыкмаа: так всегда шептала ее бабушка.
Второй хирург отошел к рукомойнику. На его халате появились новые красные пятна.
– Не зевай! – крикнул хирург Осип. – Что спишь! Выспимся на том свете!
Она видела – он слишком бледен.
– Вам надо выпить, – твердо сказала Ажыкмаа. – Спирту. Хоть немножко. И вам станет легче.
– Спирту! – заорал Осип. Его круглые очки блеснули жутко. – Ты подумай, Михал Петрович! Она предлагает мне хлебнуть! И как я тогда буду оперировать?!
– Еще лучше, – железным голосом сказала Ажыкмаа.
– Ну ты, чертова калмычка, хрен с тобой. Наливай!
Ребенок лежал на досках, кричал и плакал. Ажыкмаа постаралась на время стать глухой. Она деревянной рукой налила хирургу Осипу в мензурку спирт и протянула ему на ладони, так в Туве дорогому гостю протягивают чашку с горячим зеленым чаем, где плавают сливки, жир, кусочки черемши.
Хирург выпил и утер губы рукавом.
– Ну и все тогда, – пробормотал, – теперь резану не туда. Давай! Обрабатывай поле! Быстро! Очень много крови потерял!
Резали; шили; прижигали; зажимали; подтирали; и опять резали и шили, шили. Адская кройка, великое шитье. Кто-то будет жить. Кто-то не выживет. Лотерея. Война – это тоже парк с аттракционами, и крутится чертово колесо, и попугай вытягивает билеты из горы мусора. Кому – счастливый. Кому – смерть.
Глаза лежащего перед Ажыкмаа на хирургическом столе ребенка закатились под веки, он смешно, куриным клювиком, открыл рот; больше не кричал, не стонал. Это молчание испугало ее. Ребенок еще дышал.
– Умирает!
– Что ты так орешь, Ната. Успокойся. Просто давление падает. Сейчас кордиаминчик впрысну, кофеинчик – все будет прекрасно, не плачь. Мирово!
А разве она плакала?
Мокрые, стыдные щеки.
Щеки коснулась рука. Чужая. Резиновая. Осип не снял кровавую перчатку.
Отнял руку. На щеке алые полосы. Щека в крови.
Детская кровь. Детская.
– Ната, не падай! Мишка, держи ее!
Круглые очки горели, блестели. Слезились. Плавились.
Солдаты. Наши солдаты. Мирные жители. Раненые дети. Взяли город. Много людей перебили. И мы стреляли, и они. И мы бомбили, и они. Люди, что они такое? Мясо, фарш войны, а Тенгри ест этот кровавый, красный пирог и хохочет. Показывает белые, синие зубы. А город-то взяли. Взяли все равно. Город, он оживет потом, после войны, придут люди, выстроят новые дома, заселят их, переженятся, родят новых детей. Все новое! Жизнь новая! Туфельки новые, лаковые, с фабрики «Скороход»!
Дети умирают. Им страшно умирать. Они прожили на свете так мало. Слишком мало! Жизни всегда слишком мало, хоть тысячу лет живи! И старик умирает, а все жизни у Господа просит! А где ее найти, когда вся выпита? Но война, у нее острые зубы. Перемалывает и плоть, и кости.
Но душу ей не сгрызть. Душу!
Что такое душа? Сказки, сказки для деток на ночь. Нет души. Есть кровь, и, если она из тебя выльется вся, ты умрешь.
Лица бледнели и гасли и опять вспыхивали. Она слышала плохо. Уже очень плохо. И ничего не видела.
Есть душа. Ее тело – душа. Ее кости – душа. Ее танцевальные связки и сухожилия, растянутые до ужаса, до боли, – душа. Все падает, рушится. Меркнет. Исчезает – неумолимо, непоправимо. Истончается. Тает. Улетает.
И она летит. Так просто. Они еще кричат над ней. Она ребенок. Она только родилась, и перерезают пуповину, и закапывают в глаза альбуцид, все еще кричат, вопят: Ната! Ната! Ната! Очнись! И бьют по щекам. И сквозь зубы вливают спирт. Он безвкусный, но очень горячий. Жаркий. Он сжигает ей глотку навек.
Там, в землянке, и еще под открытым небом, в траншее, там лежит слишком много детей. Одни дети. Взрослых мало, а детей много. Лежат штабелями. Мерзлыми дровами. Плоскими досками. Их так много, что никакой Осип и никакой Мишка, и целый полк других хирургов не сможет, не успеет их прооперировать. Они все умрут. Умрут.
Воздух сгустился и поплыл между ее лицом и хохочущим ликом Тенгри, и глаза мертвого ребенка видели сквозь закрытые чужой красной резиновой рукой веки.
…все-таки влили ей в рот спирт, и обожгли язык и глотку, и она повернула голову и очнулась.
Очнулась на кушетке. Открыла глаза. Огромные окна, без занавесей, открывали голый разрушенный город – изъеденные бомбежками камни, кружевные, после артобстрелов, стены. В их окнах еще торчали стекла. А множество домов глядело пустыми глазницами. Глаза выбили.
Люди выбивали глаза людям и домам.
Люди расстреливали и взрывали людей и дома.
Дом – тоже человек; расстрелять его так просто.
Все так просто. Так…
– Фройляйн Инге, вы пришли в себя? Превосходно! Как вы сейчас?
Ажыкмаа изумленно спустила ноги с кушетки.
Ноги обтянуты фильдеперсовыми чулками.
Ноги в лаковых туфлях на каблуках. Лак потерся, потрескался на сгибах. Война.
– Я? – Ей пришлось заново вслушиваться в свой охрипший голос. – Спасибо, герр Штумпфеггер, мне уже лучше.
Подумала быстро и сказала бодро:
– Мне уже совсем хорошо.
– Ну вот и славно.
Врач в белом халате, в белой шапочке, она тоже в белом халате, только ткань без единого пятна крови. Все lege artis. Comme il faut. Дверь открыта настежь. Окно распахнуто. По комнате гуляет весенний ветер. Комната – ординаторская госпиталя. Они с доктором говорят на незнакомом языке, но она все понимает, и он тоже. Она догадывается: язык – немецкий, и она немка, и доктор немец. И это Берлин, а может, Кобленц.
А может, Дрезден. А может, Потсдам. А может, Росток. А может, Эссен. А может, Гамбург.
Руины. Развалины. Кружевные, на просвет, серые стены.
Война рядится в серые кружева. Модница.
Ажыкмаа проглотила слюну, загнала внутрь тошноту. На столе перед доктором Штумпфеггером, на стекле, лежала отрезанная ручка маленького ребенка. Кисть. Очень аккуратно отрезанная, и кровь аккуратно остановлена зажимами. Уже не кровит. Несколько капель на стекле, и все.
– Что…
Доктор опередил ее вопрос. Перехватил глазами ее глаза и насильно поднял их от детской отрезанной, будто лягушачьей лапки.
– Не волнуйтесь. Материал для научных изысканий. Младенец умер прямо на операционном столе. Фюрер будет доволен, если мы ему представим…
Доктор говорил старательно, четко и обильно, но она не слушала. Не слышала.
Встала, чуть пошатнулась на каблуках.
– Я готова.
– Прекрасно. Прошу!
Герр Штумпфеггер вежливо пропустил ее вперед себя, и она первой вышла в открытую дверь.
Это была работа. Пот тек по спине, как всегда, когда она работала в операционной. Она едва успевала поворачиваться. Кроме Штумпфеггера, в огромной операционной, устроенной в холле госпиталя, работали еще четыре опытных хирурга. Завывала сирена воздушной тревоги. Они никуда не уходили, продолжали работать. Резали, зашивали, зажимали, опять разрезали и снова шили. Каждодневный труд, ему их учили долго и старательно; и они старательно и долго учились, а теперь вот пришла война, и русские наступают, русские уже рядом, и у них сегодня, после двух налетов русской авиации, так много раненых, так много орущих, требующих жить детей и испускающих дух стариков. Старики устали жить. Устали от войны. Они проклинают Фюрера, что он все это с ними сотворил. Они проклинают себя, что родились в это время: чуть бы раньше или чуть позже, и войны бы не застали. Чушь. Война идет всегда. И везде. Ее нельзя миновать. От нее невозможно убежать.
От нее можно убежать только в смерть: там спокойно.
Но где гарантия, что ты не родишься завтра? И не увидишь самую страшную войну на свете?
Раненые. Старики. Девушки. Дети. Простые люди. Бродяги. Богачи. Всех уравнял страх смерти; и эти раны, и эта фонтаном хлещущая из артерий кровь. Иглу! Кетгут! Зажим! Все как всегда. Все как обычно. Госпиталь. На каталках санитары то и дело ввозят в гигантскую операционную раненых. Сколько их там? Вся земля.
И ввезли на каталке, и сгрузили на стол, как бревно, человека, мужчину; и Ажыкмаа всматривалась, так впивалась глазами в его лицо, что сама себя позабыла.
И это не она кричала, а другая, через горы времени:
– Никодим!
Глава третья. Живот нежнее ночи
[дневник ники]
2 октября 1942 года
Сейчас два часа ночи. Я совершенно не хочу спать. Всю трясет. Мы с Татой Измайловой решили подежурить в парадном. Я сижу на корточках у стены. Взяла с собой из ящика письменного стола дневник. Чернильница-непроливайка стоит на полу, у моих ног. Ручку неудобно окунать, но в перышке, если хорошо зацепить, чернил надолго хватает. Иногда на все предложение.
Тишина. Мы с Татой смотрим друг на друга, потом слушаем тишину, и мне кажется – у нас уши шевелятся, как у зверей.
С конца августа налеты – то и дело. Фашисты будто задались целью разбомбить город. После бомбежек там и сям горят дома. Мы слышим на улицах стоны и крики раненых. Об убитых я стараюсь не думать. Крепко зажмурюсь, крепко-крепко – и мысли куда-то проваливаются. Немцы рядом. Они, наверное, думаю, что вот-вот возьмут нас без боя. Они обстреливают город из дальнобойных орудий. Их самолеты бомбят железнодорожные вокзалы, речной вокзал, пристани и гавань.
Мы голодаем. Продуктов почти нет. Но мы бодримся.
Мама ушла на фронт. Зачем она это сделала? Зачем бросила нас?
Я так плакала, когда она уезжала. И она ужасно плакала, у нее так страшно вспухли губы, как будто ее кто-то долго-долго бил по губам, по лицу.
От бабушки и дедушки давно нет почты. Мне сказала старая Марихен из первого подъезда, что в Гатчине фашисты. А я так крикнула ей: «Марихен! Не верю тебе!» А она сморщилась вся, заплакала и прохрипела: «Если они сюда войдут, они меня первую убьют, я ведь немка, а советская немка – это предатель Великой Германии».
Нам всем надо быть очень сильными. Очень-очень. Но так трудно быть сильным. Особенно девочке. Я стараюсь. Но у меня не всегда получается. Иногда я отворачиваюсь лицом к стене, чтобы меня не видел Гришка, кусаю губы и реву. Позорно, как корова. Ника, рева-корова. И я шепчу себе: все, брось, кончай, прекрати сейчас же, и тру мокрое лицо кулаками, а потом бью себя кулаками по лицу. И думаю: а если немцы вот сейчас войдут в подъезд, увидят меня и станут пытать! Как я заплачу тогда?
13 октября 1942
Полночь. Сегодня я у Таты. Все в доме уже спят. Я сделала все задания – и по математике, и по физике. Очень тихо. Я с собой взяла в портфельчике дневник. Вот вынула тетрадочку, напишу в нее немного. Меня трясет, уж не заболела ли я? Хорошо думаешь и пишешь, когда тишина.
Ленинград привык к воздушным тревогам. Мы говорим: «Ну вот, опять бомбежка», – будто бы: «Ну вот, опять похолодало». Я привыкла к артобстрелам. А первое время боялась ужасно. Зуб на зуб не попадал.
Часто думаю о Гитлере. Какой он. Я видела его портреты. Очень противный. Особенно эти гадкие усики. Наш товарищ Сталин такой хороший. Гордый и сильный. Он настоящий герой. А Гитлер подлец.
Нам выдают сейчас очень мало продуктов. Все знают, почему. Немцы перекрыли дороги к Ленинграду. Но наши все равно прорываются. Как важно сейчас не упасть духом! Тата все время плачет. Она однажды обняла меня рукой за шею и прошептала мне на ухо: «Ника, будь готова к тому, что все скоро кончится». Я спросила: «Как это кончится? И почему все?» А Тата так сморщилась жалобно и шепчет мне одними губами, я еле услышала: «Ну, все. Мы кончимся. И Ленинграда не будет». Я зажала ей рот рукой. И по моим пальцам текли Татины горячие слезы.
Я не знала, что ей ответить. Я хотела сказать: «Татка, да успокойся ты! Где же твое мужество?! Ты же комсомолка! Мы должны вынести все, как бы нам ни было трудно!» Но слова застряли у меня во рту. Я не смогла ей так сказать. Потому что меня самое заколотила дрожь, и я представила, как нас всех сначала мучают, потом расстреливают немцы в черных круглых касках.
И мы обе плакали с Татой, обхватив друг друга руками.
А по радио говорили: «На подступах к Ленинграду войска врага несут большие потери!»
Тата затрясла головой и опять беззвучно прошептала: «Все вранье».
А я улыбнулась и сказала ей: не смей! Это чистая правда! Наши солдаты нас защитят! И чтобы я больше никогда от тебя не слышала!
И Тата пошла на кухню и приготовила нам чай из довоенного зверобоя, с сахарином.
24 октября 1942
Нам сказали в институте: занятия отменяются на две недели. Потому что почти все студенты сейчас заняты на трудовом фронте. А мы первокурсники. Мы еще маленькие. Я числюсь в санитарном отряде.
Только я заметила за собой: я перестаю думать. Не могу ни задачки решать, не могу вникать в смысл, когда читаю. В институте у нас холод страшный, все сидят, ежатся, поджимают под себя ноги и греют руки дыханием. Ни одна печь не топится. Все время охота есть, а еды нет. Она, конечно, есть пока, но ее очень мало. Хлеб выдают двести граммов в день. На десять дней еще дают сахара двести шестьдесят граммов, но вместо сахара уже отсыпают сахарин. А еще положено двести пятьдесят граммов мяса, сто пятьдесят граммов сливочного масла и триста граммов любой крупы. Мне почему-то все время доставалась перловка. Тата смешно называет ее: «шрапнель». А мясо уже перестали давать.
У нас на курсе Венька Немилов даже частушку по этому поводу сочинили:
Нету мяса ни куска —Станешь тощим как доска!Как скелеты в бой пойдут —Станет Гитлеру капут!Все ее распевали сначала, а потом староста Вихров петь ее нам запретил: как прикрикнет на нас, обозвал подрывниками и предателями Родины, сказал, за такие частушки Сталин может и в тюрьму посадить. Сейчас надо боевой дух в солдатах поднимать, а не про скелеты петь!
А вечерами и ночами я по-прежнему дежурю на чердаке. Завыла сирена воздушной тревоги, и все жители дома побежали в бомбоубежище, а я одна осталась. Хоть я и привыкла к налетам, а все равно поджилки трясутся. Стою, слушаю гул самолетов. Вижу в чердачное окно: на тротуаре разорвалась фугаска. Я зажмурилась. И вдруг прямо у моих ног, в проеме двери, падает зажигательная бомба! Сердце во мне забилось крепко-крепко. Я думала, ребра пробьет. Мысли проносились быстрые, бешеные. Брать щипцами? В бочку с водой тащить? Засыпать песком?
Мешки с песком – вот они, в углу! Прыгаю как кошка на мышь! Хватаю мешок! И почти полмешка на бомбу высыпаю!
И все сыплю песок, сыплю, хотя понимаю: потушила уже, потушила…
Глаза скосила – вижу, лопата в углу. Можно было лопатой песок подцепить.
Вижу в окно: дом напротив, и чердак насквозь просвечен, просто полыхает! И люди бегают. Знакомые лица. Это наши ребята, со второго курса. А пламя – это зажигательные бомбы вспыхнули и разгорелись! У них что, ни воды, ни песка нет?!
Хватаю в одну руку ведро с водой, в другую – мешок с песком, и бегу в соседний дом, и кричу: «Ребята, вот вам песок, вот вода, тушите быстро, иначе пожар, и всем конец!»
Девушка передо мной. Губы дрожат. Глаза огромные, светлые. Говорит мне: «Спасибо, товарищ. Как вы вовремя, товарищ!»
А я на наручные часики гляжу: первый час ночи.
Часики мне тетя Фая подарила. В тот же год, когда мама подарила мне золотые сережки с гранатиками, и мне протыкали уши раскаленной швейной иглой, а под мочку подкладывали ржаную корочку. Я не издала ни звука, терпела. И мама сказала: «Ты герой».
Я девушку обняла и поцеловала. Сказала ей: «Не бойся, опасность позади».
И тут отбой. Закончилась тревога. И снова мы живы.
Я это пишу у моей двоюродной сестренки Коры. Кора год назад приехала в Ленинград из Москвы да так и осталась здесь. Хотела поступить в Академию художеств, не поступила. Я часто приезжаю к ней. Она снимает маленькую комнатку в огромной коммунальной квартире на Пятой линии Васильевского острова. Работает на Кировском заводе. Ей по рабочей карточке выдают четыреста граммов хлеба, и она делится со мной.
Мы вечерами сидим за круглым столом, жжем керосиновую лампу и бесконечно говорим о еде. Все о еде и о еде. Хлеб съедим после того, как Кора придет со смены, а есть больше нечего. И Кора мне рассказывает о пирогах с капустой и яйцом, о том, как она их сама пекла в Вышнем Волочке у бабушки Ены. А я ей – о курочке с чесночком, мама так любила готовить.
Мама! Я не могу представить, как она там на фронте.
Сейчас сяду писать ей письмо. Пишу, а губы сами шепчут: мамочка, ты не думай, мы тут выдержим, мы все выдержим.
31 октября 1942
Опять ночь, и опять чердак. Наши зенитки бьют. Слышала, как бомбы свистят. И бомбы, и пули так противно свистят! Понимаешь: вот летит и свистит твоя смерть, и становится так тоскливо, одиноко. Страх притупился. Остались тоска и боль.
Кора устроила меня к себе на завод. Я хочу по мере моих сил помогать стране.
Сидела на чердаке, на старом сундуке. Что в сундуке? Чьи-то старые тряпки, чья-то прошлая жизнь. А если заглянуть? Из сундука доносится приятный запах. Старые духи. А та, что душилась этими духами, может быть, давно умерла. И вдруг я подумала: какая разница, когда умрешь? Во время войны, после? Убьют, или доживешь до глубокой старости, и тебя, дряхлую, положат в гроб и свезут на Пискаревку?
И все же страх есть. И озноб. И жуть охватывает, когда опять, с неба, вокруг тебя – этот мерзкий свист.
Скоро утро, и на завод.
После смены пришла домой, шатаясь – от усталости и от голода. В институте занятий нет: отменили. Когда возобновят, неизвестно.
Ночь пришла, а спать не могу. В ушах дикий вой сирены. На стенах ходят черные тени. Я вскакиваю в постели и прижимаю пальцы ко рту, чтобы не кричать.
Ругаю себя: Ника, ты что, в нытика превратилась?! Да ты просто тряпка после этого! Другие терпят, высоко голову держат, а ты! Кляча водовозная, как говорила баба Ена! Оглянись вокруг-то, шепчу себе, сколько рядом с тобой замечательных людей! И они каждый день говорят тебе – и словами, и глазами: держись, Ника, война все равно кончится когда-нибудь! У тети Фаи сейчас не бываю: у нее трое детей, да еще я свалюсь на голову, лишний рот. Надо совесть знать. А гостинца, чтобы привезти, нет никакого. Разве свой хлебный паек прихватить. Дети поедят. А я останусь голодная и не смогу дежурить на чердаке – упаду.
Тетя Фая недавно сама позвонила мне. Я ее голос по телефону не узнала. Думаю, кто это шелестит, как сухой листок осенний? А она мне: «Здравствуй, Никочка, как ты? А я еле держусь на ногах. Нюся захворала, у нее по всему тельцу чирьи пошли! Жижилка так отощала – сил нет глядеть, душа разрывается… И у Фофы нарывы. Я нашла в подвале старый лук, луковицу разрезала, испекла и девчонкам к чирьям горячий лук прикладываю… Никочка, смотрю на себя в зеркало – там вместо меня загробная тень! Никочка, если я завтра умру – я тебе завещаю свои коралловые бусы! Пригляди за девчатами, ладно?»