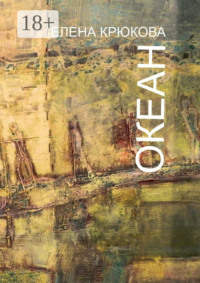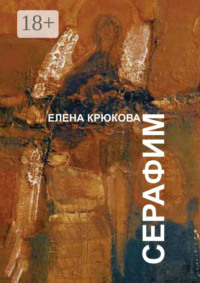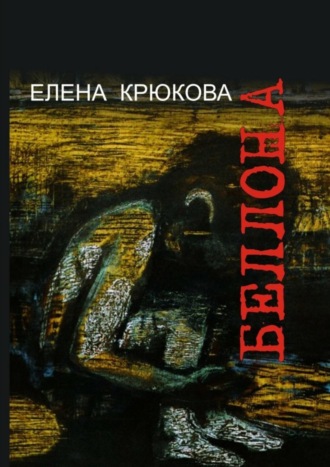
Полная версия
Беллона
Отсмеявшись, он дернул вбок аккуратно подстриженной головой, сам весь дернулся огромной живой молнией, ударил по уюту и чистоте всем долгим худым телом, шатнулся, вылетел из столовой. Отец проводил его взглядом.
– Совсем ребенок с ума спятил, – сказал невнятно. – Изольда, я не могу…
– И вовсе он не спятил, – Изольда вскинула голову. Она старалась держаться красиво и достойно. Такой ведь хороший, вкусный получился обед. Нельзя было позволить обстоятельствам взять верх над благопристойностью, над ее семейным счастьем. – Он хороший мальчик! Просто он переутомился. Это все пройдет! Гюнтер, что так смотришь? Поговорил бы с братом! Съездили бы куда-нибудь развеялись! В кинематограф! На стадион! На ипподром! Ты же так любишь лошадей!
– Я танки люблю, – угрюмо поглядел на мать Гюнтер.
Изольда растерянно поднесла к губам мензурку и выпила бром одним жадным, огромным, коровьим глотком.
Опусти глаза. Потом подними. Глаза не должны это видеть, но они видят. Глаза слишком мало видели на земле. И вдруг они стали видеть слишком много. Так много, что разум перестал вмещать увиденное. Этот убитый мальчик, лежащий в пыли – твой ровесник. Гляди на него, пока не заломит в глазах.
И тогда зрачки превратятся в угли, а голова под костью черепа – в жарко горящую печь.
Сожги в ней все, что ты видел сегодня. Это нельзя помнить. Это нельзя забыть.
Это война.
[иван макаров свадьба]
Ивану сравнялось восемнадцать, и Галине тоже.
Свадьбу им устроили – все Иваньково позвали.
Отец, Иван Юрьевич, не пожалел ничего на свадебный пир: и петуха зарезал, и двух самых жирных, хоть и любимых курочек, и на чувашском рынке поросячьи ножки на студень купил, и у рыбаков – сурскую стерлядку, крупную, знатную, для тройной ухи; и сам ту тройную уху варил – сначала ершей, для сладости, потом сорогу, а потом уже стерлядь запускал. Ухой на всю округу пахло.
Варил Иван Юрьевич уху в огромном прокопченном котле. Такого котла ни у кого в Иванькове не было. Котел тот достался ему по наследству от прадеда. Прадед бурлаком на купеческих расшивах хаживал, до Царицына, до Астрахани. Из котла того – бурлаки уху хлебали. Рты хлебом утирали. Ложки, поевши, – подолами рубах, а кто залатанными портками.
Река, река! Иван Юрьевич любил реку. Сердце стеснялось, когда на серебряную воду глядел.
И сын его Иван любил.
И, если б не война клятая, пошел бы Ванька в речное училище учиться, на речника. Он уж так и сказал: «Батя, я в речники собрался». А тут немец. И повестка пришла.
Все они знали, и Ванька и невеста его Галина: вон она, повестка, на радиоприемнике лежит, поверх салфетки белой.
И плакал Иван Юрьевич, закрыв лицо жесткой, деревянной ладонью.
Один плакал. В кладовой. Среди лопат и серпов и черных чугунков.
А к людям выходил – улыбку к роже присобачивал.
Он улыбался даже тогда, когда в гражданскую его, с женкой и малыми детьми, к стенке ставили. А так просто: к стенке избы. Вывели – и палить. И наперво попали в сынка. В Фединьку. Он навсегда так и остался семилетним. Старший. Жена распласталась на земле, двух девчонок да малютку Ванятку телесами накрыла. Вопит – облака содрогаются! Дрогнули беляки. Ружья опустили. Плюнул главный кат, утерся. Орет: «Ну вас к ляду! Еще я баб с детями не пускал в расход! К чертям! Что скалишься, мужик?! Счастье твое!» И повернулся, и пошел, и закурил, и Иван Юрьевич видел, как высоко поднимаются его плечи, как уши – погон касаются.
Шли гости и шли, все Иваньково, почитай, собралось. Ванька в лучшую рубашечку нарядился. Галина – как городская, белое платье, и отделала, хитрюга, кисеей оконной; и фату из тюля пошила, а к ней – белые розочки бумажные навертела. Все честь по чести. Да на городское фуфыристое платье – все равно чувашские, родные мониста нацепила. Золотые и серебряные кругляши, рыбья чешуя! Поймал, поймал Ванюха золотую рыбку. Да ночку одну в руках подержит.
Одергивал Иван Юрьевич кургузый праздничный пиджак. Шли и шли гости, подарки волокли. Старуха Игнатьевна подарила отрез ситцевый – ситец черный, в мелкий цветочек, и юбки из него пойдут, и платья, и в пир и в мир! Дарьица пеленки льняные приволокла. Для будущих деточек! Не вечна ведь война, а Ваньку, даст Бог, не убьют.
Вступил на крыльцо костяною ногой старик Живоглот, с хромкой в граблях-ручищах. Поет хромка, заливается! Меха дышат тяжко и сладко – так баба под мужиком дышит! Старая Ванькина мать, Макарова женка, сидит под иконой в красном углу, узкие глаза щурит, а все к ней подходят и кланяются. Рядом с ней – табурет для Ивана Юрьевича, а еще – два табурета свежеоструганных, для отца и матери невесты, да пустуют табуреты, никто на них не сидит: Галина круглая сирота. Сироту взял Ванька, без приданого. Зубами скрипнул: «Проживем, батя. Я – работать пойду! На баржи! А Галя согласна плавать со мной. Она поварихой на камбузе запросто сможет!»
Играй, Живоглот, растягивай гармошку, мни-терзай! Музыкой веселой сердца рви! Вон соседский Спирька бежит, а что это у мальца в руках? А это петух, на колу протух! Шутка ли, петуха тащит в подарок! Красный, огненный, перья горят, ладони спалят!
– На, Галька, держи петуха! Да во щах не вари! Это тебе на развод! Это курий муженек! Чтоб он всех кур в Иванькове потоптал! Ха-а-а-а-а!
– Спиридон, охальник! Ах, спасибочки! Петя, петя… а он не клевачий?
– Глаз выклюет – кривая Галька будешь, ха-а-а-а!
– Типун тебе…
Галина петуха к груди прижимает. Петух изловчился и клюнул золотое зерно монист. Мониста зазвенели. Весело звени, пой, свадьба!
– Гости дорогие, стюдень на столе, и беленькая стынет!
– Помидорки, Иван Юрьич, уродились уж у тебя! Быстрый ты!
– Хозяйка в теплице ростит…
Рюмки налиты всклень. Студень разрезан, по тарелкам разложен. Пирог из печи вынут – Анна Тимофеевна с капустой и яйцами спекла. Иван Юрьевич – чуваш, Анна Тимофеевна – чувашка, а в паспорте пишутся – русские. И то правда: христиане. Церкви повсюду взрывают, а по всей России в деревнях родители тайно детей крестят.
Галина сидит, грудь сверкает монистами. Фата из тюля лезет на глаза. Глаза блестят, слез полны. Ванька прямее доски, рубаха по вороту алой нитью вышита. В сельсовете они уж расписались. К попу не пошли: современные. Но перед родителями на колени встали. По старинке. Благословите, батька и маманька, на жизнь долгую, и чтобы деток много родилось!
Детки. А беременеют – сразу? Или чуть погодя? Галина слюну сглатывает. Бледнеет. Она первой ночи смерть как боится. Она девочка еще. И они с Ванькой вечерами гуляли, на лавочках над Сурой сидели, да она ему не дала. Молодец девка. Выдержала.
А Иван сидел каменно, ледяную ножку рюмку в горячих пальцах сжимал, думал, губу закусив: зачем не дала, счастья бы все поболе было, чем одна ночь.
Бабы пели, голосили. Старик Живоглот хромку вертел, как девку на танцульках. Рябая Наташка, с перевязанной головой – ей в гражданскую беляк саблей чуть не полголовы снес, и умом она повредилась тогда, да заросла кость, уродливый шрам под волосами вязаной лентой скрывала, – встала, нависла горой над столом, завизжала, будто резаное порося:
– Горька-а-а-а-а! Горька-а-а-а-а! Ох, подсластить ба-а-а-а!
Вскочил Иван, будто струну порвали. Зазвенела посуда. Медленно встала Галина. Бледнее скатерти. Иван взял за подбородок Галькино лицо. К себе повернул. Глаза в глаза. Губы к губам.
– Ягодка, – прошептал.
Галина обняла, ощупала, исцеловала глазами Ванькино лицо. Красивый. Молоденький муж ее. Совсем мальчик.
И она, хоть ровня ему, почуяла себя вдруг – старой, жизнь прожившей. И вроде уж умирать надо.
«Какая маленькая жизнь», – прочитал Иван в Галининых глазах.
Губы сблизились. Целовались долго, а вокруг кричали. Вилками, рюмками звенели. Зычный голос над их головами считал:
– Десять! Одиннадцать! Двенадцать…
«Люблю тебя, милый ты мой», – говорили Ивану Галькины губы.
«И я тебя. Больше жизни», – отвечали Галине губы Ивана.
– Двадцать! Ох, сладко!
Оторвались друг от друга.
– Двадцать лет жить будете! Сосчитали уж вам!
– Да не слыхали оне… оглохли…
– Дольше надо было чмокаться! Двадцать – мало будет! Надо – полтинник!
В спальне девчонки, подружки Галины, пуховую перину взбили, кровать хмелем забросали. Шторы задернули. В залу выбежали. Губы к Галининому уху прислоняли: ты, когда ноги раздвигать будешь, зубы сожми и так молись: «Богородица Дева, дай мне претерпеть бабью боль! Сперва больно, потом сладко!»
Вина почти не пили, водки не касались, и так все плыло, уплывало.
Живоглот устал мучить хромку. Гости глотки в песнях надорвали. Пироги Тимофеевнины сожрали. Всему бывает конец, и свадьбе тоже. Милы гости, черт вам рад! А ну выметайсь из избы! Ночь на дворе!
Летняя ночь. Ночь. Крупные звезды. Простыни хмелем пахнут, а еще – духами «Красная Москва», девчонки побрызгали.
Раздеваться надо. Ночной свет льется в окно. Свет травы, свет от светлой коры осин и берез. Окно в сад открыто, и листья слив лезут прямо в избу. Слив, вишен изобильно завязалось. Варенье Галина одна варить будет. И огурцы – одна солить.
Одна.
Все с себя отчаянно сорвала. Стояла перед Ваней голая. Тело светилось.
– Ничего не боюсь! Ваня! Только…
Он крепко обнял ее. На руки взял – легкая она, подсолнуха лепесток.
– Меня не убьют, – пробормотал, ложась на нее, и она забилась под ним, закинув голову, раскинув белые ноги, и так сильно обняла за шею, что чуть не задушила.
Когда плоть соединилась, Галина распахнула глаза широко и изумленно выдохнула:
– Не больно…
А Иван, выжатый долгожданной судорогой, плакал малым ребенком, уткнувшись в подушку, щекой к Галининой щеке.
И, как ребенка, гладила Галина его по потной голове, утешала, шептала невнятное, единственное.
А утром вынесли гостям, что, запьянев, спать в избе у Макаровых свалились, простыню, кровью окрашенную. Крестилась Анна Тимофеевна, молитву читала. Блестела, в зеркале отражаясь, Живоглотова хромка с перламутровыми старыми, царскими пуговицами.
Надевал Иван перед трюмо чистую рубаху. Натягивал штаны. Мешок с провизией уж собран был, на сундуке ждал. На мешке сидел кот, облизывался. Галина глядела, как Иван собирается на войну.
Родители сына перекрестили. Иван сам перекрестился на икону. Донская Богоматерь складывала нежный ротик печально, сердечком. Младенец на Ее руках смотрел стариком, не хуже Живоглота. Он все знал про Себя.
– Ну, пошел я.
– Иди, сынок! С Богом!
Анна Тимофеевна так и сидела на табурете: на дорогу не могла выйти, колени ослабели.
В окно следила: вот Ваня вышел за калитку, вот Галина ринулась вдогонку, закричала.
Что кричала? О чем?
Пусть покричит. Поплачет. Ночь первая, а может, и последняя.
Глядела мать в окно сухими внимательными глазами, как вчера еще чужая девка обнимает, целует ее сына, осыпает поцелуями его щеки, плечи, губы, лоб. Как Иван наклоняется и целует эту незнакомую девчонку в глаза и рот. Как ветер рвет, развевает волосы девки, они летят по ветру, путаются, блестят на солнце, вьются в веревки, в русые лески.
– Дети, – вымолвили сухие старые губы. – Детки… мои…
Глаза видели: Иван крупными, злыми шагами, оторвавшись от жены, пошагал по пыльной, по солнечной дороге, ступая на всю ступню, уходя, исчезая. Быстро шел, споро. Минута – и от Ивана лишь черная точка на дороге осталась.
Дверь заскрипела протяжно, будто завыла. Галина вошла в избу.
Встала на колени перед черной глыбой, старухой, к табурету намертво прикованной: коричневое вяленое, копченое лицо из-под черного шерстяного платка, рыбы-руки на груди скрещены, тяжелое венчальное золотое кольцо на узловатом диком пальце блестит.
– Мама…
И старуха посмотрела слепыми глазами на нищее медное, тоненькое позолоченное колечко, в сельмаге купленное, у Галины на пальце нежном, детском, молодом, безымянном.

[интерлюдия]
Так говорит Гитлер:
Уважаемый господин Сталин,
Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно добиться прочного мира в Европе ни для нас, ни для будущих поколений без окончательного сокрушения Англии и уничтожения ее как государства…
При формировании войск вторжения вдали от глаз и авиации противника, а также в связи с недавними операциями на Балканах вдоль границы с Советским Союзом скопилось большое количество моих войск, около 80 дивизий, что, возможно, и породило циркулирующие ныне слухи о вероятном военном конфликте между нами.
Уверяю Вас честью главы государства, что это не так.
Со своей стороны, я также с пониманием отношусь к тому, что Вы не можете полностью игнорировать эти слухи и также сосредоточили на границе достаточное количество своих войск.
В подобной обстановке я совсем не исключаю возможность случайного возникновения вооруженного конфликта, который в условиях такой концентрации войск может принять очень крупные размеры, когда трудно или просто невозможно будет определить, что явилось его первопричиной. Не менее сложно будет этот конфликт и остановить.
Я опасаюсь, что кто-нибудь из моих генералов сознательно пойдет на подобный конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и сорвать мои планы.
Речь идет всего об одном месяце. Примерно 15—20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с Вашей границы.
При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи.
Прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма Вам.
Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле.
Искренне Ваш, Адольф Гитлер.14 мая 1941 года[елена померанская – ажыкмаа хертек]
Дорогая тетя Ажыкмаа! Здравствуйте!
Огромное спасибо за рисунки Ники, я рассматривала их очень долго и еще буду смотреть, каждый день! Никочка у вас такая молодчина! Она и учится хорошо, успевает, а вот у меня тройки есть. Я не люблю физику, алгебру, геометрию и химию. У меня к ним никаких способностей. Мама ругается, говорит, из меня ничего толкового не получится.
Четырнадцать лет мне справили хорошо, мы были в это время в деревне, я пригласила соседских детей, мама напекла пирогов с вишней, с яблоками и с сомятиной, пили чай, ели пироги и смеялись. Мама сидела, смотрела на нас, как мы едим за обе щеки, а потом вдруг пригорюнилась и заплакала. Я спрашиваю ее: что ты плачешь? А она мне отвечает: «Вспомнила себя во время войны, и как мы есть хотели, и как для нас праздником был крепкий чай, настоящий сахар и кусок белого хлеба. Когда после войны все это на столе появилось, мы дрожали от счастья и плакали. А вы вот пироги едите! И корочку швыряете! А мы корочку каждую, кроху доедали, с ладони слизывали, над ней тряслись…» И ушла плакать в спальню. А мы с гостями сидели, такие растерянные. И меня Глафира Беседина спрашивает: Лена, нам можно дальше праздновать или уже уйти?
Тетя Ажыкмаа, простите, что все это написала, только маме не пишите про то, что я это вам рассказала.
У нас все хорошо. Мы из Иванькова переехали в Козьмодемьянск. Папа работает художником на кирпичном заводе. Рисует большие плакаты. А еще ездит по селам и деревням и фотографирует детей и взрослых, особенно в школах, на свадьбах и на похоронах. Зарабатывает деньги. Мама все время берет в больнице дежурства. Я уже большая, я тоже могу зарабатывать. На будущий год заканчиваю музыкальную школу и буду поступать в музыкальное училище. Поступлю и сразу возьму себе учеников, заниматься.
Буду жить в городе в общежитии. Я самостоятельная, и все умею.
У нас перегорел телевизор «Рекорд», и папа сам его починил. А мама сама починила старый утюг. Белье мы отдаем стирать в прачечную, за ним приезжает шофер, мы даем ему рубль и тюк с бельем, и он уезжает. Очень удобно.
Крепко целую вас, дорогая тетя Ажыкмаа, огромный привет дяде Никодиму и Нике. Всегда ваша Лена.
Интермедия
СИДЕЛКА
Ажыкмаа сидела у кровати больного. Раненого.
После смерти Ники она не нашла ничего лучшего, как придумать себе такое вот развлечение – стать нянечкой в Боткинской больнице. Работой она это не считала, хотя это была тяжелая работа: бессонные ночи, сестер на срочный укол звать, блевотину подтирать, судна и утки таскать.
Последние минуты жизни Ники прошли в больнице. Больница святым местом стала для Ажыкмаа: она не захотела отсюда уходить.
Лечить, а правда, вот доктора, они умные, они лечат и знают все про нас, немощных. У них глаза – рентген: посмотрят и все сразу видят, кто чем страдает.
Лечить, спасать, вот счастье.
А если тебя не спасут, как не спасли Нику? Что, врач тогда первый враг?
«Нет врагов и друзей, – сами по себе, вне разума, шептали губы, – нет правых и виноватых, ничего нет, никого нет».
Люди все ходили мимо нее – на одно лицо. Она не различала черты. Белые пятна плыли, мерцали, вспыхивали. Зрение падало, и танцевать она уже не могла. Голоса еще мотались перед ней алыми опасными флагами. Врачи отдавали военные приказы. И она слушалась. Все быстро и умело выполняла. Глаза плохо видели, пальцы, руки действовали вслепую.
Она приучилась видеть чем-то иным. Не зрачками, не зрительным нервом. Купила большие очки с толстыми линзами, в них стала похожа на сову. Никодим долго не прожил после ухода Ники: ушел вслед за ней. Ажыкмаа обмывала вместе с друзьями его мертвое тело, прикасалась к его старым шрамам, вздутым швам, и вздрагивала: ее било нездешним током. Люди смотрели на нее и думали: почему не плачет? Но вслух не спрашивали. Боялись.
В доме покойника всегда слишком тихо. И все боятся эту тишину потревожить, разрезать грубым, невпопад, словом.
Ажымаа молчала. А что говорить?
Она устроила русские поминки, с кислыми щами, с гуляшом и вареной картошкой, с кутьей, и из белых груд риса мертвыми пчелами торчал распаренный изюм, все как положено. И водка, как водится. Блестела свежим светлым серебром в граненых стаканах. Военные стаканы, почему-то подумалось тогда Ажыкмаа; она шепнула неслышно сама себе: «Советские».
Советская страна тоже умирала, уходила. Ее было жаль. И ничего поделать с временем было нельзя.
Время было сильнее человека.
И Ажыкмаа вслепую шла против времени, проламывая узкой балетной грудью его дикую метель. Зима, лето? Ей было все равно. Она перестала различать их. Она засветло приходила в больницу, чисто мыла руки под краном, под холодной, как из ледника, водой, переоблачалась в белый халат. Ей нравилось, что вот она вся белая, будто снегом укрытая.
Сама себе казалась могилой, щедро засыпанной снегом.
«Верно, – мерцали подо лбом тусклые мысли, – я тоже мертва, но притворяюсь, что жива. Театр. Я же столько лет проплясала на сцене. Я умею перевоплощаться, превращаться».
Больной на койке замычал. Он хотел перевернуться. На бок или на живот. Переворачиваться ему нельзя было – грудная клетка в гипсе, нога из-под одеяла торчит, тоже загипсованная, марлей обмотанная, подвешена: на вытяжении. Бредит? Спит? Глаза закрыты. Мычит. Не проснулся. Ему снится сон. Ему неудобно. Врачи говорят вполголоса, стоя у его койки: «Как бы не схлопотал пневмонию». Лежит неподвижно, легкие слипаются, кровь не гуляет в них.
Как тебя перевернуть-то, милый? Никак.
Ажыкмаа знала: он ниоткуда не упал, и бежал и не споткнулся – его ранили, а потом долго били. Кто? Где? Когда? Не на войне же: сейчас мир, а скоро наступит мир во всем мире. И люди перестанут воевать. Так сказал самый верхний человек. А они там, наверху, все умные. Они – знают.
– Что тебе, дружочек? Что тебе подать?
Повела глазами вбок: на тумбочке стояла кружка, в ней морс; рядом с кружкой лежало в миске очищенное вареное яйцо. Ночь-полночь, какие яйца. Бредит он. Укрой его потеплее, из окон дует, и правда сквозняк.
Ажыкмаа наклонилась над раненым с переломом бедра и закрытым переломом голени. Провела ладонью по его лбу. Лоб мокрый. Ладонь тоже стала мокрой, будто Ажыкмаа окунула ее в море. Она взяла со спинки койки полотенце и стала обтирать чужое, родное лицо. Не видя лба и щек; зная только, что вот так – хорошо. Хорошо она делает. И ему, и себе.
– Полегче тебе? Ну и спи. Морс не дам, не отхлебнешь ведь.
И тут же взяла кружку и поднесла к его губам.
Больной опять замычал. Пригубил из кружки. Потом притих. Засопел. Ажыкмаа села на табурет рядом с койкой и аккуратно положила мокрое, пропитанное потом полотенце себе на колени. Так сидела, чуть покачивалась: внутри нее звучала тихая музыка, и она танцевала на залитой белым ясным огнем сцене. Под пуантами гнулись и дрожали гладкие доски. Она всегда боялась батмана. Боялась прыгнуть. А тут такое счастье, она ничего не боится.
Такая ночь.
По коридору простучали каблуки дежурной сестры. Деревянный резкий стук стих вдалеке. Ажыкмаа подумалось: вот так, с таким же звуком, забивают гвозди в гроб, – она уже знала этот звук, но сегодня она и его не боялась. Вокруг нее в больнице лежали, спали, шевелились, стояли, стонали, плакали, бормотали, сидели, шли, говорили, мечтали, злились, радовались люди, и ей было не страшно. Она все время брала ночные дежурства, чтобы не оставаться дома. Дом был войной. Полем сраженья. Дома она, отчаявшись бороться с собой и с темнотой, ложилась животом на пол, кусала кулаки, билась лбом о половицы и, нарыдавшись, так, на холодном полу, засыпала.
Она придвинула табурет к стене, чтобы к стенке привалиться и чуть подремать. Да, вот так, удобно. Больной со страшными переломами спал, иногда стонал во сне, она смотрела на его лицо, обмотанное бинтами, на синие гематомы и вспухшие губы и надбровные дуги.
«Война, для каждого случается своя война. А может, она идет всегда?»
Спросила так себя – и ужаснулась.
Отогнала мысль, как больничную муху. Стена холодила спину, холод ящерицей пробирался сквозь халат и старый свитер. Свитер носила Ника. Ажыкмаа после двух смертей отощала и сейчас была тоньше, чем ее тоненькая дочь; если бы не ее высокий рост, громадный для балерины, ее на улицах принимали бы за недокормленного ребенка.
Ребенок. А что, если взять ребенка на воспитание?
Ужаснулась и этой мысли.
А потом вдруг обрадовалась.
Чужой, чужая. Чужое. А если все родное? Почему такой родной ей этот человек, мычащий здесь перед ней на чисто застеленной койке? Что она нашла в нем? Во всех этих людях, за которыми ходит, о которых странно и полубессмысленно заботится здесь? «Это они меня спасают, они, а не я их. Все поменялось. Все сместилось».
Голова Ажыкмаа отяжелела и упала набок, подбородок уперся в худую ключицу, и она нежно и странно замерла – ночная белая надгробная скульптура, уснувшая, после винных огненных танцев, безумная менада. Смерть и сон странно похожи, издавна; и что слаще, что лучше? Мы испытаем смерть лишь однажды, а в сон мы входим много раз. Жизнь человека – сколько в ней дней, ночей? Так просто: помножь дни в году на цифру своих прожитых лет. И ты все сразу узнаешь.
Ажыкмаа, уже падая в туманы легкого, ушки на макушке, сна, успела подумать: жаль, как мало, – и тут подвешенная нога больного, в гипсе и снежных повязках, шевельнулась, бинты размотались враз, в лицо хлестнула метель, да, они оба умерли зимой, и дочь и муж, и сейчас на дворе лед, ночь и пурга. Легкий звон раздался в висках, лоб обсыпало мелкой злой снежной крупкой, табурет оторвал все четыре ноги от пола и завис, и поплыл. Ажыкмаа крепче уцепилась за сиденье. Глаз не открывала: страшно.
«Не бойся, никогда ничего не бойся. Война ведь еще суждена. Разве ты не знаешь? Война, такая простая вещь. Как хлеб, как воздух. Как вата и бинты. Пропитанная кровью марля. Ребятишки нашли на берегу, в норе, где жил барсук, истлевшие военные шинели и хотели сжечь, а потом один пацан крикнул пронзительно: их же надо похоронить! Это же не шинели, а люди!»
Стены Боткинской больницы раздались и расступились, и Ажыкмаа вылетела вон, и ни табурета не было, ни тела, только сама она странно, длинно вилась в воздухе, как веревка, и никто не мог, не смел обрезать ее ржавыми ножницами, рассечь ножом или штыком. Под ней с чудовищной скоростью неслась земля. Земля держала в горстях хрустали замерзших озер. Перевивала голубые мафории ледяных, железных рек. Громоздила увалы, яры, покатые беременные животы холмов, и внизу возник сломанный хребет – длинные искалеченные горы, и никто не заковывал каменный позвоночник в жестокий, снежный гипсовый корсет. Врачей не было. Земля была предоставлена сама себе. Болела, царапалась к жизни, карабкалась, умирала. И снова оживала. Ее расстреливали в упор, дырявили из автоматов – а она снова поднималась. Над ней смеялись, глумились вовсю, пальцами показывали: глядите! голая! дрянь! и милостыньку просит! И веревками ее вязали, веревками дымов, и били дубинками горячих труб. И били, долго, неутешно били в живот, в грудь, в подвздошье, и она, нищая, брюхатая, рожала, людям на смех и ужас, недоношенного уродца. И кто-то должен был того ребенка взять на руки, обрезать и завязать пуповину, кормить и растить, на ноги поднимать; вон, мать-то мертвая во рву валяется!