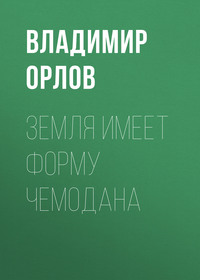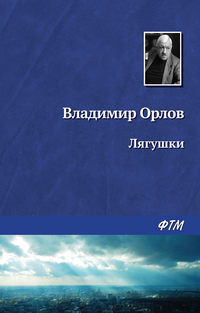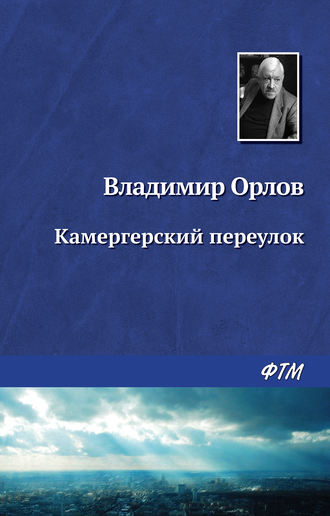
Полная версия
Камергерский переулок
Но когда же откроется ему это его предназначение? И откроется ли? Ведь ему уже отпущено тридцать шесть лет жизни.
Познакомился я с Прокопьевым при обыденных мужских обстоятельствах в дружелюбно-приёмной «Яме» на углу Столешникова и Дмитровки (тогда – Пушкинской), то бишь в пивном заведении «Ладья». Дельцу Крапивенскому, сдавшему в аренду испанским негоциантам последний оплот дружеских общений, доступный карману простого москвича, были адресованы народные проклятья и пророчества. Говорилось, в частности: «Дело его провалится!» И пророчество свершилось. Знаменитый московский провал на Дмитровке случился именно у стен Ямы! Теперь там нет ни каталонских супов из бычьих хвостов и ушей, ни очаковского пива. Дома напротив, рухнувшие в памятную ночь, выстроены заново, а здание Ямы стоит в трещинах, и конца его ремонтам не предвидится. Жизнекипящий же прежде Столешников переулок стал мертвым… Впрочем, что бередить душу воспоминаниями и досадами на алчность дельцов… Упомянул же я о Яме (может, в дальнейшем придет на память и еще что-либо о ней и ее персонажах) в связи с Прокопьевым. Подробностей нашего с ним знакомства я не помню. Скорее всего, оно вышло банальным. Стояли рядом, пили пиво, разговаривали о чем-то, может, о шахматах, может, о выборах и кандидате Брынцалове, ну и назвали друг другу свои имена (тогда уже было мне разъяснено: «Не Прокофьев, а Прокопьев»). Потом сироты Ямы встречались иногда в теснотах рюмочной в Копьевском переулке, но и рюмочную история отменила, отдав ее пространство – тут уж и досадовать причин не было – возведению филиала Большого театра. Остались для собеседований местным жителям и работникам с низкоумеренным достатком «Оладьи» на Дмитровке да закусочная в Камергерском. Но и при существовании этих приютов приходилось жить в упованиях («Авось не закроют!») и тревогах: и после кратких удалений из Москвы случалось гадать, а не перекуплены ли «Оладьи» и «Закуска», не превратились ли они в заведения со швейцарами в крылатках и цилиндрах, держатся ли бастионы? И нелишними оказались эти тревоги…
В день знакомства Прокопьева с Васьком Фонаревым, Мельниковым и Арсением Линикком я в Камергерском не был. (А появлялся я там чаще Прокопьева, живу рядом, через Тверскую, в Газетном переулке). Арсений Линикк, с усами своими достойный быть героем Сенкевича, Генриха, естественно, но объявивший себя отчего-то Гномом Телеграфа, был мне известен. И не только мне. К удивлению Прокопьева кассирша Людмила Васильевна сейчас же назвала толстяка Сенечкой и поинтересовалась, отчего нет с ним рядом Стаса Милашевского. Прокопьев же все никак не мог освободиться от видений предпотолочных танцев, трепыханий телеграфных лент и от навязанного ему текста умоляющей телеграммы. Он смотрел на Линикка с удивленим и даже с подозрением. Линикк будто бы спустился к его столику из тех танцующих телеграфных лент. Впрочем, скоро Прокопьев уговорил себя не держать в голове очевидную глупость…
Александр Михайлович Мельников позвонил Прокопьеву через неделю. По его словам, участия пружинных дел мастера требовали два кресла и диван. Мемориальные. Обтянуты они были кожей. Накануне Прокопьев видел Мельникова в телевизионных поминаниях Александра Галича, и выходило, что Мельников научил Галича играть на гитаре, во всяком случае, первая гитара поэта была подарком именно Мельникова. «А не преподнес ли Мельников и рояль Сергею Сергеевичу Прокофьеву?» – пришло в голову Прокопьеву. Прокопьев давно хотел посетить музей-квартиру композитора, но все никак не мог этого сделать. Возможно, намерению препятствовали камергерские солянки.
Совсем ненужная ему озабоченность или даже тревога не покидала теперь Прокопьева. И Прокопьев не мог не признаться себе, что вызвана она привидевшейся ему телеграфной лентой и испугом (со слезами) неприметной девицы (Нины, вроде бы), получившей сотовое и, возможно, зловещее для нее сообщение.
Странно это было, странно…
3
На крашеной в желтое скамейке Тверского бульвара сидел молодой человек. Впрочем, можно было лишь предположить, что человек этот молод. Темно-серая кепка была сдвинута им вниз, козырек ее доходил чуть ли не до кончика носа. Закрыты у него глаза или открыты, определить было нельзя. Да и у кого имелась надобность определять? Он то ли дремал, то ли обдумывал что-то в сосредоточенности мыслей. Отсутствие соседей позволяло ему и дремать, и размышлять.
Скамейка человека в кепке, по мнению студентов Литературного института, стоявшего рядом, размещалась внутри мистического треугольника ПЕМ. Знатоки московских пространств могут объяснить человеку несведущему, что ПЕМ – это три памятника – Пушкину, Есенину и Маяковскому. Трем убиенным поэтам. Происходившее внутри мистического треугольника часто оказывалось печальным. Сидевший на желтой скамейке, видимо, посчитал это соображение несущественным.
День был прохладный, но сухой и безветренный. Шуршали под ногами прохожих не поддавшиеся усердиям коммунальных служб листья, желтые, оранжевые, красные, а то и зеленые. Прогуливались по бульвару балбесы, не пожелавшие сидеть в сухой день в аудиториях и классах. Шестеро из них с банками пива и энергетических напитков в руках направились к скамейке человека в кепке явно с намерением согнать сидельщика с места. Они, особенно, девицы с полосками голого тела над джинсами, и объявляли об этом вслух. Но движение их было прекращено чернявым мужиком лет сорока в камуфляже и кирзовых сапогах.
– Пошли отсюда вон! – заявил мужик. – Небось, сосунки, сейчас оседлаете спинку, и грязь с обуви будете соскребать о сиденье. Ищите кайф в другом месте!
Парни, студиози или школяры, были на вид здоровяки, откормленные «растишками» и удобрительными добавками, рванулись к мужику, естественно, их должно было разозлить словечко «сосунки», но тут же и остановились. Их остановил взгляд мужика. Мужик стоял, ноги расставив, руки держа в карманах куртки, «шкафом» из-за малого роста назвать его было нельзя, но в «комоды» он вполне годился. А главное, взгляд его был совершенно злодейский.
– Да это псих какой-то! – объявил один из парней. – Пошли отсюда.
А мужик тем временем направился к убереженной им от грязи скамейке. И не просто к скамейке, а к человеку в кепке. Не спросил, как полагалось бы сообразно московскому этикету: «Рядом с вами свободно?», а уселся вплотную к будто бы придремавшему. И не уселся даже, а как бы по неловкости плюхнулся на скамью, толкнув человека в кепке в бок.
Тот не пошевельнулся.
– Оценщик, ты чего, спишь, что ли, или притворяешься? – спросил мужик.
И теперь человек, названный Оценщиком, не пошевелился.
– Оценщик, ты дурака, что ли, валяешь? Или помер?
И мужик грубо стянул с головы Оценщика кепку.
Глаза Оценщика были открыты.
Теперь можно было понять, что он вовсе не юнец, хотя и выглядел моложавым.
Оценщик выхватил из рук мужика кепку и снова утвердил ее у себя на голове, прикрыв теперь и кончик носа.
– Не хочешь со мной разговаривать? – резко сказал мужик. – Ты что, не узнаешь меня?
– Я узнаю тебя, Сальвадор, – сказал Оценщик. – Для кого-то ты Сальвадор, а для кого-то – Сало… А разговаривать нам с тобой не о чем.
– Не называй меня Салом! – вскричал мужик и сжал запястье Оценщика, вызвав стон соседа по скамейке.
– Ну, Сальвадор так Сальвадор, – скривился Оценщик.
Каким макаром возникла кличка «Сальвадор», Оценщик не знал. Понятно, что не из-за испанца со знаменитыми усами. Поговаривали, что некогда специалиста по фамилии Ловчев забрасывали диверсантом-инструктором к партизанам в лесные межвулканья Сальвадора. И такое могло быть.
– Шеф тобой недоволен, – сказал Сальвадор.
– Он твой шеф, а не мой, – сказал Оценщик. – У меня нет шефов.
Сальвадор закурил.
Минуты две молчали. Закурил и Оценщик.
– Хорошо, – сказал Сальвадор. – Где серьги графини Тутомлиной, с изумрудами и бриллиантами на платиновой подкладке?
– Вы что, сдурели, что ли?! – удивился Оценщик. – Откуда я могу знать, где они?
– Ты, может, и не слышал о них? – усмехнулся Сальвадор.
– Слышал, – сказал Оценщик. – И не только слышал, но и держал в руках. Но где они теперь, я не знаю. Я полагал, что они у твоего шефа.
Держал, держал Оценщик в руках эти серьги. Переливами, игрой камней любовался. Некогда серьги принадлежали графине Ольге Константиновне Тутомлиной (дом на Покровке, нынче там концерн «Анаконда»). Эта Ольга Константиновна как-то привезла из Вены четыреста восемьдесят платьев. Было тогда московской красавице сорок лет. А накануне коронации Александра Второго, позже Освободителя, чтобы соответствовать себе и случаю, она в несколько дней, при тогдашнем европейском бездорожье, съездила в Париж, а ей уже исполнилось восемьдесят семь, и доставила к торжеству новейшие туалеты и драгоценности. Среди них и серьги с изумрудами и бриллиантами на платиновой основе. Её приятельница и ровесница княгиня Екатерина Мосальская, известная в Европе, как полуночная княгиня или принцесса Ноктюрн, уговаривала Тутомлину продать ей парижские серьги («к цвету глаз…»), прельщала одним из своих поместий в Новороссии, но увы… И вот теперь серьги Тутомлиной взволновали некогда шкодливого фарцовщика в жалких вельветовых штанишках, коммерсанта – из мелких, при том, наверняка, и стукача, а ныне – чуть ли не олигарха Суслопарова.
– Ну, так что, Оценщик, – сказал Ловчев-Сальвадор, – где серьги?
– Это когда-то я был Оценщик. Теперь я – подзаборная шваль. Про серьги поинтересуйтесь у Антиквара.
– К Антиквару у нас особенные счеты. Но где он, Антиквар? Далече… – сказал Сальвадор. – У Олёны могут быть серьги? И камея… как его?
– Гонзаго? – то ли спросил всерьез, то ли решил съехидничать Оценщик.
– Не Гонзаго… – поморщился Сальвадор. – А эта… из франкфуртской коллекции…
– Спросите у Олёны.
– У нее мы спросим. А пока спрашиваем у тебя. Ты должен знать, у Олёны ли серьги, и если они у нее, то где она их держит.
– Объясни, почему я должен это знать.
– Оценщик, я стараюсь быть терпеливым. Но твое вранье меня доведет. А ты меня знаешь. Шеф недоволен тобой еще и потому, что ты нарушил договоренность.
– Какую договоренность! – возмутился Оценщик. – Ни о чем мы с этим… твоим… не договаривались.
– После того, как ты продал Олёну моему шефу, – Сальвадор, будто на занятиях дикцией, старательно выговаривал каждое слово, видимо, и впрямь утихомиривал себя, – ты должен был держаться подальше от нее. Но как только последний ее покровитель, мудак этот страусиный, Хачапуров, отказал ей в средствах, ты возобновил с ней отношения, подыскал ей квартирку в Камергерском переулке и похаживал к ней.
– Ну и что? – сказал Оценщик. – Отчего бы и не поддержать брошенную всеми женщину?
– Поддерживать ее ты мог только трепотней. Ну, цветочками или коробками конфет. Платить за ее квартиру у тебя не хватило бы копеек. Платила она. Значит, деньги у нее были. Откуда? Цацки свои, брюлики свои спускала. Серьги же Тутомлиной вряд ли бы стала продавать или закладывать. Они из тех, ради каких брежневская сука прокалывала уши. А ты делаешь вид, будто не знаешь, что шеф серьги Олёне не подарил, а выдал во временное пользование. Она их не вернула. А они ему сейчас необходимы. Камея-то, хрен с ней, но и ее надо вернуть… Ты шлялся к ней, потому что в тебе не утихла страсть. Ты же был романтик! Или хотя бы потому, что считал себя виноватым перед ней – ведь продал ее, за деньги отдал. А она, шлюха рваная и хитрая, могла прикидываться все еще любящей и использовать тебя, а в играх своих и проговориться…
– Я не продавал ее… – прошептал Оценщик. И в собеседниках у него был как будто бы теперь вовсе не мужик в камуфляже, а некое существо, всёобъемлющее и милосердное.
– Это ты мне говоришь! – рассмеялся Сальвадор. И смех его вышел жутковатым.
– Я не продавал ее…Я был вынужден… Я уступил ее…Я сам отошел от нее…понял: она увлеклась другим…он был ей нужнее…иначе бы я по-иному уплатил долг…Она полюбила другого…В этом все дело! И я уступил…И неизвестно, кому было хуже, ей или мне…Но я не продавал ее!
– Ты продал, продал ее! – вскричал Сальвадор и руки, освобожденные из карманов, вскинул, будто собираясь схватить Оценщика за глотку. Но тут же и опустил их. И сказал уже тихо: – Ты продал ее. И она пошла по рукам. Но эта лживая шлюха и стоила того. За нос она водила не одного тебя. А ты уперся теперь и стараешься уберечь ее от неизбежного…
– Я не продавал ее…
– Заткнись! И не бубни! – сказал Сальвадор. – Я покурю. А ты помолчи. И вспомни, как все было. Может, поведешь себя разумнее…
«Сволочь! – чуть ли не застонал про себя Оценщик. – Сволочь! Желает, чтобы я снова нырнул в дерьмо, о каком смог забыть, желает, чтобы я размяк, разжалобил себя и позволил вытереть о себя ноги. Успокоиться надо, успокоиться…» Возникли в памяти видения их первой с Олёной встречи. Видения эти были оборваны неожиданным для Оценщика соображением. А Сальвадор-то, служака и исполнитель Ловчев, рядом с Олёной – коротышка, был влюблен в нее! Вот тебе раз! Но выходило – именно так! Ярость, с какой Ловчев вскричал о лживой шлюхе, водившей за нос не одного лишь его, Оценщика, можно было объяснить неравнодушием Ловчева, по понятиям Олёны – человека пустяшного, к ней. Нынче неравнодушие это перегорело в ненависть, возможно, Олёна не только вводила Ловчева в заблуждения, но и унижала его, и теперь он стал для нее опасен…
История Оценщика с Олёной вышла чрезвычайно банальной для тех лет. Он был устроен, при делах. И хотя был воспитан романтиком и рыцарем («Ты же был романтик!» – съехидничал только что Сальвадор), деньги умел добывать самыми разнообразными способами, благо имелись приятели, с чьей помощью и удавалось проворачивать выгодные затеи. Шли грибные дожди, миллионы бумажек, обеспеченных златом, произрастали из земли, их тех же дождей и из воздуха. И было бы глупо жить тютей, печалиться о том, что родился не вовремя, и в латаных портках дожидаться окончания Смуты. Нет, по примеру своих бойких ровесников, не стесненных какими-либо понятиями о стыде и о надписях на скрижалях, людей вполне заурядных, но ушлых, надо было с азартом добывать деньги, а с ними – и независимость. Независимость от всяческих обстоятельств времени. Собственную самодержавность. А потом уж на ее базальтовом основании и служить добродетелям. И Оценщику (прозвище к нему прилепили букинисты и антиквары) фартило. Олёна же явилась из своей Бутурлиновки (или из райцентра со схожим и нищим названием) завоевывать Москву. В каждом поезде в общих вагонах прибывали тогда в златоглавую десятки таких завоевательниц. Они и сейчас торопятся или плетутся в нее. У каждой особые житейские претензии и резоны. Олёна росла в своем городишке первой красавицей и в выпускном классе была возведена на трон уездной королевы красоты. Влиятельные люди зазывали ее в Воронеж, Курск и даже Самару, но какие могут быть Воронежи, Курски и Самары, если есть Москва? Оценщик увидел ее на дне рождения соседа по двору, и были обмены первыми взглядами, и случилось безумие Оценщика. «Помешательство какое-то! – говорил он себе позже. – Наваждение!» Он был веселый и беззаботный ходок. А тут судьба его озаботила. Подарила ему страсть. Первый раз в жизни. Долго казалось, что и в последний. Расписываться с ним Олёна отказалась. Барышня была гордая и щепетильная. На ее взгляд, поход к Мендельсону мог опошлить их любовь, другим бы показалось, что она добывает московские квадратные метры и прописку. Мол, и так хорошо, и он – лучший в ее жизни мужчина. А и впрямь, поначалу все шло хорошо. Связи у Оценщика были, и не без его усердий Олёна поступила в ГИТИС, а потом была представлена Славе Зайцеву и получила от маэстро приглашение участвовать в его показах (рост и внешность позволяли, и ум, добавил Зайцев). Олёна, действительно, была неглупа и остроумна, имела и иные достоинства, некоторые из них, правда, были преувеличены слепотой влюбленного Оценщика. Но вот нетерпения свои Олёна подавить не смогла. Или не захотела.
И вышло так, будто Оценщик одарил ее лишь корытом, а ей, при ее красотах и талантах полагалось уже столбовое дворянство. И сейчас же. Снятая для нее в Чертанове квартирка (был жив еще отец Оценщика, и Олёна не захотела жить подселенкой в коммуналке) стала казаться ей жалкой и окраинно-непрестижной. Салона мадам Рекамье устроить там было никак нельзя. И первоначальные протекции Оценщика (ГИТИС, показы у Славы Зайцева) могли принести Олёне удачи лишь при долговременных стараниях. А хотелось, чтобы удачи эти состоялись не завтра, не послезавтра, не через четыре года, а сегодня. Примеры продвижений завоевательниц и охотниц, прибывших из всяческих Ковылкиных и Грязей, были на слуху. Одна из них, любовница олигарха, отправленная им в запас, получила место телеведущей с помесячным поощрением трудов в десятки тысяч долларов. Другая, побывшая женой капиталиста всего полгода, высудила при разводе полмиллиона опять же не рублей и виллу в Сен-Тропе. И так далее. А она, Олёна, была уже не какая-нибудь простушка в степном городке с конкурсной короной на голове, но не золотой, а выделанной из баночной жести. Её признала Москва, и она знала себе цену. Она так считала.
Оценщику же приходилось считать денежные знаки. В минуты холодных мыслей, когда ненадолго рассеивалось марево наваждения, он понимал, что Олёна не только нетерпелива, но капризна и ленива. Однако вблизи Олёны эти мысли исчезали. И Оценщик обещал себе, пусть и рискуя жизнью, пусть и в хождениях по краю пропасти, упования Олёны осуществить. Олёна была для него и Клеопатра, и царица Тамара, и ночи с ней (и дни тоже) он был согласен продлить любой ценой. Потому и затеял два предприятия – одно было связано с антиквариатом, другое – с торговлей книжными учебниками, тогда дефицитом. Прогорел и попал в долги. Был поставлен на счетчик. Бросился к Пашке Суслопарову, бывшему фарцовщику, у которого еще старшеклассником добывал фирменные джинсы, просить об одолжении. Говорили, Пашка одно время был связан с братками, но состояние, по всем правилам нынешней коммерции, сделал на закупке и продаже компъютеров. Пашка, хитрый стервец, лет на пять старше Оценщика, сам некогда ходил у того в должниках, но был прощен и помилован. Он, уже и не Пашка, а Павел Васильевич, катавший на «Мерседесе» с джипом охраны следом, знал, ради чего и ради кого Оценщик суетился. И знал, чем суета эта закончится. А потому просьбу Оценщика уважил. При этом как бы пошутил: «Безумству храбрых поем мы песню». Но тут же словно бы и одобрил безумство Оценщика: «Я тебя понимаю. И я тебе завидую. Она – как Шемаханская царица!» Пашкина похвала Олёны вышла сомнительной. Но Пашка-то явно выразил свое восхищение женщиной. Оценщику бы насторожиться. А ему тогда одобрения мужиками его подруги были в радость.
В ослеплении своем он был уверен, что любовь Олёны к нему равноценна его любви к ней, что они единое существо. И что даже в случае его краха, она отправится с ним на буровые вышки Уренгоя, если в том возникнет необходимость. А крах и произошел. Отзвенел будильник, сообщив серьезным людям: срок пришел, должника надобно за нарушение слова пристрелить, прирезать или подвесить за яйца. Оценщик был азартен, но казино объезжал за две версты, теперь же бросился и в казино. Эскалатор невезений потащил его вниз, все, что имел, проиграл вдрызг. Как ни унизительно было снова идти к Суслопарову, пошел. Павел Васильевич выслушал его и сказал спокойно: «Вот что, друг, если не хочешь быть закатанным в асфальт, уступи мне Олёну». «То есть как?» – ошалел Оценщик. «А так. Уступи мне Олёну, и все долги твои будут списаны. Она перейдет ко мне, а ты торгуй учебниками у магазина „Учпедгиз“ на углу Дмитровки и Камергерского, раз ни на что другое не способен». «Она любит меня, – сказал Оценщик. – Она не допустит никакой идиотской сделки! Да и я никому ее не уступлю!» «А вот и спросим ее, – сказал Суслопаров, – допустит она или не допустит». И полчаса не прошло, как Олёна была привезена к дому Суслопарова. «Привезена, – сказал Суслопаров, – а с завтрашнего дня сможет сама разъезжать в собственном „Порше“. Олёна, я предложил твоему другу сделку. Он считает, что ты ее не допустишь. Твое слово». Олёна, в черном, будто в трауре, но прекрасная и в трауре, подошла к Оценщику, опустилась перед ним на корточки (на пол не уселась), гладила его колени, глядела в его глаза карими очами диканьковской красавицы, слезы текли по ее чуть скуластым щекам (ведь готовилась и в актрисы), сказала: «Милый, любовь моя, я грешная женщина, я тебя не стою, мне было хорошо с тобой, но в бедности я жить не могу. Я могу остаться с тобой, но я не хочу быть тебе обузой, не хочу, чтобы ты стал из-за меня неудачником, и уж тем более не хочу, чтобы ты погиб из-за меня…» Оценщик вскочил, хлопнул дверью, долго шлялся по городу… Утром явился к Суслопарову, произнес мрачно: «Я согласен на твои условия. Она не любит меня. Кроме неудач я ей ничего не дам». «Подпиши бумагу», – сказал Суслопаров. В бумаге утверждалось, что в связи с тем, что господин Н. (Оценщик. В разговоре на Тверском бульваре исполнитель Сальвадор только так именовал человека в кепке – по чину полагалось. И автор фамилию его пока не называет. А может, и вовсе не назовет. Из-за наивной корысти приманить читателя пусть и призраком тайны. А возможно, и по иной причине. И не исключено, что человек в кепке перестанет быть участником предлагаемой автором истории. Пусть он так и остается Оценщиком) передает под покровительство господина Суслопарова П.В., свою гражданскую жену госпожу О., долги господина Н. признаются выплаченными единовременно и полностью. «Не думай, что я издеваюсь над тобой, – сказал Суслопаров. – Это каприз Олёны. Ей зачем-то нужна такая бумага». И Оценщик со злостью (на себя, на себя!) подписал документ. «И прекрасно! – сказал Суслопаров. – Сделка состоялась. Продажа и покупка совершены. И – это уже моя просьба, и не просьба даже, а условие – держись подальше от Олёны, иначе…» «Что иначе?! – вскричал Оценщик. – Да на кой мне нужна твоя Олёна!» И матерно выругался.
Страсть его преобразовалась в неистовство. Впрочем, не надолго. Черная черта была проведена в его жизни. Черный предел. Крах не только в деловых предприятиях, но в первую очередь в истории с Олёной смял, раздавил его. Она предала его. Но и он продал ее. Однако предала ли? Стало быть, и не любила, а лишь искала московских выгод, поняла, что выгоды эти следует добывать с более удачливыми кавалерами и предпочла Суслопарова. Бизнес и в любви есть бизнес. И он, сберегая жизнь, согласился на сделку. Все оправданно и целесообразно. И надо успокоиться.
Но успокоиться не мог. Тянуло его видеть Олёну каждый день, хоть бы уголком глаза, хоть бы издалека. Но не удавалось. И к лучшему. Время и отдаление от Олёны стало остужать его страсть. Знал же он о ней все. Долгое время она процветала. Суслопаров демонстрировал ее публике и был доволен своим приобретением. Прикупил домишко в Марабеле на испанском берегу, напротив Танжера. Олёна по-лягушачьи плавала там в теплых течениях и прогуливалась на яхте. Драгоценности её поражали аборигенов, владевших и семейными замками. Но провести её в столбовые дворянки не смог даже и Суслопаров. То есть он мог купить ей любой титул. Хоть герцогини, хоть принцессы, может, княжества, а может и северной конституционной монархии. А уж произвести ее в какую-нибудь баронессу фон было проще простого (что он в кураже и сделал). Но толку-то что? Что толку? В отечестве-то родном он даже и при всех своих цветных и редких металлах, при десятке прикормленных депутатов, но с корявым прошлым, в светский круг принят не был. Ему-то ладно, перенес бы. Но и к Олёне, в документах теперь – баронессе фон Кайзерслаутерн, явившейся однажды в Английский клуб (за членство внесено пять тысяч в вашингтонах) с фамильной диадемой в роскошных волосах, прочими драгоценностями, в нарядах от Лагерфельда, было проявлено высокомерие и пренебрежение. То есть было высказано молчаливое: «Пошли вон!» Все это повторилось и на Венском балу в Гостином дворе. И начались капризы Олёны, обиды, скандалы. И главное, она не знала, чего хотела. Суслопарову (и его унизили) она надоела, стала противна, и он проиграл ее в покер виноторговцу Каляеву, отчего-то имевшему среди своих прозвище «Гончий пес». И с Гончим Псом она поначалу играла в ладушки, но потом своими капризами дала виноторговцу повод напомнить ей, что она не подруга жизни, а фифа картежная, и всяких блядей ему хватает в саунах и на рыбалке. Далее она переходила от покровителя к покровителю, после Гончего Пса их было пятеро. Кто-то ее перекупал, кто-то на время принимал в свою загородную обитель из любопытства и для пополнения впечатлений. Все же баба она была благородно-красивая, а в эротических упражнениях – умелая и бесстыжая. Но в разговорах мужиков она оставалась баронессой фон Саманезнаетчегохочет. Один из ее кормильцев возжелал произвести ее в шоу-звезду (нравилось ее томное пение под гитару при свечах и с бокалом красного вина на столике), и чтобы копейки с того потекли, определил ее в Гнесинку, она вдруг распелась, продюсеры возникли вблизи нее, но она взяла и заскучала. Устававшему после трудов неправедных ресторатору Чуйкину она портила настроение сварами с уборщицами, горничной и водителем. И даже с домашними животными. «Барыня крыжопольская!» – ворчала горничная. Горбоносый повелитель из приэльбрусья произвел ее в Шахерезады, по причине женской сладости имя наложницы изменил и называл ее Сахарозадой, но провести тысячу и одну ночь они не смогли. Последним её хозяином был архитектор Хачапуров. Дела повлекли его в Калмыкию возводить страусиные фермы и монументы, он потребовал сопровождать его в Элисту, но стать подругой степей Олёна не пожелала. Горячий человек раскричался и выставил Олёну с чемоданами её шмоток на лестничную площадку. Бездомная, она вспомнила про Оценщика, и он, не вступая с Олёной в душевные разговоры, подыскал ей квартиру в Камергерском переулке, во флигеле.