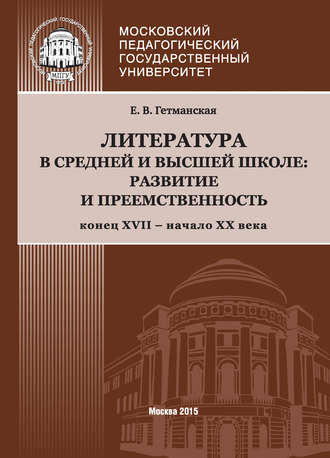 полная версия
полная версияЛитература в средней и высшей школе: развитие и преемственность. Конец XVII – начало ХХ века
М. В. Ломоносов реализует поистине новаторские начинания в процессе организации Академического университета как светского учебного заведения. Впервые именно в Проекте регламента Академии наук (1764 г.) М. В. Ломоносов предлагает отказаться от богословского круга наук, которые уместны, по его мнению, в учебных заведениях Святейшего синода, а не в светском университете. Новаторскими начинания М. В. Ломоносова выглядят не только из-за радикального отказа от богословского цикла дисциплин, но и в отношении подходов к изучению предметного литературного концентра. Давние традиции духовной школы, с обязательностью переносившиеся в светскую модель (доминирование древних языков, формально-эстетическое изучение памятников античной литературы), входили в противоречия с образовательными запросами дворянства. Привилегированные слои, приобщившиеся в XVIII веке к античной культуре, преимущественно во французской и немецкой «редакции», не принимали суровую классическую муштру, которая была принята в духовной школе (учебники на латинском языке, традиционное среди всех предметов первенство богословия). М. В. Ломоносов, почувствовав перемену в социальном адресате литературного образования, свою светскую школу строит прежде всего для удовлетворения нужд благородного сословия, нуждавшегося в расширении традиционного перечня предметов. Теперь, в философском классе академии, по мысли М. В. Ломоносова, «следует обучать слушателей обоим красноречиям (пиитике и риторике), всеобщей философии, математике, физике, механике и астрономии» [См.: Ломоносов, 1957. Т. 10, c. 67; с. 123]. Для преподавания литературного предметного концентра в философском классе академии ученый предлагает должность «профессора красноречия и словесных наук». Словесные науки в академии с 1735 года были представлены научным обществом «Российское собрание», целью которого была забота «о возможности дополнения русского языка, о его чистоте, красоте и желаемом полном совершенстве».
Реформируя все звенья академической структуры, М. В. Ломоносов не оставляет своим вниманием и методическое обеспечение изучения литературного концентра. По его мнению, грамматика, риторика и пиитика остро нуждались в новых учебниках, связывающих гимназический и университетский курсы. Учебником, соотносившим содержание грамматики со средней и высшей ступенями образования, стала «Российская грамматика» М. В. Ломоносова (1755 г.). Она составила целую эпоху в развитии русской учебной книги, считаясь в течение пятидесяти лет лучшим учебным руководством. Стремясь поднять общеобразовательный уровень академической гимназии, ученый вводит курс риторики, обновляя ее содержание в собственных учебниках.
Первыми учебниками риторики, написанными непосредственно для гимназической ступени образования, стали рукописная (1744 г.) и типографская (1748 г.) «Риторики» М. В. Ломоносова. Рукописная «Риторика» явилась первым методическим трудом для русской школы, написанной по-русски ученым, не принадлежавшим к представителям церкви. До М. В. Ломоносова учебники риторики сочинялись людьми духовного сословия и предназначались, главным образом, тому же духовенству. В науке считается, что появление ломоносовской «Риторики» освобождало, тем самым, теорию словесного искусства от церковной опеки, тяготевшей над ней несколько веков и тормозившей ее развитие [См.: Блок, 1952, с. 793]. Как нам представляется, появление в это время методического труда, фиксировавшего и разграничивавшего стили литературной речи, удовлетворяло давно назревшую потребность в смене парадигмы обучения грамматике и риторике в русской школе. До М. В. Ломоносова русская школа обучалась по учебникам, выполненным еще по матрице учебника М. Смотрицкого.
Новая печатная риторика «Краткое руководство к красноречию» явилась оригинальным пособием, не повторяющим рукописную «Риторику». Учебник был написан непосредственно для учеников академической гимназии, но автор, осознавая недостаточность учебников словесности, выносит широкую массовую адресность непосредственно в заглавие: «Риторика» обращена ко всем, любящим словесные науки» (заметим, не изучающим, а любящим). «Риторика» М. В. Ломоносова становится для учеников гимназии своеобразной энциклопедией литературных знаний, дающей широкое знакомство с произведениями античных поэтов, ораторов и философов. Так, например, в 48-м параграфе четвертой главы «О пополнении периодов и о распространении слова» приводятся примеры из речей Демосфена, Цицерона, Плиния-младшего [См.: Ломоносов, 1952. Т. 7, с. 130–132]. В ряду произведений отечественной литературы М. В. Ломоносов приводит примеры и из своих собственных сочинений: в 69-м параграфе «Уподобление» приводится 8-я строфа первой редакции «Оды на день рождения Елизаветы Петровны» (1746): «Ты суд и милость сопрягаешь, Повинных с кротостью казнишь…» [Ломоносов, 1952. Т. 7, с. 150]. М. В. Ломоносов устанавливает четкую систему обучения по своему учебнику: изучение правил красноречия, знакомство с образцовыми авторами, составление текстов, имитирующих образцы и практические упражнения. В контексте преемственности литературного образования обе «Риторики» занимают лидирующее историческое положение, являясь первыми риториками на русском языке, первой методикой изучения риторики в светской школе, первыми риторическими руководствами, созданными непосредственно для гимназии, которая изначально формировалась как подготовительная ступень для обучения в высшей школе. Впервые в истории русского просвещения ученый предлагает учебное пособие, содержание которого, по нашему мнению, представляет пропедевтический курс для гимназистов, желающих продолжить образование в университете.
Общим структурным новшеством для среднего и высшего литературного образования к середине XVIII века стало одновременное утверждение должности учителя русского языка и логики в старших классах гимназии, а также должности профессора красноречия и словесных наук в университете. Наличие близких по вектору развития процессов внутри университетской модели литературного образования (в гимназиях и университете) все же не позволяет считать эту модель системной по причине ее единичности для России данного исторического периода.
Развитие русского образования второй половины XVIII века определялось идеями Просвещения, особенно ярко проявившимися в годы правления Екатерины II. Логика «просвещенного абсолютизма» вела к усилению государственного контроля над всеми образовательными структурами, что оправдывалось пониманием просвещения как способа совершенствования нации. Новым этапом в развитии отечественной педагогики и методики явилось создание в 1755 году Московского университета. Курс словесности в университете читался на философском отделении. Знаменательно, что с самого основания университета должность профессора по кафедре словесности в нем занял воспитанник Академии наук и ученик М. В. Ломоносова А. А. Барсов. Свои чтения по словесности А. А. Барсов открыл речью 31 января 1761 года «О употреблении красноречия в Российской империи». Риторика в университете читалась по руководству лейпцигского профессора Эрнести, написавшего Intila rhetorica, при преподавании пиитики следовали пиитике французского гуманиста Жуванси, известного несколькими сочинениями по словесности (Ratio diskendi et docendi, Institutiones rhetoricae и Institutiones poëticae) [См: Шевырёв, 1855, с. 36; Порфирьев, 1901, с. 292]. А. А. Барсов не ограничивался одной теорией словесности, а присоединял к ней «разбор и объяснение писателей». Чаще всего он останавливался на произведениях древних, преимущественно римских писателей: Цицерона, Вергилия, Горация [См.: Полевой, 1900. Т. 1, с. 631]. Лучшими образцами русской литературы он считал произведения М. В. Ломоносова и подробно разбирал его похвальные слова и некоторые оды. Большое значение на занятиях риторикой А. А. Барсов придавал упражнению студентов в литературном творчестве, основанном на собственных опытах и наблюдениях за образцовыми авторами. «Риторика, – подчеркивал он, – есть собрание правил, примеров и долговременных от начала века наблюдений о разных способах, приемах и оборотах речи, посредством которых оратор всего успешнее действует на ум и волю слушателей» [Барсов, 1788, с. 156]. Таким образом, методика преподавания литературных дисциплин в период открытия Московского университета сохранила традиции ломоносовской «Риторики» и основывалась на разборах античных образцов и поэзии М. В. Ломоносова. Риторика и пиитика, утвердившись традиционными дисциплинами высшей школы, заняли центральное место в гуманитарном образовании высшей ступени.
При Московском университете были учреждены две гимназии, одна – для дворян, другая – для разночинцев. Основной задачей университетских гимназий являлась подготовка учащихся к переводу в студенты университета. Учащиеся, отлично закончившие гимназию, сдав выпускные экзамены, переходили в число студентов университета. Известно, что курс литературных дисциплин в гимназиях был очень близок университетскому: древняя словесность, риторика и пиитика изучались на обеих ступенях. Такая близость оставалась реальностью русской школы и в продолжение всего XIX века. По указу Сената гимназия делилась на три последовательные «школы»: 1) русскую; 2) латинскую; 3) «школу» новых европейских языков. В русской школе было три класса, которые соответствовали трем ступеням под названием: «Грамматика и чистота слога», «Стихотворство» и «Красноречие». Наименование ступеней было идентично предмету, который изучался на данной ступени. Повседневное руководство гимназиями осуществлялось учителями, назначенными ректором из числа профессоров [См.: Шевырёв, 1855, с. 14–15; Очерки истории школы, 1973. Т. 2, с. 85].
В истории Московского университета сохранились уникальные свидетельства о переходном классе, в который поступал выпускник университетской гимназии, еще не считаясь студентом окончательно. Перечень предметов переходного класса был весьма обширен и представлял, безусловно, модель классического образования с расширенным преподаванием литературного концентра. В этом классе, соединявшем гимназию и университет, читались философия, словесность, история просвещения, основания изящного стиля и риторика с объяснением греческих и латинских авторов, синтаксис, просодия стихотворная и прозаическая [См.: Шевырёв, 1855, с. 147–148]. Представленный перечень предметов литературного концентра в переходном классе, безусловно, связывался с желаемым и совершенным уровнем литературной подготовки выпускника гимназии, недостаточность которого и обусловила создание переходного класса. Таким образом, риторика с объяснением греческих и латинских авторов, синтаксис, просодия стихотворная и прозаическая, основания изящного стиля и словесность представляли содержание итоговых литературных знаний гимназии этого периода. Вместе с тем немногочисленность гимназий в условиях XVIII века, несформированность взаимосвязей литературной подготовки гимназии и начальной школы, обращенность гимназии только к университетскому звену не позволяют, на наш взгляд, считать ее включенной в полной мере в процесс развития преемственной модели литературного образования. Такая модель существовала в данный период только на уровне идеи или проекта.
Типология гимназического образования в России была расширена организацией отделенного от университетской гимназии Благородного пансиона. Его программа, рассчитанная на 6 лет, включала отечественную и иностранную словесность, риторику, эстетику, логику, новые иностранные языки, классические языки, историю, мифологию, историю философии [См.: Шишкова, 1979, с. 75; Шевырёв, 1855, с. 215–216]. Ученики старшего отделения посещали лекции в университете. С нашей точки зрения, пансион в дальнейшем послужил образовательной моделью для классической русской гимназии XIX века, сохранив 6-летний срок обучения и большой сегмент литературного образования. Осознавая невозможность применения такой модели в массовом российском образовании, отметим, что качество образования в пансионе подтверждается именами таких его воспитанников, как В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Н. П. Огарев, В. Ф. Одоевский, Ф. И. Тютчев.
Сословно ориентированное образование обусловливает появление в последней трети XVIII века целого ряда учебников предметного литературного концентра, предназначенных для закрытых сословных учебных заведений. Такова «Российская универсальная грамматика, или всеобщее письмословие» Н. Г. Курганова (1769 г.). Тираж «Грамматики», 600 экземпляров, позволяет судить о значимости для государства задач методического обеспечения словесности в дворянских учебных заведениях. Отметим, что «Грамматика» Н. Г. Курганова оставалась в чем-то более традиционной, чем учебник М. В. Ломоносова. Это, в частности, сказывалось на необходимых, по логике автора, ссылках на мировые авторитеты о научной универсальности грамматики, вынесенных на титульный лист (афоризмы Аристотеля, Вергилия, Иоана Дамаскина). Признавая, что его учебник – «подражание чужеземным грамматикам», Н. Г. Курганов вместе с тем подходит к составлению «Грамматики» как вдумчивый методист. Прежде всего автор характеризует свою книгу, как учебник, «предлагающий легчайший способ основательнаго учения русскому языку» [См.: Курганов, 1769, с. 3]. Думается, что автор имел право заявить «о легчайшем способе учения», так как сам упоминает в предисловии о двух причинах написания учебника: в связи с неудовлетворенностью прежде изданными грамматиками и с мыслью об обучении собственных детей [См.: Курганов, 1769, с. 1]. Ученый стремится изложить грамматику просто, доступно, на ярких примерах из поэтических и прозаических текстов, из народных песен; «учебные и полезнозабавные присовокупления» – сборник народных пословиц и поговорок, «краткие замысловатые повести», «сбор разных стиходейств», «словарь разноязычный» – занимают значительную часть книги. Благодаря содержанию «присовокуплений», книга являлась и хрестоматией по литературе, и книгой для домашнего чтения, и словарем иностранных слов. Универсальность «Грамматики» подтверждалась присутствием в ней сведений о других дисциплинах школьного и университетского курсов. В главе «Присовокупления» автор считает необходимым предложить читателю материал «О пользе и употреблении наук», в которой раскрываются предметы и объекты таких наук, как тригонометрия, гидростатика, механика, астрономия и др. [См.: Курганов, 1769, с. 381]. Целесообразность включения подобного материала, на наш взгляд, заключается в основном назначении грамматики, принятом еще Аристотелем, на которого в начале своего труда ссылается автор, – «грамматика есть всех наук основание». Таким образом, Н. Г. Курганов сохраняет в своем учебнике направление, которое мы бы обозначили как «универсальные грамматики». Универсальный характер грамматических пособий XVIII века подчеркивается в современном педагогическом осмыслении. Как пишет А. В. Смирнов, основное назначение грамматики «было в том, чтобы помочь читателю овладеть культурой устной и письменной речи, обогатить его самыми разнообразными знаниями, убедить в том, что наука для всех доступна, научить работать с книгой и, тем самым, открыть широкую дорогу к самостоятельным знаниям» [Очерки истории школы, 1973. Т. 2, с. 162].
Линию учебников для сословных учебных заведений продолжает «Краткая русская просодия, или Правила, как писать русские стихи» В. С. Подшивалова, изданная в Москве в 1796 году для Благородного пансиона при Московском университете. Несмотря на то что «Просодия» – учебное издание, она являет собой образец свободного, нерегламентированного изложения правил написания русского стиха. Об этом свидетельствует название его более краткой редакции «Письмо к девице Ф** о российском стопосложении». Значение «Просодии» от этого не умаляется, напротив, можно предположить, что автор намеренно вводит элемент занимательности в процесс изучения теоретико-литературных знаний в среднем звене, учитывая возрастные особенности воспитанников пансиона и методически верно ими распоряжаясь. Кроме того, книга поддерживает сложившуюся ранее традицию изучения дворянством литературы не только в процессе обучения, но и в свободное, личное время. Правила стихосложения в учебнике В. С. Подшивалова – не только предмет изучения, но и интеллектуальный досуг дворянства, не случайно первая часть «Просодии» была напечатана в 1794 году в журнале «Приятное и полезное времяпровождение времени». Появление в последней трети XVIII века учебников предметного литературного концентра, адресованных учащимся сословных учебных заведений, подведомственных университету, стало одной из характерных особенностей университетской модели литературного образования.
Специфические особенности преемственности литературного образования во второй половине XVIII века проявились в прочной ориентации средней ступени на дальнейшее университетское литературное образование; в базировании методологии преподавания литературных дисциплин в Университете и гимназии на методических принципах учебников М. В. Ломоносова.
Основным фактором развития связей среднего и высшего литературного образования в первой половине XVIII века становится функционирование «университетской модели литературного образования», появившейся в результате реализации петровского академического проекта.
В рассматриваемую университетскую модель, помимо правил преподавания литературных дисциплин в Академическом университете, в контекст исследования должна включаться и методика литературных дисциплин тех ступеней обучения, успешное окончание которых давало право на поступление в университет. К таковым относятся гимназии и закрытые сословные учебные заведения повышенного типа (благородные пансионы). Введение обобщающего понятия «университетская модель» обусловлено типичным характером связей среднего и высшего литературного образования в структуре Академического университета и (позднее) в структуре Московского университета и подчиненных им гимназий.
В результате создания данных структур начала развиваться модель светского, дифференцированного по отношению к духовной академии, литературного образования.
Процессы развития взаимосвязей среднего и высшего литературного образования внутри университетской модели в течение XVIII века характеризовались прежде всего:
• четкой последовательностью преподавания литературных дисциплин в гимназических классах;
• введением должности учителя русского языка и логики для старших классов гимназии, а также введением должности профессора красноречия и словесных наук в университете;
• организацией в университете переходного (от гимназии) класса, отличающегося расширенным преподаванием литературного концентра;
• созданием М. В. Ломоносовым учебников «Грамматика» и «Риторика» (в нашем определении – «пропедевтических учебников»), связывающих литературные гимназические и университетские дисциплины в течение полувека;
• появлением учебников литературного концентра, предназначенных для учебных заведений закрытого типа с высоким уровнем литературной подготовки;
• близостью литературного курса на обеих ступенях университетской модели (в гимназиях и университете), базирующейся на материале древней словесности, риторики и пиитики.
В результате этих процессов во второй половине XVIII века в методике средней ступени появились подходы, ориентирующие гимназический курс на дальнейшее изучение литературы в университете.
Вместе с тем немногочисленность гимназий в условиях XVIII века, несформированность взаимосвязей литературной подготовки гимназии и начальной школы, обращенность гимназии только к университетскому звену не позволяют, на наш взгляд, в полной мере считать ее включенной в процесс преемственности литературного образования, находящегося в этот период на стадии первоначальной институциализации.
§ 3.3. Образовательная модель духовной академии: особенности становления литературных дисциплин
В связи с начавшимся процессом коренного переустройства всего общества в начале XVIII века потребовалось и реформирование духовного образования. Славяно-греко-латинская академия в конце XVII века находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, о чем осталось историческое свидетельство Петра I: «Есть у нас, – говорил он, – и своя школа, да мало в ней пользы по недостатку должного надзора. Надобно бы поручить ее человеку знатному, с именем, с весом и снабдить как учителей, так и учащихся всеми необходимыми для поощрения их к занятию науками» [Цит. по: Устрялов, 1858, с. 356]. В начале XVIII столетия Славяно-греко-латинская академия утрачивает свой исключительно духовный характер, становится на практике учебным заведением, пригодным для гражданского сословия. Теперь в нее могут поступать все, желающие получить необходимую подготовку как для продолжения учения за границей, так и для поступления в иные, появившиеся при Петре, школы [См.: Порфирьев, 1901, с. 11; Смирнов С., 1858, с. 78].
Преподавание литературного концентра в академии начала XVIII века, прежде всего, связано с именем С. Яворского. Его сочинение «Риторическая рука», переведенное на «славенский» язык Ф. Поликарповым, стало учебником риторики для слушателей академии. Центральное место в учебнике С. Яворского занимает учение о правилах построения проповеди. По авторитетному мнению В. П. Вомперского, главная дидактическая задача проповеди в трактовке С. Яворского состояла не столько в том, чтобы быть понятным каждому слушателю и действовать на жизнь, сколько в соблюдении всех правил риторики [См.: Вомперский, 1988, с. 74]. Эта констатация, на наш взгляд, имеет прямое отношение к постепенному высвобождению риторики от канонизированного церковного контекста.
Теоретическая база реформы Академии разрабатывалась Ф. Прокоповичем в «Духовном регламенте» (1721 г.). Планируемый «Регламентом» восьмилетний академический курс должен был слагаться из следующих дисциплин: грамматика, объединенная с географией и историей; арифметика и геометрия; логика и диалектика; риторика, преподающаяся вместе с пиитикой или раздельно от нее; политика краткая; физика и метафизика; богословие [См. Духовный регламент, 1823, с. 85]. В первый год должна была преподаваться грамматика вместе с географией и историей; во второй год – арифметика и геометрия; в третий – логика и диалектика; в четвертый – риторика вместе или раздельно со стихотворным учением (пиитикой), в пятый – физика, в шестой – политика, в седьмой и восьмой – богословие. На первый взгляд, только последний предмет имел специальное значение. Однако, его расположение на финише обучения, когда его изучали более зрелые в интеллектуальном отношении юноши, приводит к мысли о том, что все обучение преследовало главную цель – дать образование, пригодное для профессии духовного сословия.
Риторика, пиитика и логика, вовсе не имеющие специального значения, должны были бы относиться к общеобразовательным предметам. Однако целый ряд исследователей отмечает, что эти науки, не будучи введены ни в какое другое специальное образование, имели религиозно-ориентированный смысл и значение [См.: Кедров, 1886, с. 195; Порфирьев, 1901, с. 34; Владимирский-Буданов, 1873, с. 170]. Таким образом, «Регламент» (как предписывающий документ) все же сохранял в качестве основного результата изучения литературных дисциплин распространение истин религии посредством проповеди. В то же время, в отличие от существующей на тот момент практики академии, «Регламент» Ф. Прокоповича предполагал воспитывать в духовной академии ученых-богословов по началам европейского образования, не в одном каком-нибудь направлении, а вообще просвещенных пастырей и вместе с этим образованных членов общества. По мнению законодателя, именно к этому и готовили такие предметы, как риторика, пиитика и логика. Так, новая академическая программа, на первый взгляд не ставящая конечной целью приобретение специального духовного образования, в то же время его подразумевала.
Как и в ранее рассмотренных педагогических трудах этого периода, в «Регламенте», несмотря на жанр общей духовной декларации, даются обширные методические рекомендации. Так, например, в правилах учения (регулах) на материале грамматики и риторики предлагается общий метод учения: «Определенным и добрым учителем приказать, чтобы они исперва сказывали ученикам своим вкратце, но ясно, кая сила есть настоящего учения, Грамматики, например, Реторики, Логики и прочая, и чего хощем достигнути чрез сие или оное учение, чтоб ученики видели берег, к которому пловут, и лучшую бы охоту возеимели, и познавали бы повседневную прибыль свою, також и недостатки» [Духовный регламент, 1823, с. 82]. Большое значение в «Регламенте» придается и учебнику: законопроект рекомендует «выбрать лучшие учебники по грамматике и риторике и приказать, чтоб оных руководств, а не иных, учено в школах» [См.: Духовный регламент, 1823, с. 83]. Таким образом, впервые на государственном уровне регламентировалось и законодательно закреплялось использование при обучении в академии конкретных учебников грамматики, риторики и пиитики.

