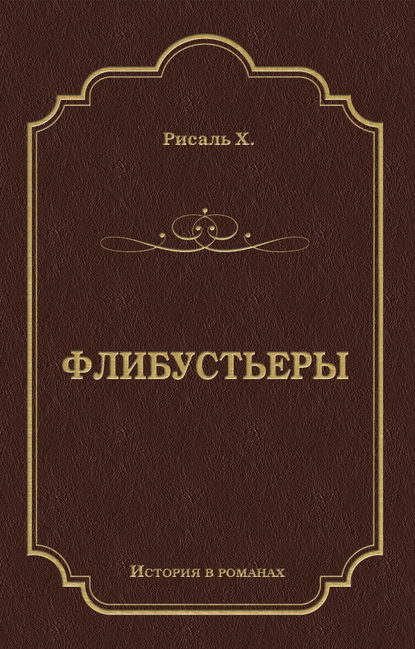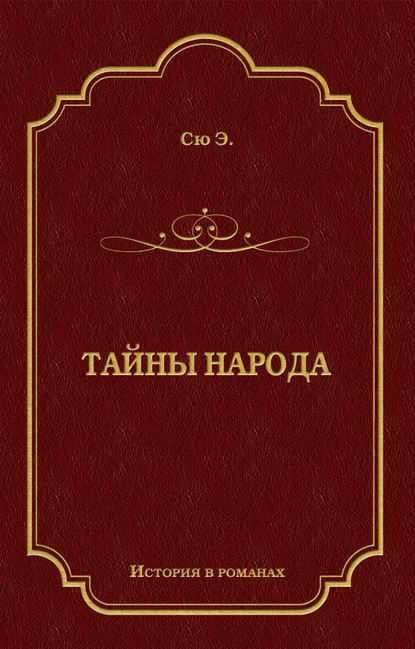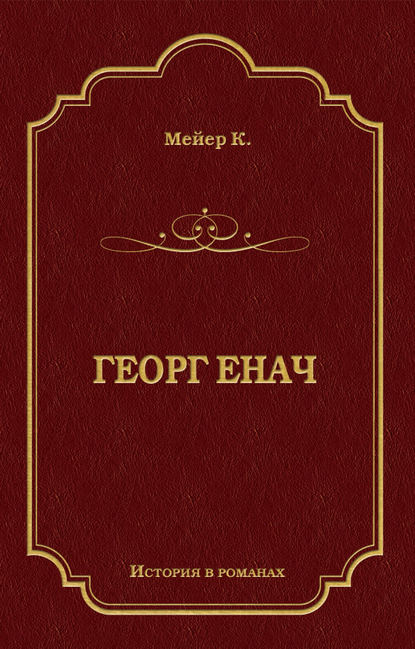Полная версия
Ганзейцы
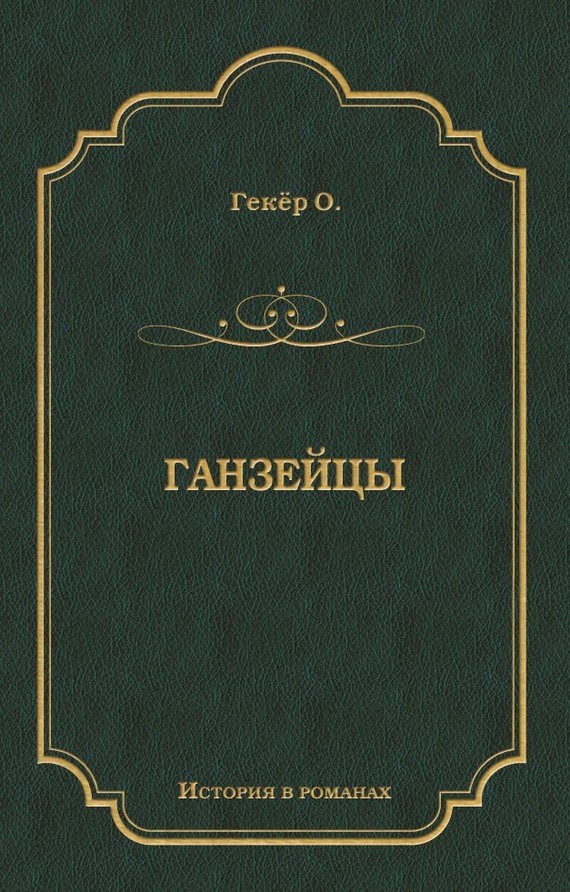
Оскар Гекёр
Ганзейцы
© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
* * *I. За кружкой эля
Лондон праздновал день нового, 1361 года. Мрачные времена сурового пуританства в ту пору еще не наступили для Ла, и дух игривой веселости, свойственной быту Старой Англии, живой струей, кипучим ключом бил в сердце королевства, в Лондоне – в центре богатой торговой и промышленной страны. Предки нынешних, сухих и скучных, сынов Альбиона пользовались каждым праздником, чтобы предаться веселью и утехам всякого рода, и вот почему в описываемый нами день Нового года толпы разряженных и веселых горожан всюду бродили по улицам обширного города и внутри, и вне городских стен, некогда воздвигнутых римлянами. На льду городских рвов и пригородных прудов резвилось на коньках юношество; более взрослые молодые люди забавлялись примерным боем на копьях, и около бойцов стена стеной теснилась толпа зрителей, состоявшая из почтеннейших граждан, их жен и дочерей. Но более всего тесноты и давки было на площади перед Вестминстерским дворцом, где выжидали обратного проезда лорд-мэра, с его придворным штатом: согласно давнему обычаю, лорд-мэр отправился поздравить короля с наступившим Новым годом, и король Эдуард III должен был пригласить его к своему обеденному столу. Да и стоило посмотреть на этот торжественный поезд лорд-мэра! Было там чему подивиться! Свита его состояла из камергеров и маршалов, из меченосцев и архивариусов, из капелланов и егермейстеров, из множества пажей и ольдерменов, разодетых в богатые наряды.
Но лорд-мэра на этот раз пришлось подождать, а потому и неудивительно, что некоторые менее терпеливые отделились от ожидавшей его толпы, утешая себя тем, что еще увидят главу города Лондона в тот же вечер на улице Темзы, через которую лорд-мэр неизбежно должен был проехать, направляясь к торговому двору остерлингов (так обыкновенно исстари называли англичане нижненемецких купцов, проживавших в Лондоне).
Более всего оживлены были пивные и таверны, которых в то время было в Лондоне великое множество. Со времени установления торговых сношений Англии с югом Европы, с тех пор как произведения Испании, Италии и даже Греции стали провозиться в Англию морем, вино стало быстро вводиться в общее употребление и явилось мощным соперником элю, любимому исконному напитку англичан. Даже и благороднейший рейнвейн проник в Лондон с тех пор, как Генрих II даровал право ввоза этого вина осевшим в Лондоне кёльнским купцам. Однако же рейнвейн можно было достать только в некоторых лучших тавернах, к которым принадлежала и таверна «Вепрь», впоследствии прославленная Шекспиром, избравшим ее для подвигов Фальстафа и других своих героев.
Но и не только в лучших, а и в самых плохеньких тавернах в описываемый нами день Нового года едва можно было протолкнуться, так что двое иноземных гостей едва-едва могли найти себе местечко в одной из таких таверн, в улочке Всех Святых. Двое моряков и несколько ломовых извозчиков оказали, однако же, иностранцам столько внимания, что потеснились на лавке, очищая место, причем один из них воскликнул, обращаясь к тому из двух пришельцев, который был пониже ростом:
– Ба! Мейстер Нильс! Как же это вы в Лондон прибыли и не сочли нужным разыскать здесь вашего старого приятеля?
– Вы укоряете меня напрасно, Бен! – отвечал мейстер Нильс. – Я всего только несколько часов назад прибыл в Лондон на готландской шнеке «Святой Фома».
– А! Славное судно! – заметил тоном знатока один из присутствующих моряков. – Киль – пятьдесят пять локтей, а длина палубы – двадцать три сажени.
– И корма на носу двухъярусная, – добавил другой моряк.
– Ну, значит, вам было сюда удобно плыть, – сказал Бен, который и сам владел маленьким грузовым суденышком, и частенько бывал в Визби, где и познакомился с датчанином Нильсом, золотых дел мастером. – А как поживает ваша стройная красавица дочка, Христина? Небось все еще по-прежнему с пренебрежением отказывает всем своим женихам.
– Что будешь делать! Такой уж упрямицей уродилась, – проворчал Нильс, чокаясь своей глиняной кружкой с кружкой соседа. Потом, отхлебнув пива, он поморщился и сказал:
– Ну, уж и пиво! Одна только слава!.. Такое жидкое, что его хоть бочку вытяни – не захмелеешь!
– В этом никто другой не виноват, как лорд-мэр и его ольдермены! – воскликнул один из ломовиков. – Это им, видите ли, неугодно, чтобы нам варили пиво получше да покрепче этого!
– Боятся нас споить! – смеясь, заметил старый моряк. – А ведь и при этом дрянном пиве пьянство ничуть не меньше: ночная стража не успевает подбирать всех пьяниц, которые валяются по улицам и под воротами домов!
– По-моему, – сказал Бен, – для праздника следовало бы потешить душу, пойти в винный погребок да винца хорошенького испить!..
– Черт бы их побрал – все эти погребки! – раздалось несколько голосов разом. – Эти погребки – тоже новинка, которой мы немецкой Ганзе обязаны. Кабы не она ввезла к нам вино, так нам не посмели бы давать такого пива!
– Что верно, то верно! – заметил старый моряк. – Им-то – барыш, а нам – все убыток.
И все разразились бранью в адрес нижненемецких купцов, возбуждавших в Лондоне всеобщую зависть и нерасположение к себе своим процветанием и богатством.
– Вашему сотоварищу, кажется, не очень по вкусу пришлась наша брань против немцев! – сказал старый моряк, указывая на спутника Нильса, который опустил голову на руки, грустно наморщил лоб и тяжело вздохнул.
– Ошибаетесь, почтенный друг, – перебил моряка золотых дел мастер. – Уж если кто имеет право поносить ганзейцев, так уж, конечно, мой сотоварищ, потому что эти немецкие вороны отняли у него все, и он теперь нищий!
Это заявление вызвало в присутствующих большое участие к иноземцу, и вскоре вокруг обоих датчан образовался тесный кружок.
– Мой друг, которого вы здесь видите, был богачом! – продолжал Нильс. – И много кораблей плавало по морям от его торговой фирмы! Кто не знал большого торгового дома, принадлежавшего Кнуту Торсену?
– Так это и есть господин Торсен? – воскликнули многие из присутствовавших моряков, поспешно снимая с головы свои матросские шапки (всем им доводилось перевозить грузы этой фирмы), и Бен еще сильнее подействовал на них, добавив:
– Да! Теперь я понимаю, что господину Торсену не могло прийтись по вкусу наше жиденькое пиво. Клянусь святым Георгом! Здешней таверне никогда еще не случалось принимать у себя более почетного гостя!
Сумрачное выражение несколько прояснело на лице Торсена. Он пожал руку ближайшим из своих соседей по лавке и сказал:
– Спасибо вам за доброе обо мне мнение! Мейстер Нильс не преувеличил ничего, говоря вам, что меня Ганзейский союз вконец загубил…
– И вы не единственная жертва этих хищных гильдейцев! – перебил Торсена старый моряк. – И тем более стыдно нам, независимым англичанам, что наши короли дают больше прав и привилегий этим немецким проходимцам, нежели своим собственным подданным.
– Выгнать бы их всех отсюда! – закричали многие.
– Пусть нам господин Кнут Торсен расскажет о себе, как это с ним случилось, – требовали другие.
Только по прошествии некоторого времени шум и гам приутихли, и все собрались в кружок около датчан, желая услышать то, что мог им рассказать разорившийся купец.
Он рассказывал долго, много и подробно, и когда, наконец, смолк, то шум поднялся снова. Еще бы немного, и все бывшие в таверне готовы были гурьбой двинуться к близлежащему торговому двору ганзейцев и потребовать отчета от их здешнего главы и представителя. Лондонская чернь радешенька была каждой возможности выказать ненавистным ганзейцам свое недовольство.
– Я человек миролюбивый! – сказал Кнут Торсен, стараясь успокоить присутствующих. – Я вот и приехал в Лондон, чтобы вступить в переговоры с ольдерменом здешнего торгового двора. Господин Тидеман фон Лимберг – высокоуважаемый и богатейший купец, и я надеюсь, что он поможет мне возвратить мое утраченное достояние.
– Да, коли он этого захочет! – проворчал старый моряк. – Но ведь он такой упрямец, что осмеливается идти наперекор даже и нашему доброму королю Эдуарду.
– Ну, что за диво – король! – вступился один из ломовиков. – Король безгласен перед Тидеманом, от которого он зависит, хотя еще и неизвестно, будут ли ганзейцы и впредь ссужать короля деньгами. Я слышал от своих приятелей кёльнских корабельщиков, что еще намедни король давал секретно аудиенцию их землякам и совещался с ними, потому никак не мог выкупить своих клейнодов, заложенных кельнским купцам. Эти торгаши не соглашались более ждать и грозились, что пустят в оборот свой драгоценный залог… Ну так вот, Тидеману и удалось их как-то образумить. Вот-то Эдуард был этому радешенек и ольдермену Ганзейского торгового дома, вероятно, поднесет за услугу недурной подарочек!
– Да! Да! – подтвердил Бен. – Тидеман человек умный, и с тех пор, как он здесь от Ганзы поставлен ольдерменом, он не потратил времени даром. Ведь вот уж нынче кончился срок контракта, по которому сын нашего короля Черный Принц предоставил ему разработку свинцовых руд, и никто не думал, что король решится возобновить этот невыгодный для него контракт… Однако господин Тидеман сумел так его обойти!
В ответ на эти слова послышался и смех, и ропот. Когда голоса стихли, Кнут Торсен сказал:
– Быть может, я застану ольдермена в благоприятном для меня настроении, во всяком случае, хочу попытать у него счастья…
Все в один голос крикнули: «Конечно! Попытаться следует!» Бен с удовольствием потер руки и сказал:
– Я всегда бываю рад, когда что-нибудь против ганзейцев затевается. Сегодня было бы это как раз кстати!
– Ну, вот еще! – зашумели многие. – Разве не все дни равны?
– Конечно, не все! – возразил Бен. – Сегодня вечером в большой зале торгового двора ганзейцев соберется купеческий совет, и на это торжественное заседание обычно приезжает и сам лорд-мэр; а затем ганзейцы должны будут открыть настежь средние ворота своего торгового двора, а эти ворота только раз в году и открываются…
– Еще бы они их чаще открывали! Они ведь наших кулаков порядочно побаиваются…
– Вот в том-то и дело! – заметил Бен. – А ведь в эти большие ворота мы могли бы целой гурьбой ввалиться…
– Дайте мне сначала попытаться добром поправить мое дело, – сказал Торсен, – а если меня примут на торговом дворе неласково, так тогда я прибегну к вашей помощи.
– Что ж, попытайтесь! – крикнули ему с разных сторон и с почетом проводили обоих датчан до дверей таверны.
II.На торговом дворе ганзейцев
Кнут Торсен был не пара своему сотоварищу, так как Нильс был низкого происхождения и очень плохо образован, между тем как Торсен и родом был знатен, и образование получил по тому времени превосходное. Это можно было видеть и по всем внешним его приемам. Кнут Торсен мог бы, пожалуй, прослыть и очень красивым человеком, тем более что имел благородную осанку и умное выражение лица; но выражение его голубых глаз было весьма неприятно. В его глазах светилось коварство, и то невыгодное впечатление, которое производил этот взгляд, еще усиливалось противной улыбкой, беспрестанно появлявшейся у него на лице.
Нильс был очень невелик ростом. Длинные белокурые волосы почти прикрывали весь его низкий лоб и отдельными прядями падали на глаза. Красное, лоснящееся лицо его слишком ясно указывало на то, что золотых дел мастер был большим любителем всяких спиртных напитков.
Оба датчанина направились к Ганзейскому торговому двору, расположенному повыше Лондонского моста, который, как известно, долгое время был единственным мостом, соединявшим оба берега Темзы. Обширные верфи торгового двора простирались вверх по берегу до самой южной оконечности улицы Темзы; с западной стороны двор примыкал к улице Даугэт, получившей свое прозвание от древних ворот в римской стене Лондона; с восточной – двор огибала улочка Всех Святых. Первоначально двор, заложенный кёльнскими купцами, был очень мал и всей своей постройкой напоминал подобные же дворы, уцелевшие и доселе в Германии. Но с самого своего основания этот двор был для немцев местом, в котором они могли чинить суд и расправу по своим законам. Двор, собственно говоря, состоял из ряда домов, амбаров и лавок, окружавших довольно обширное пустое пространство; на этом пространстве помещались огороды, площадь для игр и воинских упражнений ганзейцев; на ней же происходили и всякие общие торговые собрания. И в других городах Европы торговые дворы ганзейцев устраивались на тот же лад, и внутренние площадки их служили как для торговых целей, так и для сходок ганзейцев. Сверх всего, упомянутого нами, внутри лондонского двора находилось еще обширное крытое помещение, или зала, для сношений с местными купцами и для собраний купеческого совета.
Одним словом, лондонский двор, построенный кёльнскими купцами по образцу всех остальных ганзейских дворов, представлял собой клочок земли, окруженный высокими стенами, и на этом клочке немец не только находил верное убежище себе и безопасный склад своему товару, но и такое место, в которое он переносил свои обычаи и где чувствовал себя как дома. Когда торговые дела лондонского двора начали расширяться, то и сам двор стал возрастать в объеме, и уже в правление Ричарда II ганзейцы приобрели громадный соседний дом, примыкавший к их двору. В XVIII веке были прикуплены еще другие соседние постройки; между ними находился и очень красивый дом, который почему-то носил название Стил-хауза (Steel-house) или Стил-ярда (Steel-yard)[1].
По окончании всех этих прикупок, округлив свои владения, ганзейцы (к кёльнским купцам примкнули впоследствии и другие нижненемецкие) возвели на своем участке крепкий замок, соответствовавший по устройству своему потребностям богатого средневекового торгового учреждения.
Особенно красив был фасад этого здания, выходивший с северной стороны на берег Темзы; оно состояло из нескольких этажей, и здесь-то и находились трое ворот с округлыми сводами, крепко-накрепко притворенные и обитые толстыми полосами кованого железа. Над каждыми из ворот стояла своя, особая надпись. Одна из них указывала на то, что вступающему в Ганзейский двор хозяева его предлагают «радость и довольство, мир, спокойствие и честное веселье»; другая гласила, что «золото должно порождать искусства и само должно быть плодом трудолюбия»; третья, наконец, угрожала карой тому, кто осмелится нарушить обычаи ганзейцев. Под самой крышей красовался на доме двуглавый орел – герб Германской империи. Крепкие, неприступные стены окружали «Стальной двор», захватывая в свою ограду и древнюю, круглую башню, которая принадлежала еще к римским постройкам, ограждавшим вход в лондонскую гавань. В этой башне, примыкавшей к большому залу, главному месту действия всех празднеств и публичных собраний, хранилась казна ганзейцев – их харатейные[2] торговые книги и важнейшие драгоценности. Внутри стен двора находилось «особое государство в государстве» – особый мир, в котором жизнь текла на свой, особый лад, подчиняясь строжайшему, почти монастырскому уставу и проявляя значительный оттенок религиозности.
В описываемый нами праздничный день все на «Стальном дворе» было приведено в такой порядок, так прибрано и подчищено, что иноземные гости, когда привратник впустил их в ворота, не заметили внутри даже и признаков того суетливого движения, которое здесь кипело с утра до вечера в будни. Нельзя было даже и предположить, что, вступая на тот клочок земли, на котором постоянно толклись купцы и приказчики из шестидесяти с лишком ганзейских городов, ворочая и громоздя тюки товаров, длинными рядами поваленных и внутри двора и на берегу, или перебегая от одной лавки к другой. Об этом обычном торговом движении можно составить себе некоторое понятие только потому, что через Ганзейский лондонский двор ввозились в Англию все известные тогда в Европе предметы торга и промысла, какие были доступны европейской торговле! Такая же тишина, как и во дворе, господствовала и на громадных верфях Ганзейского двора, окруженных высоким молом, о который во время прилива шумно плескались волны Темзы и к которому свободно причаливали тяжело нагруженные большие морские суда.
Привратник отвел Торсена к главному сторожу дома, который принял его в своей холостяцкой каморке (по строгому обычаю ганзейского двора все служащие в нем не имели права жениться, о чем немало горевал этот старый сторож, ощущавший большой недостаток в женском уходе).
– Вы желаете, чтобы я свел вас к нашему господину ольдермену? – спросил сторож у чужеземного гостя. – Если вы пришли по торговому делу, то вам придется обождать до завтра, потому – сегодня праздник и, сверх того, наш господин Тидеман занят по горло, так как сегодня вечером предстоит ему председательствовать в большом купеческом совете.
– Я желаю быть принят в состав здешнего Ганзейского двора, а следовательно, и в состав Ганзейского союза, – отвечал Торсен.
– В качестве хозяина или в качестве приказчика? – переспросил осторожный сторож.
– Я думаю, вы об этом можете и сами судить по моим летам и по внешности, – обидчиво возразил Кнут.
– Ну, нет! – с улыбкой ответил сторож. – У нас и приказчики бывают постарше вас; а впрочем, я о вас доложу господину ольдермену, который теперь изволит быть в комнате совета.
Когда немного спустя домовый сторож вернулся с известием, что господин Тидеман готов принять иноземного гостя, Торсен заметил, что сторож зорко его осматривает.
– Меча при вас нет, – пояснил сторож, – а только кинжал за поясом. Только уж будьте добры, пожалуйте мне его сюда.
– Разве у вас ношение оружия воспрещено? – спросил Торсен, вручая сторожу свой кинжал. – А мне говорили, что каждый купец на вашем дворе должен иметь и шлем, и броню, и все необходимое оружие.
– Совершенно верно! – подтвердил домовый сторож. – Все живущие на здешнем дворе должны быть, действительно, во всякое время готовы к борьбе с оружием в руках, не только ради собственной безопасности, но и ради выполнения старинного обязательства, которое мы на себя приняли по отношению к городу Лондону, гостеприимно приютившему нас в своих стенах. Мы, ганзейцы, обязаны принимать участие в защите города и ввиду этого обязательства должны не только поддерживать самое здание Епископских ворот, выходящих на северную сторону города, но, если бы того потребовали обстоятельства, мы обязаны даже содержать на этих воротах стражу и заботиться об их защите.
– Тогда и я, значит, мог бы оставить при себе оружие, – сказал датчанин.
– Если бы вы были ганзейцем, то вы бы могли его сохранить у себя, в вашей каморке. А так как вы еще не ганзеец, то находящееся при вас острое оружие должно храниться у меня до самого вашего ухода. А теперь пожалуйте наверх: господин ольдермен ждет вас там.
Домовый сторож вывел Торсена из здания, в котором находилась зала собраний, провел его через небольшой садик, в котором немцы посадили несколько вывезенных из Германии лоз и фруктовых деревьев, и привел его в другой дом, поменьше первого, в котором собиралась купеческая дума. Там, за громадным прилавком, на высоком помосте, сидел за своей конторкой ольдермен.
То был человек худощавый, с седеющими волосами и резкими чертами лица. Во всей осанке его было нечто аристократическое, нечто приобретенное путем частых сношений с «великими мира сего» – с королями и князьями. Он говорил тихо и сдержанно, время от времени покашливая, и лишь очень редко позволял себе дополнить речь небольшим движением руки.
Датчанин невольно поклонился ольдермену ниже, нежели вообще имел привычку кланяться, и Тидеман ответил ему легким кивком головы. При этом он указал на один из стульев с высокой спинкой и спросил гостя о цели его прихода.
– Я желаю здесь, в Лондоне, поселиться, – отвечал Торсен, – и желал бы поступить в число членов вашего здешнего торгового двора.
Ольдермен кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил:
– А знакомы ли вы с обычаями нашего двора? Они ведь очень суровы. Все преступающие положенные нами правила подлежат тяжкому взысканию.
– Как обойтись без порядка там, где должны господствовать мир и спокойствие? – отвечал датчанин. – А ведь все суровые предписания вашего общежития только к этой цели и направлены. Насколько мне известно, на ганзейских торговых дворах высокими денежными пенями наказывается лишь тот, кто дерзнет произнести бранное слово или дозволит себе ручную расправу; такие же точно пени положены за игру в кости, пьянство и другие подобные проступки. Все это такие постановления, которым охотно подчиняется всякий благовоспитанный человек.
Ольдермен опять кивнул головой.
– А как вас зовут? – спросил он после минутного молчания.
– Кнут Торсен.
Ольдермен поднял сначала глаза кверху, как бы о чем-то размышляя, потом перевел их на Торсена и продолжал свой допрос:
– Откуда вы родом?
– Из Визби.
– Визби? – переспросил Тидеман с некоторым удивлением. – Судя по имени, вы как будто датчанин?
– Я и действительно родился в Дании, но уже в юности переселился на Готланд.
– И вы занимались торговлей?
Торсен отвечал утвердительно.
– И ваше имя – Кнут Торсен?.. Гм, где же это я его как будто уже слышал?
Ольдермен приложил левую руку ко лбу и стал припоминать. Не ускользнуло при этом от его внимания и то, что датчанином при последних словах овладело некоторое беспокойство, которое еще более возросло, когда ольдермен подозвал к себе одного из сидевших в стороне писцов и приказал ему принести книгу постановлений Ганзы.
Прошло довольно много времени, прежде нежели посланный вернулся с громадным фолиантом, переплетенным в кожу и окованным железными скобами. Торжественно возложил он фолиант на конторку перед господином ольдерменом. В течение всего этого времени Тидеман не проронил ни единого слова. Он был до такой степени глубоко погружен в размышление, что даже не расслышал, что именно говорил датчанин, старавшийся скрыть свое смущение.
– Кнут Торсен, – бормотал про себя ольдермен, разворачивая фолиант и пробегая алфавитный список имен, упоминаемых в нем; затем быстро стал перелистывать книгу, пока, наконец, указательный палец его не остановился на одной из страниц… – Вот оно! – воскликнул ольдермен, сверкнув глазами. – «Кнут Торсен» – так и есть! – здесь-то я и вычитал это имя. Да, да, память мне не изменяет! «Кнут Торсен, купец в Визби, вследствие непорядочного способа действий и нарушения постановлений Ганзейского союза из состава членов его исключен…» Ах, милостивый государь! И вы после этого еще изъявили желание вступить в наш торговый двор? Вы преднамеренно умалчиваете о вашем прошлом, чтобы меня провести, – да! Чтобы меня провести! – повторял он, повышая голос, так как он видел, что датчанин желает перебить его. – И если бы я не обладал такой отличной памятью, то ваш обман вам бы и удался! Тогда уж я оказался бы виноват перед моими сотоварищами. Ну, сударь, надо сказать правду: это с вашей стороны было не похвально!
– Вы иначе взглянете на дело, если узнаете те поводы, которые привели к моему исключению из союза, – возразил ольдермену Торсен.
– Вы думаете? Действительно вы так думаете? – спросил ольдермен с оттенком сомнения в голосе. Затем он покачал головой, опять заглянул в фолиант и стал читать вслух следующее: – «В январе тысяча триста пятьдесят восьмого года воспоследовало в высшей купеческой думе, в Любеке, по поводу несправедливости, оказанной немецкому купцу во Фландрии, постановление: прервать всякие торговые сношения с вышепоименованной страной и приказать всем ганзейцам, дабы они не продавали там своих товаров и не получали таковые ни от фламандцев, ни от брабантцев. А кто из членов Ганзейского союза, – так написано далее в постановлении, – преступит это наше решение, тот будет лишен всего своего имущества, которое отчисляется в пользу его родного города, а он сам навсегда изгоняется из состава немецкого Ганзейского союза». А так как проживающий в Визби ганзеец Кнут Торсен не только не соблюл выданного нами постановления, но и после вступления его в законную силу продолжал, как и прежде, свои торговые сношения с Фландрией, то он признан виновным в неповиновении и нарушении верности союзу, и потому вышеупомянутое в постановлении наказание применено по отношению к нему и к его имуществу».
Ольдермен захлопнул фолиант, откинулся на спинку своего стула и зорко глянул в лицо датчанину. Суровое выражение его лица ясно говорило датчанину, что ольдермен вполне разделяет приговор, произнесенный Ганзой.
– Я вовсе и не пытаюсь обелить перед вами мой проступок, – начал Торсен не совсем уверенным голосом (и только уже при дальнейшей речи его голос стал несколько более твердым), – не стану в извинение своей вины ссылаться и на то, что транспорт фламандских и брабантских товаров уже находился в пути и был направлен ко мне в то время, когда последовало постановление любекской думы; всякий беспристрастный человек и без моих оправданий поймет, что обрушившееся на меня наказание не состоит ни в каком соотношении с совершенным мною проступком. Я был более чем зажиточным человеком и мог с истинной гордостью взирать на плоды моих трудов. И вдруг у меня отнимают все, что добыто было мной путем многолетних, тяжких усилий, – делают меня бедняком!.. Мало того, я даже не смею помышлять о том, чтобы вновь начать торговлю! Я исключен из ганзейцев, я – отверженный, с которым каждый должен поневоле избегать всяких деловых сношений из опасения, что и его может постигнуть такой же суровый приговор Ганзы. Что же мне теперь делать? Как могу я теперь пропитать себя честным путем, когда мне ниоткуда нельзя ждать помощи, когда я напрасно стал бы молить даже о сострадании к себе!