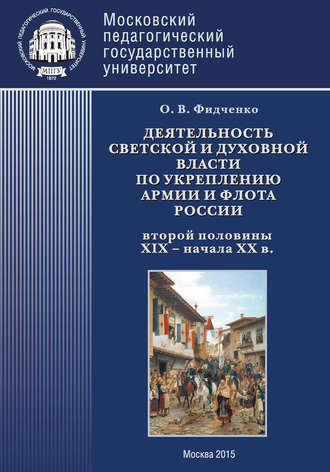 полная версия
полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография
Ограничивать защиту берегов Финского и Балтийского моря одними миноносцами значит оставить их открытыми для высадки десанта, так как десант можно высадить в благоприятную погоду почти во всяком месте, вне крепостей можно высаживаться и там, где берег имеет прямизну и где нет никаких бухт. Трудно согласиться, а для русского флота и ошибочно строить суда только с оборонительной целью. Суда русского флота, какого бы они ни были водоизмещения, должны быть океанскими и обладать качествами совершать успешные переходы от Балтийского моря в Тихий океан всяким путем, а не одним Суэцким каналом [25, л. 75–75 об.].
Окончательный вывод, к которому приводит записка о постоянном и притом усиленном флоте в Тихом океане, заключается в том, что ожидать 7 лет опасно, что довольствоваться одним Владивостоком значит заранее готовить себе неудачу, что надо занимать незамерзающие бухты сейчас, соединить их рельсами с Сибирской железной дорогой, в бухтах этих начать строить адмиралтейства для всякого ремонта, а следовательно, для постройки судов. Желательно не опоздать, тем более что, вероятно, Япония, вопреки объявленной программе судостроения, удвоит или значительно ее увеличит. Такое предположение имеет за собой очень много данных: а) контрибуция с Китайской империи, в) сознание японского правительства в крайней необходимости иметь флот, с) созревшее решение занять Корею, которое, по имеющимся сведениям, начинает уже приводиться в исполнение [25, л. 75 об.].
Все это вместе еще раз доказывает неизбежную для России потребность теперь же ввести войска в Корею с целью или очистить ее от японцев, или чтобы освободить страну от повстанцев и водворить там мир и порядок, с тем ли, чтобы обеспечить спокойствие нашей границы, или с иной реальной целью – пока безразлично, но ввести и там остаться [25, л. 75 об.-76].
После такого действия будет очевидно, что наша эскадра судов в водах Тихого океана должна преобразиться в постоянный восточный русский флот, безусловно сильнейший японского, у которого к нашему благополучию есть еще ослабляющая его причина – остров Формоза.
Корейский король и его наследник лично уже находятся под защитой России, остается корейскому правительству просить у нас покровительства для всей их страны; в такой просьбе нельзя будет и отказать, так как Россия всегда защищает слабых» [25, л. 75 об.-76].
Итак, моментам явной недоработки дипломатии вице-адмирал придает, на наш взгляд, неправильное значение, называя их лирическим термином «обаяние». Также высказывает субъективный взгляд на возможность объявления войны со стороны России, равно как и на корейский вопрос. Совершенно справедливым является замечание о необходимости борьбы с пьянством среди рабочих судостроительных заводов.
7. Выписка из письма командира лодки «Кореец» капитана 2 ранга Линденстрема. Чемульпо, 27 марта 1896 г. «В Иокогаме адмирал и все командиры представлялись японскому императору. Мне показалось, что нас приняли весьма сухо.
<…> Ненависть японцев к нам с каждым днем возрастает, это особенно было заметно во время нашей стоянки в Иокогаме и также и в Чемульпо.
Всю ночь 9 марта N дул со страшной силой, появился перебой винтов, корпус дрожал от ударов волн в борта, и “Кореец” едва заметно подвигался вперед, но тем не менее он держался отлично на волне, а главное, прекрасно слушался руля [25, л. 79].
В Коде пришел в 10 час. утра и там встретился с командиром коммерческого парохода, который мне сказал, что такой бури он не помнит, хотя плавает в этих водах более 20 лет. Я на “Корейце” выдержал пять сильных бурь и на основании этих опытов пришел к убеждению, что “Кореец” – чудное морское судно. При большой противной волне он берет много воды носом, но стоит уменьшить только ход, и этот недостаток в значительной мере ослабляется. При попутной волне много помогает фок, хотя тогда сильный перебой в машине [25, л. 79 об.-80].
Для Тихого океана “Кореец” и “Манджур” (здесь сохранена дореволюционная орфография написания названия корабля; сегодня оно бы писалось “Маньчжур”. – О. Ф.) весьма хорошие суда. Они имеют сравнительно весьма сильную артиллерию, берут запас угля, обладают отличными мореходными качествами, все жизненные части под водой и, кроме того, закрыты от неприятельских снарядов угольными ямами [25, л. 80].
В Чемульпо пришел в 10 утра 14 марта…На другой день поехал верхом на корейской лошади в Сеул, чтобы представиться нашему поверенному в делах действит. стат. советнику Веберу и корейскому королю, который, как известно, живет в доме нашей миссии. Дом миссии окружен нашим десантом, состоящим из 120 человек, до 19 марта, то есть до ухода крейсера 1 ранга “Корнилов”. После ухода “Корнилова” десант состоял только из 70 человек: 40 с лодки “Кореец” и 30 с мореходной канонерской лодки “Гремящий”. 21 марта ушла лодка “Гремящий” с чрезвычайным корейским посольством в Шанхай. Посольство это послано в Петербург, чтобы присутствовать при коронации. В Сеуле очень беспокоились за благополучное доставление посольства в Чемульпо, боялись, чтобы японцы не сделали чего-либо коварного; на это они большие мастера [25, л. 80 об., 81 об.].
На последних транспортах прибыло в Чемульпо много сошей (нигилистов), которые произносят в гостиницах воинственные речи. Полагаю, что они хотят устроить демонстрацию в Сеуле.
Народные волнения, как говорят, в настоящее время уменьшились, но надолго ли? Не известно. Корейцы страшно ненавидят японцев и при удобном случае убивают их.
Японцы обязаны выводить войска из Кореи, они же все время продолжают увеличивать численность своих войск. В Сеуле около 700 японских солдат. В Фрузеве и Гензеве, говорят, войск очень много [25, л. 81].
В настоящее время корейцы имеют 4000 солдат, из которых 1400 еще раньше были обучены японцами, остальные – новобранцы. Наши офицеры, по просьбе корейского полковника, принимают участие в осмотре новобранцев.
В ночь на 24 марта, около 2 часов, в то время, когда все разговлялись у поверенного в делах, в его доме вспыхнул пожар. Король страшно испугался; загорелись корейские фанзы для полицейских, примыкающие к кухне миссии. Фанза сгорела как порох; огонь перешел на крышу миссии, но благодаря молодецкой работе нашей команды пожару не дали распространиться. Паника между корейцами была страшная, все полицейские разбежались в разные стороны, так что потом их с трудом разыскали [25, л. 81–81 об.].
Корейские солдаты не вызывают доверия; многие из них подкуплены японцами.
Причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем, хотя, возможно, что было и намерение воспользоваться происшедшей сумятицей для того, чтобы сделать что-нибудь с королем.
Теперь в Чемульпо занимаюсь промером, карта рейда неверна, наверное, найдем много камней, не нанесенных на карту. Японцы смотрят на наши работы крайне подозрительно [25, л. 81 об.].
Чемульпо, 7 апреля 1896 г. В Сеуле устроена русская школа. Несмотря на кратковременное существование, около 2 месяцев, многие корейцы довольно бегло читают и пишут, хотя ничего не понимают по-русски.
Всего учеников 23, из которых большинство юноши от 16 до 20 лет, но есть и очень большого возраста, одному даже около 40 лет.
Школа правительственная, бесплатная, учителем в ней отставной штабс-капитан артиллерии Бирюков. Он с большим рвением относится к своему делу.
Еще ранее была открыта французская школа, английская же существует давно [25, л. 82].
Корейский король ни одного шага не делает, не спросив совета у нашего поверенного в делах в Корее, что для него крайне утомительно, и главное дело, он не чувствует себя компетентным во всех отраслях государственного управления.
…Многие полагают, что долгое пребывание короля в нашей миссии может повести к тому, что посадят на престоле внука Тай-ван-ку-на, и что некоторые европейские представительства работают в этом направлении.
Чемульпо, 24 апреля 1896 г. Лодка “Кореец”. Губернаторы и все чиновники грабят и притесняют народ так же, как раньше, безурядица полная, и собственно государственного строя, как это понимается в Европе, здесь нет, закон в Корее мертвая буква; каждый, у власти стоящий, действует только в своих личных интересах, а потому система подкупов в государственном правлении играет важную роль [25, л. 83].
Народ всеми силами души ненавидит правительство (за исключением разве короля) и не питает к нему никакого доверия. Говорят, что народный ропот с каждым днем усиливается, но мер к пресечению, конечно, не принимается. Вообще управление страной так запутано, там господствует такой хаос, финансы настолько плохи, что при имеемых средствах существующее ныне правительство навряд ли само в состоянии будет развязать этот гордиев узел [25, л. 83].
Против короля сильно интригует его отец Тай-ван-кун…Сделать же Тай-ван-куна безвредным, то есть удалить из столицы и поселить на один из островов, чтобы он не влиял на ход политических дел и не имел бы сообщения с преданными ему людьми, король никогда не решится, так как Тай-ван-кун его отец, а нигде не чтут своих родителей так, как в Корее, и неуважение к отцу считается чуть не самым тяжким преступлением из всех существующих [25, л. 83].
Главное преимущество японцев пред всеми другими нациями – это знание, где и как надо высаживать десанты в Корее, и громадный запас шампунок и бирж в Чемульпо и, вероятно, в других портах. Корейцы ненавидят японцев, народные восстания внутри страны, главным образом, направлены против японцев [25, л. 84–84 об.]».
8. Ответ вице-адмирала Казнакова. «Можно сказать, что всякое увеличение нашего флота в Балтике будет иметь только половину того значения, которое то же увеличение имело бы в Тихом океане [25, л. 106 об.].
До сих пор Владивосток, называющийся у нас портом, далек до того, чтобы его можно было действительно назвать этим именем. Все исправления по дефектам судов делаются во Владивостоке командами этих судов, и дело сводится к тому, что летнее время, самое удобное для обучения людей чисто морскому делу, для маневрирования эскадрами и практики всего личного состава, пропадает на те работы, при которых команды теряют совершенно свой боевой характер. Это ли готовность флота? (То же было и в сухопутных войсках. Достаточно вспомнить обращение к великому князю Николаю Николаевичу (Старшему) барона Николая Криденера от 1883 г. по поводу увеличения времени для летних занятий по ведению разведывательной и охранительной службы в кавалерии, а также записку русского военного агента в Вене полковника барона Каульбарса “О порядке прохождения военной службы в Австрии и Германии” (1883), где он перечисляет те виды работ, что отнимают время от непосредственной военной подготовки в русской армии. – О. Ф.).
В зимнее время исправленные суда отправляются по южным заграничным портам, и таким образом теряется время, столь необходимое для маневрирования и обучения личного состава [25, л. 107].
Нет сомнения, что мы должны иметь наш порт вполне оборудованным, с доками, мастерскими и мастеровыми и необходимыми запасами и складами для их хранения для того, чтобы суда могли пользоваться ими и снабжаться всем необходимым, не теряя дорогого времени. Все это будет стоить дорого, все это потребует средств и при составлении программы нашего судостроения должно необходимо занять едва ли не первое место.
До сих пор мы этого южного порта не имеем и должны, не теряя времени, приступать к оборудованию, так сказать, Владивостока, возможно энергичнее продолжая начатое ранее и развивая его до тех размеров, которые потребуются усиленным флотам [25, л. 107–107 об.].
По вопросу о составе нашего флота в Тихом океане. Остановился на 2-х таблицах итогов увеличения нашего и японского флотов в принятый А.М. предельный 1904 и 1906 год. Таблицы 5 и 7 (с. 64 и 65). Нет сомнения, что мы были бы очень сильны, если бы достигли к назначенному сроку того числа судов, которое означено в первой из этих таблиц. По правде говоря, мы могли бы и уменьшить требование, то есть нельзя же предположить, чтобы Япония могла когда-либо выставить против нас всю свою силу, показанную на с. 72 и 73. Не надо забывать, что это вовсе обнажило бы ее громадную береговую линию, которая была бы, таким образом, предоставлена на произвол наших крейсеров [25, л. 108–108 об.].
Я говорю это в том смысле, чтобы сократить возможно более расходы, требуемые на флот. По вашему расчету нам нужно, в сущности, на усиление флота всего 35 миллионов сверх ассигнованных на назначенный вами срок (1896–1904) сумм, но в расчет этот не введено ни оборудование Владивостокского порта… и не обращено внимание еще на один немаловажный расход, также опущенный в вашем труде.
…По моему убеждению, мы обязаны повести дело так, чтобы Япония, сознавая наше превосходство, ясно видела бы невозможность нападения на нас [25, л. 108 об.-109].
Отражать труднее, чем нападать, и мы должны быть готовы к нападению во всякое время, не допуская возможности нападения на нас. Япония такой враг, с которым надо считаться. У нее нет недостатка ни в смелости, ни в умении подготовиться, а мы, к сожалению, склонны к сидению сложа руки.
…Мы не должны забывать о другой нашей приятельнице – Англии. Она дружна с теми, которые сильны. При начале Китайской войны она была на стороне Китая, но, по мере успехов Японии, перешла на ее сторону. Очевидно, нам нужно скорее быть сильнее Японии для того, чтобы Англия не была ее союзницей [25, л. 109–109 об.].
Я стараюсь указать, что определенная вами цифра в 35 миллионов должна быть гораздо более и что мы не должны заведомо закрывать глаза на эти расходы.
Высказываюсь за строительство крейсеров двух типов измещением 8 или 9 тонн и поменьше – 4-5-6 тонн [25, л. 110–111].
В заключение я перейду к еще одному вопросу, который также отразится на увеличении нашего бюджета и который вовсе не затронут в соображениях Вашего Высочества, но без которого все эти соображения сводятся к нулю. Я говорю о личном составе. Мы повторяем в настоящее время ту же ошибку, что сделали и в Италии при перестройке нового флота. Они забыли, что у них не хватает офицеров на новые суда, и в результате получился сравнительно весьма и весьма слабый состав офицеров и командиров. Мы положительно идем по тому же пути, как будто забывая, что деньгами человека не купишь и морского офицера на рынке не найдешь [25, л. 111 об.].
У нас принято обыкновенно ссылаться на иностранные флоты и сравнивать их списочный состав по чинам с нашим, забывая об условиях жизни, обычаях и годами сложившемся строе. Просматривая английские, французские и германские списки офицеров и основываясь на них, мы как будто бы нарочно закрываем глаза на то, что во всех этих флотах есть мэтры, которые делают все дело. Наша попытка создать этих мэтров крайне неудачна, и мы скоро убедимся, что она и в половину не удовлетворила желаниям [25, л. 111 об.-112].
Мы могли бы добиться чего-нибудь в этом отношении, если бы взяли воспитанников Воспитательного дома, дали бы им ту долю образования, которое имеет среднее сословие за границей, поставили бы их в такие условия, чтобы они, привыкнув к морской службе с малолетства, не могли бы иметь выхода из нее, чтобы они чувствовали, что только во флоте и службой в Морском ведомстве они могут получить обеспечение свое и своих будущих семей. При этом мы должны избегать всеми силами делать из них писарей, комиссаров и т. и. Избави, Боже!
Эта мысль не избавляет нас, однако, от необходимости теперь же и возможно скорее принять самые энергичные меры к пополнению нашего личного состава офицеров, что бы то ни стоило и каких бы расходов, опущенных в записке Вашего Высочества» [25, л. 112–112 об.].
Далее автор призывает (намекает) не забывать и о Черноморском и Балтийском флоте. При этом вице-адмирал Казнаков высказал мысль о том, чтобы силой заставить детей из Воспитательного дома заниматься морским делом. А для этого создать все условия, при которых они никак не смогли бы выйти за пределы флотской службы, то есть из того положения, в которое будут искусственно поставлены, в целях воспитания из них «мэтров». По-видимому, в стране того времени не находилось нужного количества желающих обучиться этому добровольно. Либо же объективная реальность была такова, что, как в известной «бондиане», было замечено: лучшие «морские волки» получаются из сирот.
9. Ответ министра финансов Витте. «В записке А.М. рекомендуется увеличить ежегодно (в среднем на 41/3 миллиона руб. в год) ассигнуемые по бюджету Морского министерства на судостроение, артиллерийское и минное вооружение кредиты и расходовать их исключительно на усиление нашей Тихоокеанской эскадры, дабы сделать ее сильнее того флота, которым будет располагать Япония, когда осуществит принятый ею план судостроения [25, л. 120–120 об.].
…Вышеуказанная ежегодная добавка в 41/3 миллиона руб. к бюджету Морского министерства представляется мне недостаточной для осуществления предположенной Вашим Высочеством программы усиления флота, ибо, во-первых, кроме единовременных затрат на сооружение судов, необходимо принять во внимание также и ежегодные по их содержанию расходы, которые бывают весьма значительны; во-вторых, недостаточно построить большой флот, надо для целесоответственного пользования им устроить базы, угольные станции, хорошо оборудованные мастерские и проч., создание чего обыкновенно требует огромных затрат, а иногда, в зависимости от неблагоприятных местных условий, не может быть осуществлено и за деньги [25, л. 120 об.-121].
Соображения: если бы при установлении плана для развития военно-морских сил России можно было бы предположить, что Россия будет иметь противником одну только Японию.
1) Противником России на Дальнем Востоке могут оказаться также и европейские морские державы, тогда нашей Тихоокеанской эскадре пришлось бы иметь дело с коалиционным флотом, и наша эскадра, даже значительно увеличенная, могла бы оказаться гораздо слабее своих противников.
2) Военные действия против России могут открыться не только в тихоокеанских водах, но и на других морях, омывающих берега России: Балтийском, Черном, Белом. На этих морях Россия также должна быть готовой встретить противника и заблаговременно принять необходимые меры обороны. Поэтому едва ли было бы целесоответственно все суммы… расходовать на усиление наших военно-морских сил в Тихом океане, оставляя без удовлетворения наши военно-морские потребности в других морях. Это можно было бы признать целесоответственным, если допустить, что проектируемая программа судостроения и морской обороны, рассчитанная на борьбу с одной Японией, не исключает возможности параллельной выработки и осуществления соответствующих программ, рассчитанных на борьбу с прочими морскими противниками России – Англией, Германией и проч. Но для сего, безусловно, необходимо, чтобы Россия располагала в своем бюджете средствами, равными средствам всех в совокупности морских держав, которые могут оказаться ее морскими противниками, а не только средствами, которые она ныне имеет [25, л. 121 об.-122 об.].
(Далее указывает на резкие различия в географическом положении России и Японии, на очертания и географическую протяженность этих стран.) Япония – государство островное, с сильно изрезанной линией и многочисленными удобными гаванями, открытыми круглый год для плавания. Япония может спокойно переходить из одних морей, омывающих берега ее, в другие и являться там, где этого будут требовать интересы государства.
Россия, напротив, при огромной площади имеет береговую линию сравнительно весьма малого протяжения; если не считать значительной части берегов Ледовитого океана как недоступных для плавания, то окажется, что большая часть границ России принадлежит к числу сухопутных, а не морских. Моря, большей частью омывающие берега России, закрытые; даже Японское море у берегов Восточной Сибири имеет очень невыгодно расположенный южный выход в океан, преграждаемый японским островом Цусимой. Значительную часть года моря у берегов России скованы льдом. В Тихом океане, где нам приходится соперничать с Японией, мы располагаем только одним портом – Владивостоком, и притом замерзающим ежегодно на продолжительное время [25, л. 123].
При таких условиях Россия по необходимости должна быть рассматриваема не как государство морское, а как континентальное. И врагам своим она может быть страшна не морскими силами, а сухопутным войском, на содержание коего и отпускаются ежегодно весьма значительные суммы.
Независимо от общих расходов по содержанию армии, правительство не щадит средств на сухопутную оборону своей восточной окраины: ввиду политических осложнений на Дальнем Востоке приняты меры к усилению боевой готовности войск Приамурского округа и на сей предмет отпущено Военному министерству добавкою к его предельному бюджету: в 1894 г.– 970 тыс. руб., в 1895 г.– 10955 тыс. руб. и в 1896 г. – 4000 тыс. руб. Затем, на основании высочайшего повеления от 17 ноября 1895 г., подлежат ежегодному ассигнованию на расходы по усилению боевой готовности азиатских округов: в 1897 г. – 7 млн руб., в 1898 г. – 7 млн руб., в 1899 г. – 6 млн руб., в 1900 г. – 6 млн руб. и начиная с 1901 г. – по 4 млн руб. в год [25, л. 123 об.].
Дабы более или менее обезопасить Дальний Восток России и прочно связать его с прочими частями империи, строится Великая Сибирская железная дорога. На сооружение сей дороги уже отпущено по бюджетам 1891–1896 гг. 226 млн руб. и, вероятно, не менее этой суммы придется отпускать в течение ближайших лет на довершение означенной линии. Дорога эта должна будет высоко поднять значение России на Дальнем Востоке, – главным образом потому, что она даст ей возможность передвигать, в случае необходимости, свои военносухопутные силы к берегам Тихого океана. За сим, если бы, по окончании Сибирской железной дороги, Япония или какая другая держава высадила свои войска на материк Азии близ русской границы, то главные меры воздействия против сего будут приняты Россией не через посредство ее флота, а посредством армии [25, л. 124].
Справедливость того положения, что военные силы России должны заключаться, главным образом, в ее армии, выступит еще более ярко, если взять во внимание отношение России к такой морской державе, как Англия. Если бы Россия, желая обеспечить свои интересы по отношению к Англии, стала стремиться к тому, чтобы обладать таким же флотом, каким располагает Англия, то своих целей Россия, конечно, не достигла бы, а между тем совершенно расстроила бы свои финансы [25, л. 124 об.].
Намеченных целей она может достигнуть в гораздо большей мере, если ее мероприятия будут направлены не против английского флота, а с сухого пути – против владений Англии в Южной Азии, составляющих наиболее уязвимую сторону ее могущества (но Япония имеет границы с Россией, а Англия – нет! – О. Ф.). К числу таковых мероприятий следует, между прочим, отнести сооружение Кушкинской ветви Закаспийской железной дороги (протяжением около 300 верст и стоимостью около 8 млн руб.), на постройку коей последовало в текущем году высочайшее его императорского величества соизволение [25, л. 125].
На основании вышеизложенного я, со своей стороны, прихожу к заключению:
1) что континентальное государство Россия, предвидя возможность столкновения с островным государством Японией и готовясь на сей случай, не должно в своих мероприятиях слепо следовать за Японией, развивая, главным образом, морские силы России на Тихом океане, а должно строго сообразоваться с теми условиями, в коих находится Россия, то есть с ее географическим положением, очертанием берегов, физической природой страны и проч. и, соответственно сему, принимать меры к обеспечению возможности быстрой мобилизации ее сухопутных сил на Дальний Восток, и
2) что таковые мероприятия с немалыми для страны жертвами принимаются в течение последних лет для обеспечения на Востоке Азии интересов России и для поддержания там ее достоинства [25, л. 125 об.].
В заключение считаю долгом присовокупить, что я вполне присоединяюсь к высказанным, между прочим, вашим высочеством в упомянутой записке мнениям: во-первых, о желательности того, чтобы русские военные суда строились, по преимуществу, в России, и, во-вторых, о важности привести портовые мастерские во Владивостоке в положение, которое обеспечивало бы своевременный и безостановочный ремонт в этом порте наших военных судов.
С чувством глубочайшего почтения имею честь пребывать вашего императорского высочества всеподданнейший слуга, Сергей Витте. 1 июля 1896 г.» [25, л. 125 об.].

