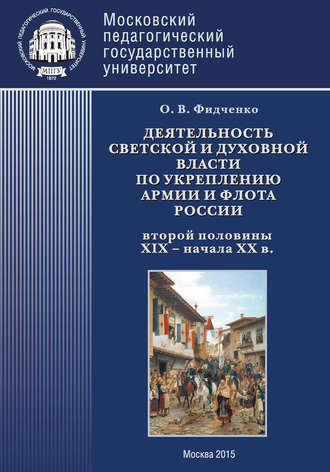 полная версия
полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография
Агитаторы, конечно, не унимались, бесперебойно поставляя свои разрушительные новости: на Дальнем Востоке говорили, что Москва и Петербург сожжены и даже России уже не существует, а на ее месте пепел и реки крови [95, с. 323]. В результате забастовали служащие Забайкальской железной дороги, а в Чите поднялась стрельба.
О. Митрофан был включен в комиссию по устройству кладбищ павших воинов на полях битв, поэтому ему пришлось объехать все поля битв 3-й армии, начиная чуть не от Порт-Артура. 3 мая 1905 г. он наконец сел в вагон поезда и 2 июня был дома, в г. Орле. Встреча с родными и духовными детьми скоро заставила его забыть о двух годах скорбей, трудов и военных неудач.
Записи в «Дневнике полкового священника» протоиерея М.В. Сребрянского наглядно демонстрируют все практические стороны жизни военных людей и духовенства на полях Русско-японской войны. «Дневник» является важным источником для изучения реальных событий, обстоятельств и условий, в которых тогда приходилось служить и сражаться.
Для простого человека любая война не может быть привлекательной. Лишения, связанные с переменой климата и ужасами войны, нервные потрясения – все это отнимает у человека силы и здоровье. Однако православный священник нашел в себе силы зафиксировать не только горести, но и некоторые светлые страницы той войны, появившиеся благодаря присутствию в его военной жизни достойных людей, подлинных героев и тружеников, настоящих друзей, без которых невозможно одержать ни одной духовной победы, пусть даже и при реальном военном поражении.
Заключение
Военная история России имеет немало героических страниц, при изучении которых мы начинаем по праву гордиться нашим прошлым. На этих страницах навеки зафиксированы подвиги наших предков, которые служили Родине не за страх, а за совесть.
Героями нашего Отечества являлись люди, которые занимали разное социальное положение в обществе, имели разный уровень образования, они принадлежали ко многим национальностям и вероисповеданиям. Но этих героев роднит между собой одно: все они служили России.
Обращаясь ко второй половине XIX – началу XX в., невозможно не остановить внимания на тех представителях императорского дома Романовых, которые посвятили свою жизнь служению в армии и на флоте. Некоторые из них внесли весомый вклад в развитие отечественных вооруженных сил, а также являлись талантливыми военачальниками.
Изучение источников личного происхождения, прежде всего архивов и мемуаров военных деятелей, принадлежавших, с одной стороны, к светской части общества и, с другой, к духовенству, позволило заключить, что они занимались общей созидательной деятельностью, направленной на укрепление государствообразующих основ империи.
В политических условиях начала XX в., когда все громче заявляла о себе идея разрушения алтарей и тронов, пришедшая с Запада, эти люди смиренно, несмотря на провокации, продолжали совершать свой подвиг на благо страны. К числу таких подвижников, безусловно, принадлежат великие князья: Константин Николаевич, возглавивший создание менее чем за 10 лет нового Балтийского флота России, Александр Михайлович, основавший новый вид вооруженных сил страны – военную авиацию, Николай Николаевич Старший, под командованием которого от турецкого ига были освобождены братские восточнославянские государства, Михаил Николаевич, окончательно покоривший Кавказ, Олег Константинович, погибший за Родину в начале Первой мировой войны, а также цари: Александр II, введший всеобщую воинскую повинность, Александр III – неутомимый борец с революцией, Николай II, учредивший подводный флот России. Память об этих достойных наследниках Великого Петра должна быть возвращена народу России.
Некоторые военные приемы, принадлежащие августейшим полководцам и морякам, стали классикой военного дела. Например, новая, ранее никогда не применявшаяся форма оперативно-тактических исследований – военно-морская игра, изобретенная в 1897 г. великим князем Александром Михайловичем, позднее составила не только основу новых курсов Николаевской Морской академии, но и получила широкое распространение во всем мире. Сегодня изучение азов построения и проведения этой игры вошло в программы военных учебных заведений.
В качестве новизны проведенного исследования хотелось бы указать на использование большого количества архивных материалов, позволивших присоединиться к мнению великого князя Александра Михайловича, предсказавшего неизбежность Русско-японской войны, и доказательно проиллюстрировать это на основании анализа финансирования флотов ведущих европейских держав, Японии и России в конце XIX – начале XX в.
Для понимания особенностей личных взаимодействий между отдельными представителями императорской фамилии, а также связанной с этими особенностями внутриполитической линии управления армией и флотом весьма полезной является «Записка в. кн. Александра Михайловича об усилении Тихоокеанского флота» (1896), адресованная не только царю Николаю II, но также и адмиралам российского флота. Документ позволил выявить те недостатки в управлении, которые позволило себе совершать Морское министерство во главе с любимым братом Александра II великим князем Алексеем Александровичем. Некоторые ответы, присланные адмиралами на эту записку, наглядно продемонстрировали просчеты не только в Морском министерстве, но и во внутри- и внешнеполитическом курсе страны в целом.
Среди выдающихся полководцев, офицеров и моряков из династии Романовых, безусловно, были фигуры и менее яркие: великие князья Николай Николаевич Младший, являвшийся главнокомандующим во время начального этапа Первой мировой войны, Константин Константинович, реформатор программ обучения в военных учебных заведениях и достаточно известный поэт, Алексей Александрович, генерал-адмирал Морского министерства, Кирилл Владимирович, являвшийся членом экипажа знаменитого броненосца С. О. Макарова «Петропавловск».
Интересным и недостаточно изученным явлением нашей дореволюционной истории стала деятельность сестер милосердия из династии
Романовых, о которой, уже без опасений, начали говорить и писать в последнее время. И начинается она именно с середины XIX в., когда в 1844 г. была основана Свято-Троицкая община сестер милосердия в Петербурге. Ее учредительницами были принцесса Терезия Васильевна Ольденбургская и дочери Николая I Александра Николаевна и Мария Николаевна Романовы.
Несколько позже дочерью принцессы Терезии, святой благоверной великой княгиней Александрой Петровной Романовой, была учреждена Покровская община сестер милосердия в Петербурге, а потом – Покровский женский монастырь в Киеве, в котором помогали бедным, сиротам, больным и раненым.
Наибольшую известность своей благотворительной деятельностью стяжала основанная преподобномученицей великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой Марфо-Мариинская обитель милосердия в Москве, устав для которой был разработан военным священником – героем Русско-японской войны преподобноисповедником Сергием (в миру Митрофаном Васильевичем Сребрянским).
Среди военнослужащих Первой мировой войны большую известность получили знаменитые лазареты в Царском Селе и Петербурге, в которых трудились царица Александра Федоровна, а также великие княжны Ольга, Мария, Татьяна и Анастасия Николаевны Романовы – дочери последнего русского царя.
Подвижницами в деле помощи бедным и раненым также являлись и другие представительницы императорской династии: великие княгини Елена Павловна, Ольга Александровна, Ксения Александровна Романовы. Некоторые из них уезжали на фронт, чтобы помогать раненым. Их беззаветное служение ближним вызывало искреннюю благодарность и восхищение современников. Именно они, эти женщины, стали первопроходцами в деле организации квалифицированной помощи раненым и обездоленным по разным причинам людям. Советские медицинские сестры – героини Великой Отечественной войны, помогавшие раненым на полях битвы, в этом смысле являются последовательницами того важного, истинно человеколюбивого дела, родоначальницами которого явились сестры милосердия из династии Романовых.
Настоящим подвигом был труд представителей военного духовенства на полях боевых действий тех войн, в которых участвовала Россия во второй половине XIX – начале XX в. Священники испытывали те же трудности и лишения, что и все солдаты и офицеры боевых частей русской армии и флота, в которых они служили. О поистине героической активности, проявляемой военным духовенством, говорят те награды, которые были вручены его представителям за конкретные усилия по сохранению и укреплению наших боевых воинских частей. Только высших офицерских воинских наград за участие в четырех последних предреволюционных войнах (Крымской, Русско-турецкой, Русско-японской, Первой мировой) было получено военными священниками около 20. Многие стали обладателями наперсных крестов на георгиевской ленте, наперсных крестов из Кабинета Е. И. В., других орденов и наград, носивших имена христианских святых. Отличились в войнах и представители неправославного военного духовенства.
В тех войнах многие священники были убиты. По неполным данным, только в Крымской и Первой мировой войнах погибло и умерло от ран совокупно не менее 90 православных военных священников. Многие были убиты и умерли во время Русско-турецкой и Русско-японской войн. Еще больше осталось раненых, контуженых, изуродованных… Немало томилось в плену.
Впечатляют те виды подвигов, которые совершали священники на войне. Так, батюшки нередко с крестом в руках вдохновляли воинов идти в атаку (когда был убит или тяжело ранен офицер-командир), служили молебны под обстрелом противника, спасали жизнь солдат и матросов ценой собственной жизни, благословляли солдат во время обстрела противника, убеждали сдаться и приводили плененных врагов, под обстрелами помогали перевозить вооружение, восстанавливать связь и т. д.
Помимо прямых обязанностей чисто культового характера, духовенство на войне выполняло множество других важных функций: во время боя священники по возможности помогали военным врачам оказывать раненым медицинскую помощь, исповедовали и причащали умирающих и раненых людей, перед боем обходили окопы, хоронили умерших, вели переписку с родственниками погибших.
Помимо этого, священники произносили проповеди, вдохновлявшие и укреплявшие веру солдат и матросов. На примере жизни святых демонстрировали спасительность стремления честно выполнить свой долг на войне и всегда служить и помогать ближним. Будучи духовными врачами, они утешали военнослужащих в трудные минуты, развеивая мучившие их сомнения, давали духовные советы, евангельским словом уберегали их от уныния и отчаяния, подавая личный пример безропотного терпения скорбей.
Православному русскому духовенству принадлежит подвиг становления и развития начального народного образования в России, относящийся ко второй половине XIX в. [100, 104]. В XX в. военные священники начали работу по просвещению здоровых и раненых воинов, находившихся на лечении в лазаретах, собирая полковые и госпитальные библиотеки. Именно об этом очень ярко говорится в брошюре последнего протопресвитера армии и флота Г. И. Шавельского «Священник на войне». Необходимые материалы и лично наработанный опыт для написания брошюры им были получены во время Русско-японской войны, участником которой он являлся. Поэтому большевики с их постреволюционными избами-читальнями (которые тоже, безусловно, много потрудились) не были первооткрывателями в деле ликвидации безграмотности населения нашей страны, поскольку до революции священники уже начали устройство библиотек при церковно-приходских школах, полках и лазаретах.
Та духовная и просветительская работа, которую священники проводили до революции среди военнослужащих и обычных прихожан, служила основанием для того высокого авторитета, которым пользовались очень многие представители духовенства. Посредством своих проповедей они также обосновывали и проводили в массы политическую идеологию империи. По нашему мнению, после революции и издания декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» большевики постарались сделать так, чтобы у них появились свои, лишенные любых религиозных проявлений, люди, которые бы проводили подобную работу и в перспективе стяжали подобный же авторитет. Такими людьми стали так называемые пионерские, комсомольские и партийные вожаки: секретари пионерских, комсомольских, партийных организаций. Были должности с несколько другими названиями, но, по сути, с теми же функциями (например, политические руководители – политруки, замполиты, помполиты). Люди, обличенные подобными должностями, как военные священники до революции, с одной стороны, являлись представителями государственной власти на местах, с другой – вели политико-просветительную и воспитательную работу с личным составом. В современной армии они так и именуются заместителями командира по работе с личным составом.
В военной области людей, выполнявших подобные функции, называли комиссарами. Некоторые исследователи, проводя параллели между духовенством и комиссарами, называют военных священников комиссарами в рясах [см.: 97]. При этом комиссары появились задолго до революции [25, л. 112]. Особенно много их было при Петре I. Комиссары были при сенате, им поручалось управление казенными заводами и проч.
Комиссары были членами какой-либо комиссии, особенно исполнительной, но чаще уполномоченными, олицетворявшими собой единоличную власть [52]. Это последнее их качество, на наш взгляд, прежде всего и было воспринято и встроено в систему управления послереволюционной Россией. И, в сочетании с идеолого-политическими функциями, комиссары выступили в качестве своеобразной замены дореволюционного военногр духовенства.
Со временем в нашей стране и на Западе появились новые специалисты – психологи и психиатры, призванные решать внутренние душевные проблемы человека. По нашему мнению, причиной их появления явился процесс всеобъемлющей секуляризации, буквально захвативший капиталистическое общество [103, с. 45–50]. Представители светской власти, мыслившие по-новому, материалистически, стремились оградить народные массы от влияния церкви, предложив им своеобразную замену священников представителями и приверженцами чисто научно-материалистических методов работы с людьми. Тем не менее труд по успешному разрешению духовных проблем человека испокон веков и до настоящего времени остается прерогативой церкви и духовенства. Доказательством тому является начавшийся в современной армии и на флоте процесс возрождения института военного духовенства, равно как и общее увеличение числа верующих людей среди населения современной России.
Источники и литература
1. Августейшие сестры милосердия / Сост. Н.К. Зверева. – М.: Вече, 2006.
2. Аветян А. С. Русско-германские дипломатические отношения накануне Первой мировой войны 1910–1914.-М.: Наука, 1985.
3. Александр Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний / Великий князь Александр Михайлович. – М.: Вече, 2008.
4. Ардов М., протоиерей. Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни. 2-е изд. – М., 1998 // Режим доступа: http://krotov.info/library/01_a/ard/ard_mel.html (дата обращения 02.01.2015).
5. Арутюнов А. С. Дневник солдата. 1914–1915.-Ростов н/Д: Издатель А. Арутюнов, 2013.
6. Бакаев Ю.Н. История государственно-церковных отношений в России: Учебное пособие // Хабаровский государственный технический университет. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1994.
7. Василенко В. О. Офицеры в рясах. – М., 1933.
8. Вендт А. Хронологический очерк участия Л. гв. 3-го Стрелкового финского батальона в кампании против турок 1877-78 г. // Сост. штабс-кап. фон Вендт. – Гельсингфорс, 1881.
9. Виноградов В. Н. Румыния в годы Первой мировой войны. – М.: Наука, 1969.
10. Виртуальная экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру «Варяг» // Официальный сайт Министерства обороны РФ. Режим доступа: http://encyclopedia.miLm/encyclopedia/museums/varyag.htm (дата обращения 04.02.2015).
11. Второе послание к Коринфянам св. апостола Павла // Новый Завет.
12. Второе послание к Фессалоникийцам св. апостола Павла // Новый Завет.
13. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 571.
14. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 729.
15. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 734.
16. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 736.
17. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 754.
18. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 779.
19. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 780.
20. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 782.
21. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 9.
22. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 11.
23. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 13.
24. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 14.
25. ГА РФ. – Ф. 645.-Оп. 1.-Д. 19.
26. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 25.
27. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 31.
28. ГА РФ. – Ф. 646. – Оп. 1. – Д. 34.
29. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 41.
30. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 57.
31. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 58.
32. ГА РФ. – Ф. 646. – Оп. 1. – Д. 59.
33. ГА РФ. – Ф. 646.-Оп. 1.-Д. 79.
34. ГА РФ. – Ф. 1486.-Оп. 1.-Д. 4.
35. ГА РФ. – Ф. 1486. – Оп. 1.-Д. 15.
36. Гайдук М. И. «Утюг». Материалы и факты о заготовительной деятельности русских военных комиссий в Америке. – Нью-Йорк, 1918.
37. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. – Париж, 1939.
38. Государь на фронте. Воспоминания / Сэр Джон Хэнбери-Уильямс. Император Николай II, каким я его знал; П. К. Кондзеровский. В Ставке Верховного: Сборник / Сост. С. Лизунов. – М.: Русский Хронографъ, 2012.
39. Готлиб В. В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны / Пер. с англ. В. А. Альтшулера и В.П. Готовицкой. – М.: Соцэкгиз, 1960.
40. Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг.: шпиономания и реальные проблемы. – М., 2000.
41. Гришин Д. Б. Трагическая судьба великого князя. – М.: Вече, 2008.
42. Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. – М.: Вече, 2007.
43. Джолл Дж. Истоки первой мировой войны / Пер. Л.Д. Якунина. – Ростов н/Д: Феникс, 1988.
44. Евангелие от Иоанна // Новый Завет.
45. Евангелие от Матфея // Новый Завет.
46. Залюбовский А. П. Снабжение русской армии в Великую войну ружьями, пулеметами, револьверами и патронами к ним. – Белград, 1936.
47. Иванов В. Ф. Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней.-М.: Москва, 2001.
48. Кандидов Б. П. Церковь и Февральская революция.-М., 1934.
49. Капков К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства Российской империи XVIII – начала XX века: Итоги к 1917 году. – М.: Летопись, 2009.
50. Капков К. Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX – начала XX в.: Справочные материалы. – М.: Летопись, 2008.
51. Кирилов Е.М. Памятка 114-го пехотного Новоторжского (бывшего Староскольского) полка: Крат, история полка (1763–1900 г.) [С прил. списков полка] / Переложил в стихах штабс-кап. Кирилов. – Новгород, 1900.
52. Комиссар // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907. Режим доступа: (дата обращения 08.02.2015).
53. Коршунов Ю. Л. Августейшие моряки. – СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1999.
54. Кострюков А. А. К истории служения военного духовенства в годы Русско-японской войны // Православная культура в России: прошлое и настоящее (по материалам Вторых Свято-Филаретовских чтений). – М.: Пашков дом, 2007.-С. 135–145.
55. Кремер С.Я. Сумской кадетский корпус. 1900–1950.-Сан-Франциско, 1955.
56. Кремлёв С. Россия и Япония: стравить! – М.: Яуза, 2005.
57. Кто должник? Сборник документированных статей по вопросу об отношениях между Россией, Францией и другими державами Антанты до войны 1914 г., во время войны и в период интервенции / Под общ. ред. А. Г. Шляпникова, Р. А. Муклевича и проф. Б. И. Доливо-Добровольского. – М.: Авио-издательство, 1926.
58. Курков КН. Макаров Степан Осипович // Режим доступа: (дата обращения 28.01.2015).
59. Левитская Н. Князь Олег // Истории русской провинции. – СПб.: Библиополис, 2006.-С. 310–323.
60. Левицкий Н. А. Русско-японская война 1904–1905 гг.-М., 1938.
61. Мединский В. Р. О русском пьянстве, лени и жестокости. – 2-е изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.
62. Мержейовский Э. М. История 13-го Пехотного Белозерского генерал-фельдмаршала графа Ласси полка (1708–1893 г.): С прил. крат, биогр. ген. фельд. гр. Ласси / Сост. Э. Мержейовский, поручик 13-го Пехот. Белозер. ген. – фельдмаршала графа Ласси полка. – Варшава, 1894.
63. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. – М.: Правило веры, 2004.
64. Михаил Николаевич // Сайт “Funeral-spb.ru”. Режим доступа: http://funeralspb.ru/necropols/ppk/mikhail_nikol/(дата обращения 27.11.2014).
65. Непомнящий Н. Н. Военные катастрофы на море. – М.: Вече, 2001.
66. Николаев Н. Г. История 17-го пехотного Архангелогородского Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полка. 1700-25 июня 1900 / Сост. Ген. штаба полк. Николаев. – СПб., 1900.
67. Николаев Н.Г. Столетие Фельдъегерского корпуса, 1796–1896: исторический очерк / Сост. Ген. штаба полк. Николаев. – СПб., 1896.
68. Николай Николаевич // Сайт “Funeral-spb.ru”. Режим доступа: http://funeralspb.ru/necropols/ppk/nikolay_nikolaevich/(дата обращения 22.11.2014).
69. Нитти Ф. Европа без мира / Пер. с итал. с предисл. М. Павловича. – Пг.; М.: Петроград, 1923.
70. Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны: В 4 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947.
71. Нотович Ф. И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 1914–1918 гг.-М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1947.
72. Оржеховский И. В. Из истории военного духовенства // Режим доступа: http://druzjina.ru/fomm/24-678-1 (дата обращения 31.01.2015).
73. Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. – М.: Наука, 1994.
74. Первая мировая война: пролог XX века / Отв. ред. В. Л. Мальков. – М.: Наука, 1998.
75. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла // Новый Завет.
76. Послание к Филиппийцам святого апостола Павла // Новый Завет.
77. Постников Н. Д. Драма в Восточной Пруссии. Судьба 1-й русской армии генерала Ренненкампфа. – М.: Вече, 2014.
78. Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо. – М., 2007.
79. Проповедь протоиерея Николая Гостева на праздник Входа Господня в Иерусалим, прозвучавшая 19 апреля 2008 г. в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя (г. Москва).
80. Проповедь Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на праздник Входа Господня в Иерусалим, прозвучавшая 12 апреля 2009 г. в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя (г. Москва).
81. Проэктор Д. М. Европа – век XX. Войны. Их уроки. Воля к миру. – М.: Знание, 1984.
82. Рогоза В. Георгиевские кавалеры в рясах // Православное Ступино. 2011 (май). № 4 (90). – С. 17–20. Режим доступа: http://www.stupinoblag.m/a/PS90. pdf (дата обращения 29.01.1015).
83. Рогоза В. Георгиевские кавалеры в рясах. Возможно ли такое?
Ч. 1 // Режим доступа: http://shkolazhizni.m/arehive/0/n-10008/ (дата обращения 29.01.1015).
84. Рогоза В. Георгиевские кавалеры в рясах. Возможно ли такое?
Ч. 2 // Режим доступа: http://shkolazhizni.m/archive/0/n-10009/ (дата обращения 29.01.1015).
85. Романов Б. А. Очерки дипломатической истории Русско-японской войны (1895–1907).-М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947.
86. Русско-японская война.-М.: Эксмо, Изографус; СПб.: TerraFantastica, 2003.
87. Сайт «Белая гвардия». Режим доступа: http://mguard.rn/glossary/o-81.html (дата обращения 26.11.2014).
88. Сайт «Воздухпарк». Режим доступа: http://vozduhpark.narod.ru/VKAM.html (дата обращения 01.03.2010).
89. Сайт «Патриархия. ру». Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/320500. html (дата обращения 12.01.2015).
90. Сайт военной литературы «Милита». Режим доступа: http://militera.lib. ru/h/wendtaO 1 /index.html (дата обращения 08.02.2015).
91. Семанов С.Н. Тайна гибели адмирала Макарова. Новые страницы Русско-японской войны 1904–1905 гг.-М.: Вече, 2000.
92. Семёнова Е. Милосердные сестры августейшей семьи // Сайт «Русское поле. Содружество литературных проектов». Режим доступа: http://golos. ruspole.info/node/3444#_ftnrefl (дата обращения 18.12.2014).
93. Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны.-М.: Наука, 1973.

