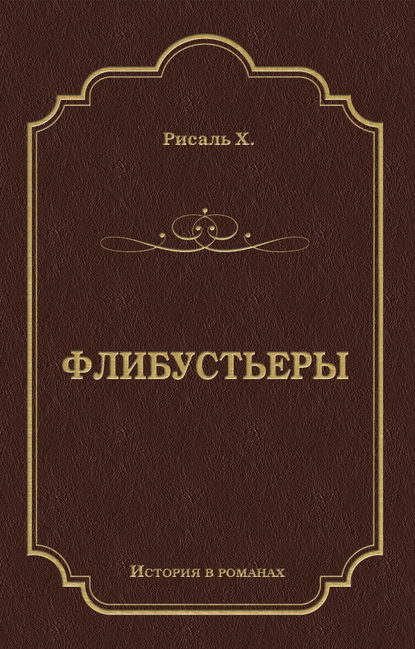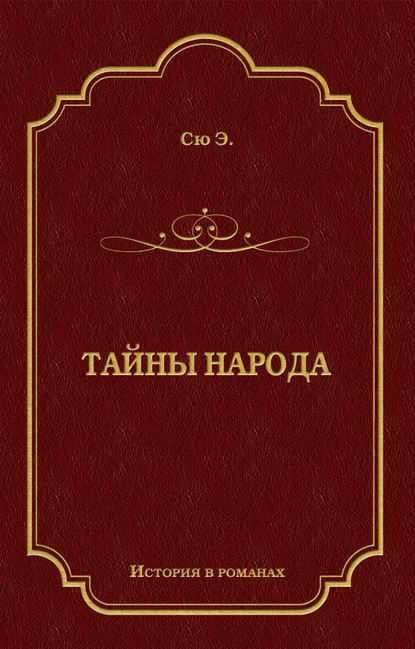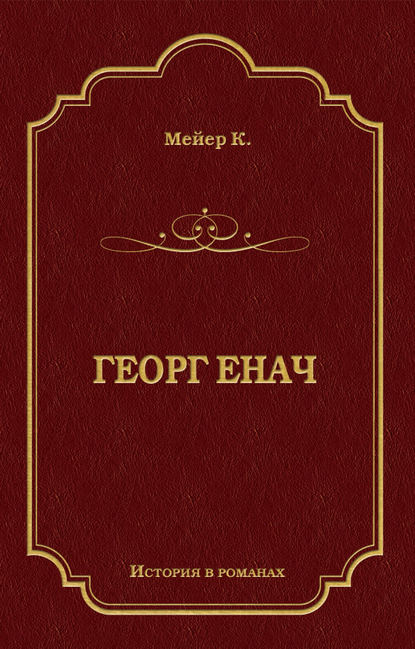Полная версия
Авантюристы
По этим глазам да по улыбке можно было узнать в этом ребенке императрицу Елизавету, сохранившую до преклонных лет то обаятельное выражение во взгляде и в улыбке, которое у нее было в детстве.
Дальше, под наивной лубочной картиной, изображавшей святых, на целую голову выше окружавших их домов и деревьев, с руками воздетыми кверху и достигавшими до лиловых облаков на ярком синем небе, скромно пряталась в потертой деревянной раме копия с Мадонны Мурильо, а еще дальше, в красном углу, между дверью и крайним окном, возвышался массивный киот со множеством образов, перед которыми горела лампада, распространявшая довольно-таки неприятный запах.
У следующего окна находился небольшой стол с рукодельем хозяйки этого жилища, Марфы Андреевны Чарушиной, любимой камер-фрейлины государыни, – начатым чулком из толстой грубой серой шерсти, в простом берестовом лукошке, как те, с которыми деревенские бабы ходят в лес по грибы. К этому столу был придвинут такой же грубый стул с вытертой деревянной спинкой. Сиденье этого стула было снабжено кожаной подушкой, такой жесткой, что трудно было понять, какого рода удобство она представляет хозяйке.
Но эта подушка имела свою историю, которую Марфа Андреевна рассказывала так:
– Тоже затея царицы. Пристала: «Зачем на таком негожем стуле сидишь, когда я тебе так много дорогой мебели пожаловала? Люди могут подумать, что я своих старых слуг не берегу». И как ни уверяла я ее, что на этом стульце и батюшка мой покойный, и дед – царство ему небесное! – сиживал, ничего в толк не пожелала взять и приказала Венерке хоть от собаки подушку взять да на стул этот положить. Это она на смех сказала про собачью подушку и в тот же день вот этого идола из собственных покоев приказала ко мне принести, – продолжала старуха, указывая на покойное кресло с разными приспособлениями для удобства, скамеечкой для ног, откидным столиком и т. п., стоявшим без употребления в темном углу. – Ну, да ведь и я упряма: за милость, как следует, поблагодарила и ручку поцеловала, а чтобы сесть в это чудище заморское, ни раза не села. И как придумала царица, чтобы мне для спокойствия на собачьей подушке сидеть, так и сижу до сих пор, вот уже шестой год. И до самой смерти просижу, – исполню ее приказ. Царица ведь! Не очень-то с нею, как бывало прежде, станешь спорить да браниться, – прибавляла она с усмешкой, отражавшейся лукавым блеском в ее умных глазах.
Сама Марфа Андреевна всей своей оригинальной фигурой, нравом и умом так подходила к помещению, которое она занимала во дворце, что невозможно было представить ее в другой обстановке, а еще менее эту обстановку без нее. На всем, что окружало эту женщину, равно как и на каждом ее движении и слове, лежал своеобразный отпечаток, и стоило только пробыть здесь, в ее обществе, и послушать ее остроумную речь, чтобы понять, сколько ловкости и душевной гибкости, проницательности и поистине замечательной сообразительности кроется под грубоватой и простоватой наружностью этой женщины, и перестать удивляться безграничному доверию и неизменной привязанности, которые к ней питала царица.
Для тех немногих, которые знали Марфу Андреевну не такой, какой она казалась всем, а такой, какой она была на самом деле, было понятно, что племянница ее, Чарушина, находила отраду и утешение только во дворце у тетки, с тех пор как ее постигло горе, в котором она никому из домашних не осмелилась бы сознаться.
Но в тот день Фаина слишком рано приехала к тетеньке: та была у государыни, которая никогда не поднималась с постели без нее и не начинала дня, не поговоривши с нею о делах.
Это было всем известно, и так как решения императрицы приписывали во многих случаях Чарушиной, то у нее было много врагов, и по городу ходили легенды о ее коварстве и пагубном влиянии на государыню. Говорили также про ее грубость и невежество, удивляясь влиянию такой невоспитанной особы, не умевшей даже читать и писать, на остроумную и просвещенную дочь великого Петра; приписывали ей даже и размолвки, возобновлявшиеся в последнее время все чаще и чаще, между членами царской семьи.
Марфу Андреевну в этот день особенно долго задержали у государыни. Посидев несколько времени одна со своими думами, Фаина так расстроилась, что, сама не понимая, как это случилось, бросилась на диван, зарылась лицом в подушку и дала волю душившим ее слезам.
Никто ей не мешал, но она, может быть, воздержалась бы от рыданий и вздохов, если бы догадалась, что есть свидетели ее печали. Из двери в коридор уже раза два выглядывал на нее уродливый карлик в красивой, расшитой галунами, красной куртке, чтобы делиться наблюдениями с высоким негром, тоже в красной ливрее, скалившим белые зубы перед окном, открытым на внутренний двор, а к щелке другой двери, напротив, любимая прислужница ее тетки, хромая горбунья Акулина Ивановна, по прозвищу Венера, с добрыми глазами на уродливом лице, каждые десять – пятнадцать минут подбегала, чтобы удостовериться, что барышня Фаина Васильевна все еще плачет.
Печаль Фаины так заботила добрую горбунью, что она уже раза два бегала через узкий проход в стене, проделанный из апартаментов императрицы в помещение ее любимой камер-фрейлины, и привычной, осторожной поступью неслышно проникала через обширную комнату, установленную шкафами, в уборную, где в зеркале, отражавшем часть соседней комнаты, можно было видеть то, что происходило у парадного серебряного туалета, убранного драгоценными кружевами за которым императрица принимала придворных дам и кавалеров, в то время как парикмахер-француз убирал ей волосы. В глубине комнаты дежурные фрейлины ожидали на почтительном расстоянии приказаний, которые большею частью передавались им через Марфу Андреевну, стоявшую ближе всех к низкому, обитому пунцовым бархатом, креслу императрицы.
В первый свой приход горбунья тут и застала свою госпожу и, конечно, удалилась, не беспокоя ее, но когда, спустя час, она пришла узнать, почему ее барыня так долго не возвращается в свои комнаты, гардеробщица, вынимавшая платья из шкафов и раскладывавшая их на больших столах, нарочно для того накрытых белыми скатертями, объявила ей, что государыня вышла в зал с фрейлинами и статс-дамами и рассматривает образцы материй, привезенные из Парижа, прямо с фабрик, где их ткут для королевского двора по образцам, составленным знаменитейшими художниками для его величества короля.
– До обеда, значит, будут этим заниматься, – заметил старший гардеробщик, Федор Николаевич, серьезный мужчина средних лет, в придворном кафтане, сидевший за столом перед толстой тетрадью разграфленной бумаги в переплете, в которую он вписывал заметки о нарядах, вынимаемых гардеробщицей из шкафов. – Приказала подать ей список глазетовых роб, – продолжал он, озабоченно сдвигая брови, чтобы лучше рассмотреть пышную юбку, которую распяливала перед ним его помощница, прежде чем разложить ее рядом с прочими на столе. – Вот и эта ни раза не одевана. Сшита в январе семнадцатого дня тысяча семьсот пятидесятого года, из материи, выписанной маркизом Шетарди из французского города Лиона, по случаю траура заменена черной бархатной с жемчужной вышивкой и с тех пор ни раза не вынута из шкафа, – прибавил он, заглядывая в другую книгу и отметив прочитанную справку закладкой. – С этой будет, значит, три робы глазетовые бланжевого цвета, две небесно-голубого, одна верпомовая и три розовые, ни раза не бывшие в употреблении. Но так как украшения на них не такие, как на тех, что получены этой зимой из-за границы, то я нахожусь в сумлении и ничего не могу решить, не переговорив с Марфой Андреевной.
С этими словами Федор Николаевич, так же неторопливо и степенно, как все, что он делал и говорил, поднялся с места, подошел к двери, растворил ее и, подозвав дежурного пажа, приказал сказать госпоже Чарушиной, что ее просят пожаловать в гардеробную.
Это было как нельзя более кстати для горбуньи, которая уже отчаивалась добиться свидания с госпожой. Она скромно отошла к сторонке и решила дождаться тут удобной минуты, чтобы передать своей барыне, что присутствие ее необходимо дома. Но Марфа Андреевна, как вошла, так и заметила ее, и, прежде чем узнать от Федора Николаевича, для чего он за нею посылал, спросила у своей прислужницы:
– А тебя чего нелегкая сюда принесла?
– Фаина Алексеевна к нам пожаловала, – таинственно понижая голос, ответила горбунья.
– Вот как! Пусть подождет. Должна, кажется, знать, что я не по своей воле живу, а на службе при государыне нахожусь.
– Они уже давно ждут, больше часа… плачут… страсть как убиваются, – нашла нужным объяснить горбунья.
– С чего это? – усмехнулась Чарушина. – Ну, да ладно, скажи ей, что сейчас приду, пусть утешится.
Горбунья нашла барышню Фаину Алексеевну уже успокоившеюся и сидевшею у окна, в которое она смотрела на экипажи, один за другим въезжавшие в растворенные чугунные ворота с часовыми по обеим сторонам. Обогнув фонтан, золоченые кареты с высокими гайдуками в богатых ливреях на запятках останавливались пред широким подъездом под навесом, гайдуки соскакивали с запяток, украшенные гербами дверцы растворялись, подножки откидывались, и придворные лакеи помогали приезжим высаживать нарядных дам и девиц. Те, наскоро оправив складки пышных юбок и затейливые прически под миниатюрными шляпками, кокетливо приколотыми к взбитым, напудренным волосам, поднимались по мраморным ступеням в вестибюль.
– Тетенька приказали вам сказать, что они сейчас сюда пожалуют, – заявила горбунья, с участием поглядывая на красное от слез личико девушки.
– Что это она сегодня там так долго? Прием уже начался, – сказала Фаина, указывая на экипажи, наполнявшие один из углов обширного двора. – Апраксина с полчаса как приехала, а Голицына с дочерью успела уже уехать. Какой большой съезд сегодня!
– Каждый день такой. Государыня не любит, когда у нее в апартаментах пусто: всем это известно, вот и ездят. А сегодня еще и новый интерес всех сюда притягивает: приехал комиссионер из Франции с образчиками материй. Остановился в посольстве. Вчера, говорят, весь город у него перебывал; все наши франты и франтихи чуть не на коленах просили его показать им эти образчики, но он, говорят, никому ничего не показал, – так и отъехали с носом. Государыня изволила смеяться, когда ей это рассказали, расспрашивала, кто да кто хлопотал раньше ее величества взглянуть на заграничные диковинки. Теперь, верно, на смех этих любопытных поднимает. А уж как, говорят, хороши материи-то! – продолжала горбунья, считая своим долгом занимать разговором гостью своей госпожи. – Надо так полагать, что императрица все прикажет себе оставить: ничего другим не уступит.
– И куда это ей столько нарядов! – рассеянно и думая о другом, заметила Фаина.
– И не говорите! – подхватила горбунья. – Вот и Федор Николаевич сейчас… Ах, милая барышня, если бы вы видели, какое множество чудных платьев висит в шкафах гардеробной! Есть ни раза не одеванные… А великой княгине надеть нечего! Сущую правду вам говорю, от самой гардеробщицы малого двора[6] знаю. Намеднись жаловалась она мне, что перед каждым балом чехлы у них выворачивают да с одного лифа на другой украшения перешивают, чтобы новыми казались! А у нашей царицы одних парчовых да глазетовых роб сто пятьдесят шесть! А сколько бархатных, атласных, гродетуровых, муаровых – и не перечтешь! И одно другого лучше, – с гордостью прибавила она.
Но душевное настроение не располагало Фаину восхищаться богатством царского гардероба, рассказы горбуньи раздражали ее и наводили на дерзкие мысли: молодой и красивой цесаревне несравненно лучше пристали бы пышные робы, чем дряхлеющей и отживающей свой век императрице. Но эти мысли здесь были так некстати, что она поспешила отогнать их от себя, как опасные и даже греховные. Ей ли, дочери человека, облагодетельствованного императрицей, осуждать последнюю в чем бы то ни было, тем более теперь, когда судьба ее возлюбленного вполне зависит от великодушия государыни?
Между тем горбунья, объясняя по-своему досаду, с которой ее слушали, собиралась уже приняться за другой рассказ, чтобы отвлечь внимание своей слушательницы от мрачных мыслей, как вдруг знакомые шаги по коридору заставили ее с восклицанием: «Тетенька!» – поспешно юркнуть в соседнюю комнату.
– Ты тут давно меня ждешь, говорят? Точно не знаешь, что раньше полудня царица не изволит просыпаться и что, пока она чая не накушается да не оденется, я должна находится при ней неотступно? Зачем раньше не пожаловала, если такая нужда была меня видеть? И отчего глаза у тебя заплаканы? Что случилось? Садись и рассказывай! – отрывисто закидывала вопросами Марфа Андреевна свою любимую племянницу, в то время как эта последняя почтительно целовала ее руку. – Что случилось? – повторила она, усевшись на свой любимый стул у окна и указывая посетительнице на скамеечку у ее ног.
– Его на границе арестовали, тетенька, и под караулом… как колодника… везут сюда! – прерывающимся от рыданий голосом проговорила девушка, пряча мокрое от слез лицо в колена тетки.
– Вот тебе здравствуй! И откуда у тебя такие вести? – сердито сдвигая брови, спросила Марфа Андреевна. – Да перестань рюмить, сударыня! Отвечай, когда тебя спрашивают! – прибавила она, строго возвышая голос, а затем вдруг, что-то вспомнив, захлопала в ладоши и закричала, обращаясь к двери: – Эй! Кто там? Сказать Акульке и прочим, чтобы от дверей отлипли. Застану кого, той же минутой прикажу выдрать! – заявила она, махнув рукой карлику, высунувшемуся из коридора при ее зове и тотчас же скрывшемуся, выслушав приказание. – Ну, теперь можешь сказать мне все, без утайки, как попу на духу, никто не услышит, – обратилась она к Фаине. – Откуда у тебя эти вести?
– Вчера у Трубецких… с княжнами в саду гуляла…
– Княжны сказали?
– Нет… князь Барский…
– А ты опять с ним разговаривала?
– Я, тетенька, с ним не разговаривала; он прошел мимо меня и как бы мимоходом…
– Мимоходом! Ну, говори же, говори!
– Он ко мне пригнулся и сказал… то, что я вам сейчас передала, – пролепетала девушка, все больше и больше смущаясь под гневным и пристальным взглядом тетки.
– Только? Не ври, Фаина! Ты знаешь, что со мной только правдой можно взять! Вся я здесь по уши в ложь ушла. Если и от своих мне правды не дождаться, так на что вы мне, скажи на милость? Ведь одну только тебя я из всей моей семейки и принимаю; начнешь душой кривить, как прочие, так и от тебя отвернусь; так-то, – злобно докончила Марфа Андреевна.
– Я знаю, тетенька, но вы меня напрасно обижаете. Если вам мое горе прискучило, я уйду, – возразила Фаина, поднимаясь со скамейки.
– Уж и распетушилась! Принцесса какая, подумаешь! Слова ей не скажи наперекор! У тебя свое горе, а у меня, ты думаешь, нет печали? Ты про свое, а я про свое. Ну, садись, садись, рассказывай все сначала, всему поверю. Да садись же, говорят тебе! Прощения, что ли, хочешь, чтобы я у тебя попросила? Так этого ты, сударыня, не дождешься! Мы сами с усами, у государыни прощения не просим, когда провинимся перед нею, вот что! Так что же он еще тебе сказал, наш Сахар Медович? – прибавила Марфа Андреевна, ласково посматривая на оскорбленную девушку.
Люб ей был гордый нрав племянницы. Она в ней себя узнавала.
– Он сказал, что Владимира Борисовича приказано допросить и обыскать на границе.
– Только-то? А ты уж: «арестовали, колодником назад везут»! Вот уж именно, что у страха глаза велики! Допросить, обыскать! Эко штука! Что же за него бояться, если ему скрывать нечего? – продолжала она, снова устремляя на собеседницу пытливый взгляд, от которого последняя вспыхнув потупилась. – И что же тебе от меня-то нужно, недотрога-царевна? – прибавила она с усмешкой.
– Я думала, вы знаете, тетенька, или будете так добры узнать…
Невзирая на перемену в тоне тетки и на то, что та почти извинялась перед нею за оскорбительное недоверие, Фаина еще находилась под впечатлением обиды и не могла принудить себя сесть опять у ног Марфы Андреевны.
– То-то вот! Без тетеньки Марфы Андреевны обойтись не можешь, а покорной ей быть не желаешь? – проворчала старуха. – Про великую княгиню он ничего тебе не сказал? – прибавила она, помолчав немного и искоса посматривая на стоявшую перед нею в смущении девушку. – Не улещивал он тебя по-намеднишнему комплиментами от ее имени? Не говорил про ее желание, чтоб ты ей была представлена приватным образом у графа Ивана Ивановича или у Алексея Григорьевича? Вспомни-ка хорошенько! Нет? Ну, так это еще придет. Я этого сокола, Барского, знаю: не таковский, чтобы скоро отстал от задуманного. И тонок, ох, как тонок! Чего от Марфы Андреевны добиться на мог, надеется через влюбленную девчонку добиться. Ну, вот что я тебе скажу, Фаина, – по-видимому довольствуясь молчанием девушки и ее смущением, которое она истолковывала по-своему, продолжала она: – Веди ты свою линию умненько, помалкивай себе да тетки не выдавай. Помни, что по теперешним временам одного лишнего слова достаточно, чтобы и меня погубить, да и всю твою семейку в бедствие ввергнуть. У тебя, сударыня, три сестрицы, с тобою четыре девки в доме, и ни одна не пристроена, – ты это завсегда держи себе на уме. Мы – не Долгорукие и не Голицыны, нас задавить нет ничего легче, и уж как повалимся, нам ввек не подняться. Такими дворянскими гнездами, как то, из которого я сама вылезла и всех вас за собою вытащила, вся русская земля усеяна, и никто про них не знает. Как родятся в темноте да в нужде, так и помирают, ничего, кроме нужды да притеснений от последнего воеводского ставленника, не видавши на своем веку. Так-то! И того не забывай, что одного пинка достаточно, чтобы всех нас в прежнюю мразь втолкнуть. Вступиться за нас некому, особняком мы ото всех здесь стоим, всем чужие. Одна у нас опора и защита – императрица… она да Бог, никого больше. Но до Бога далеко, а до государыни хоша и близко до поры до времени, но и между мной и ею злые людишки втираются, и не всегда могу я с нею по душе разговаривать. Так ты уж по пустякам не заставляй меня фавором моим пользоваться: помни, что я только тем и сильна здесь, что никогда ничего у государыни ни для своих, ни для себя не выпрашиваю. Понимаешь?
– Понимаю, тетенька.
– А понимаешь, так меня и береги. Никто еще из вас пальцем не пошевелил, чтобы тяготу мою облегчить. Постой, дай договорить, – остановила Марфа Андреевна протест, готовый сорваться с языка ее слушательницы. – Я зря никогда слов не теряю. Женился твой батюшка так, как я того желала? Взял за себя девицу знатного рода? Нет, на деньги прельстился. Ну, да он – дурак известный, – поспешила она прибавить, – от него иного чего, кроме глупости, нельзя было и ожидать. Я про тебя веду речь и опять то же самое, что прежде, скажу: некстати ты в Углова втюрилась, совершенно некстати. И некстати родители твои на этот альянс пустились. Богат, говорят! Эка штука, что состояние у него кое-какое есть! Деньги – дело наживное, а вот родовитости да знатности деньгами не купишь! А этого-то нам и нужно. Богатой и я тебя могу сделать, никто мне не может помешать все свое состояние тебе оставить. Пусть хоть одна из Чарушиных настоящей, именитой боярыней сделается по мужу, не хуже тех, что вот сюда в каретах с гербами ездят, – указала она на двор, из которого выезжала последняя золотая карета с ливрейными гайдуками на запятках. – А это уж от тебя, девка, зависит. Я могу нарядить тебя лучше всех, могу выпросить, чтобы тебя фрейлиной сделали, но, чтобы ты называлась не Чарушиной, а Воронцовой либо Апраксиной, этого никто, кроме мужа, не может для тебя сделать. Только по мужу можешь ты в настоящую знать попасть, а ты какого-то безвестного Углова себе в супруги наметила! Ну и будешь вместо Чарушиной Углова, – много выиграешь, нечего сказать! Что такое – Углов, скажи на милость? Кто его в Российском государстве знает? Были Угловы при царе Петре, но чем отличились – никому не знамо не ведомо! Не сумели случаем воспользоваться, как другие. Промеж казненных их нет, но и в люди вылезти не сумели. А уж при царе Петре чего было легче! Всюду искал он себе помощников, и, когда кого выдвигал, дело было твердо: так обставит человека, такую ему даст силу и значение, что потом такого свалить было мудрено. Да и то Меншиков свалился, потому что некому было его поддержать… пирожника! – прибавила она с презрительной усмешкой. – Ну, девка, обмысли мои слова, да и реши: стоит ли тебе за Угловым гнаться и заставлять старую тетку государыню из-за него беспокоить? Со всех сторон на него козни точат, чтобы родительского достояния его лишить, а тут еще новая беда на него обрушивается: в государственной измене его заподозрили. Время еще не ушло, Фаина; выкинь дурь из головы, и я такого жениха тебе найду, которому Углов твой в подметки не годится.
– Мне он люб, тетенька, – проговорила, не поднимая глаз, девушка.
Марфа Андреевна с досадой махнула рукой:
– Заладила сорока Якова! Ну а если и в самом деле окажется, что он с царицыными предателями заодно орудует? Что же ты мне тогда прикажешь делать? Просить государыню его, изменника, милостями своими не оставлять?
– Он – не изменник! – вырвалось у Фаины.
– Увидим. А пока все не раскроется, скажу тебе, что и сокрушаться за него тебе не след. Так и скажи Барскому, когда он опять к тебе с намеками да угрозами подъедет. Знаю я, что им от тебя нужно! Сторонников всюду набирают – вот что! Им, чем больше будет недовольных, тем лучше. Всякому они рады, откуда бы к ним ни пришел, никем не брезгают. Уж если Орловыми не гнушаются… Ну, да не о том речь. А ты мне вот что скажи: что тебе Барский про цесаревну напел? Про тиранство ее супруга, про дерзость его новой метрески, про то, что не ему бы Российским государством править после кончины императрицы – дай ей Бог всех нас пережить! – а супруге его Екатерине Алексеевне, пока их наследник в лета не войдет?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Союз, брак.
2
Петр Федорович.
3
Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина Великая.
4
В Семилетнюю войну (1756–63) русские 11 января 1758 г. заняли Кенигсберг, в Восточной Пруссии.
5
«Черный орел».
6
Так называли двор цесаревича Петра Федоровича и его супругу.