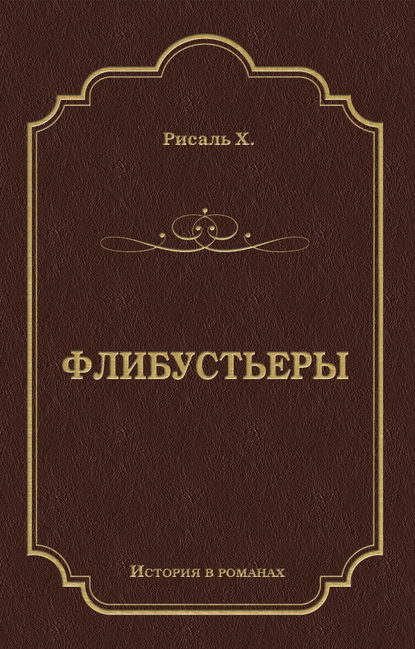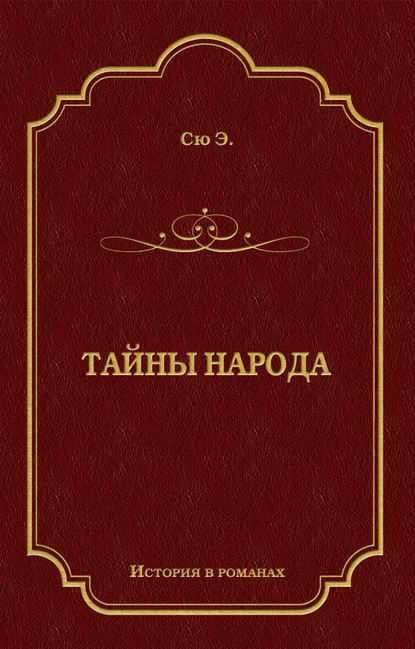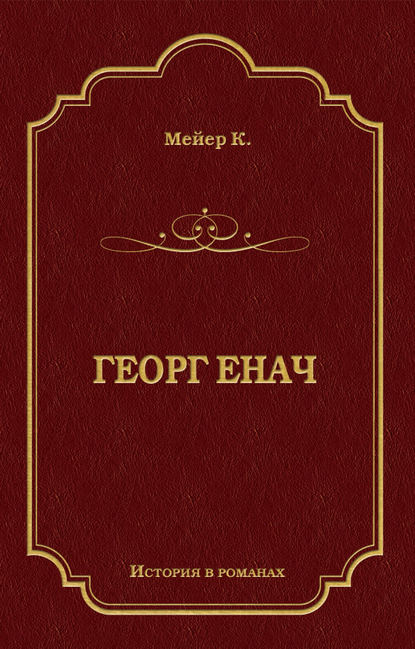Полная версия
Авантюристы
От него Владимир Борисович узнал, что их опередил курьер из военной коллегии, выехавший из Петербурга сутками позже их и оставивший на имя Ильи Ивановича пакет с депешами, – должно быть, очень важными, потому что последний тотчас же принялся разбирать их и сидит теперь за письменным столом, будучи погружен в чтение и по-видимому совершенно забыв обо всем остальном.
– Он про меня не спрашивал? – осведомился Углов, снимая кафтан и подходя к кадке с водой и с большим медным тазом, чтобы умыться.
– Один только раз и спросили, а когда я хотел бежать к вам, приказали вас не тревожить, а только доложить им, когда вы сами пожалуете в дом, – ответил Левошка, подавая барину полотенце. – Ужин еще не готов, ждали нас раньше… Здешние сказывают, тот курьер, что нас обогнал, все приел, что вчерась для нас было заготовлено; один целую миску щей уплел, а жаркое – индюшку с парой уток – с собою взял, и вино, что для нас было припасено, все выдул. Уж на что этот черт Макарка – ловкач жрать, а до этого ему далеко! Зато и скачет же анафема! Сутками после нас выехал и сутками раньше нас приехал! Кратчайшей дорогой, говорит, поехал, на двести верст ближе, чем мы, потому мы с ним нигде и не повстречались. А только и бесстрашный же! По той дороге есть лес, кишит разбойниками, по нем даже контрабандисты боятся проезжать, а ему ничего.
Умывшись и оправив свой костюм, Углов отправился в комнату своего спутника. Потому ли, что душа его была еще в смятении от известия, вычитанного в записке Фаины, или потому, что близилась минута, когда ему предстояло заняться выполнением возложенного на него поручения, так или иначе, но нервы его были так возбуждены, что все казалось ему дурным предзнаменованием, и сердце его жутко замирало при мысли о депешах, полученных его спутником. Никак не мог он отделаться от подозрения, что дело идет о нем в этих депешах, и ему так хотелось скорее все узнать, что, найдя дверь в комнату Ильи Ивановича запертой на ключ, он тем не менее постучался в нее, сначала тихо, затем, подождав немного, сильнее. Стул с шумом отодвинулся, и раздались поспешные шаги по направлению к двери, в которую он продолжал стучать.
– Кто там? Что надо? – спросил с раздражением Борисовский.
– Это я, вы меня спрашивали.
– Владимир Борисович? Да, да, я хотел вам сказать… Подождите немножко, сударь, дайте мне закончить письмо, которое я сейчас должен отправить. Одну минуту попрошу вас подождать, сударь.
С этими словами он удалился от двери, и Углов услышал шорох перелистываемых бумаг, шум выдвигаемых ящиков, звон ключа, поворачиваемого в замке, а вслед за тем, минут через пять, ему отворили и попросили его войти.
– Раньше завтрашнего утра нам двинуться в дальнейший путь невозможно, я должен отправить ночью ответ на полученные предписания, – начал Илья Иванович, затворив за собою дверь и отходя со своим спутником в дальний угол комнаты, к крайнему окну, выходившему в сад, где, судя по тишине, царившей в нем, а также по тому, что деревья и кусты точно замерли в неподвижности, некому было их подслушать. Но Илья Иванович был из тех, которые подозревают, что и у деревьев есть уши, и говорил так тихо, что уже по одному этому собеседник мог догадаться о важности того, что он намеревается ему открыть.
– В этом предписании речь идет о вас, сударь, – продолжал он, пытливо глядя на молодого человека. – Мне приказано кое о чем допросить вас. Я льщу себя надеждой, что в эту неделю, проведенную с вами неразлучно, я настолько заслужил ваше доверие, что вы поймете, что я вам зла не желаю и что для вас же будет лучше, если вы от меня ничего не скроете. Поверьте, я сумею отличить увлечение молодости от преступной преднамеренности и в настоящем свете представлю все дело пред теми, от коих зависит ваша судьба, – прибавил он, не спуская со своего слушателя пристального и пытливого взгляда.
– Я не понимаю, что вы хотите сказать, – возразил Углов, сдерживая волнение.
– Не понимаете? – с иронической улыбкой переспросил Борисовский. – В таком случае будем говорить начистоту: мне приказано узнать, куда возил вас князь Барский за два часа до нашего отъезда?
Углов ждал этого вопроса, тем не менее у него захолонуло сердце от ужаса; но в уме его продолжали возникать и развиваться мысли, одна другой решительнее и так мало похожие на те, с которыми он жил до сих пор, что ему казалось, что какая-то посторонняя сила управляет его волей, внушая ему не только слова, которые он произносил, но и движения, которыми он сопровождал эти слова.
– Я не считаю вас вправе, сударь, предлагать мне вопросы, касающиеся моей частной жизни, – ответил он с достоинством, приподнимаясь с кресла и продолжая разговор стоя.
Борисовский, стиснув губы, что было у него признаком сдержанного гнева, нагнулся к столу, отпер один из ящиков в нем и, вынув из него сложенную вчетверо бумагу, подал ее ему.
– Вам, может быть, угодно прочесть предписание, в силу которого я позволяю себе предлагать вам такие неприятные вопросы? – произнес он, меняя тон на строго официальный.
Владимир Борисович с легким поклоном взял бумагу и внимательно ее прочел.
Борисовский сказал правду: это был приказ допросить корнета Углова до выезда их за границу о том, куда возил его такого-то числа и в таком-то часу князь Барский и с какою целью. Но вместе с тем из прочитанного предписания Владимир Борисович понял также, что тем, от кого шло это предписание, ничего не было известно, кроме того, что князь Барский за ним заезжал и куда-то его возил. И это убеждение придало ему бодрости.
– Что же вы на это скажете? – спросил Илья Иванович, когда, прочитав бумагу, Углов сложил ее и подал ему обратно.
– То же самое, что сказал вам раньше.
– Вы не желаете быть со мною откровенным?
– Не желаю и нахожу, что никто не имеет права требовать от меня большего, чем то, что предписывает мне долг чести и присяги.
– Вы поступаете опрометчиво, молодой человек, и будете раскаиваться в этом, – строго произнес Борисовский.
Углов промолчал.
– И, к моему величайшему сожалению, я должен предупредить вас, что, если вы будете упорствовать, я принужден буду продолжать свой путь один, а вас отправить, под надежным конвоем, немедленно в Петербург. Там будут счастливее меня и заставят вас сказать то, что вы не хотите доверить мне.
– Я и там скажу то же, что и здесь, – объявил Углов.
– Как вам будет угодно, но вы теперь сами должны понимать, что употреблять вас на царскую службу мне уже невозможно. Мы не можем доверять человеку, который нам не доверяет, – прибавил Илья Иванович, в свою очередь поднимаясь с места. – Мне вас очень жаль, сударь. Пред вами открывалась блестящая карьера. Вам предстояла возможность доказать вашу преданность нашей всемилостивейшей императрице…
– Моя преданность государыне остается неизменна, сударь, и я никому не позволю сомневаться в этом! – запальчиво произнес Углов.
Тут Борисовский снова переменил тон на прежний, добродушный, и начал уверять Владимира Борисовича в том, что он успел привязаться к нему во время пути и что ему очень жаль, что им не суждено вместе и сообща послужить отечеству.
– Я льстил себя надеждой, что мы не в последний раз отправляемся за границу с секретными поручениями от императрицы, я радовался быть с вами во всех отношениях полезным своею опытностью, советами и всем, чем только могу, – продолжал он с чувством. – Мне вас так жаль, сударь мой, что я никак не могу примириться с мыслью, что вы не измените своего решения, и даю вам время на размышление. Депеши мои еще не готовы, и после ужина я за них снова примусь, а вы тем временем обдумайте мои советы и помолитесь Богу. От всей души желаю, чтобы Господь вразумил вас на мудрое решение порвать с человеком, который поставил вас в несносное положение. Князь Барский не достоин ни вашего уважения, ни сострадания; он самым бессовестным образом ответил на милости, которыми осыпала его государыня, и, чем бы посвятить всю свою жизнь на служение ей, якшается с врагами своего отечества и всеми своими словами и поступками позорит имя славных своих предков. За ним уже давно учрежден тайный надзор, а равно за всеми, кого он вовлекает в свою партию…
Эти слова были произнесены Борисовским в виде напутствия Углову, когда они вместе подошли к двери комнаты, которая была предоставлена в распоряжение последнего и в которой он, так еще недавно, оставил Левошку, готовившего ему постель. Теперь тут никого не было, и можно было различать предметы только благодаря лунному свету, проникавшему сквозь ветви деревьев.
Предварительно заперев дверь за своим пленником, Борисовский удалился, и Углов остался один. Убедившись, что подсматривать за ним и подслушивать некому, он с глухим стоном повалился на кровать. Отнять у него всякий выход из печального положения; судьба поманила его мимолетной удачей, чтобы почти тотчас же ввергнуть в пучину бедствий, еще хуже и безнадежнее той, в которой он метался перед свиданием с цесаревной.
Теперь только понял Владимир Борисович, чем было для него это свидание! Каким щитом служило данное ему поручение против личных его невзгод! Как далеко отошло все, чем он мучился до той минуты, когда в его жизнь неожиданно вторглась забота об оправдании доверия, оказанного ему супругой наследника престола.
Это доверие так возвышало его в собственных глазах, что он не иначе, как с презрением вспоминал о злодеях, строивших козни против его чести и состояния. Если клевета не запачкала его в глазах такой высокой особы, то не доказывает ли это бессилие и явную гнусность клеветников?
Молодой корнет не говорил себе, что новая покровительница сумеет защитить его, что человека, которого она отличила, не посмеют невинно преследовать; он не останавливался на последних словах князя Барского, на его обещании не забывать его и блюсти его интересы. Рассчитывать на это претило Углову, как умаление чувства безграничной преданности, с которым он шел, в радостном экстазе, навстречу всевозможным затруднениям и опасностям. Но тем не менее и это упование таилось в глубине его души, так что теперь к его отчаянию быть лишенным возможности исполнить данное ему поручение невольно примешивался ужас при мысли о позорной обстановке, при которой ему суждено вернуться в столицу. Позор, ожидавший его, был так велик, что при самом благоприятном обороте дела ему останется только бежать в деревню на всю жизнь и забыть всякие мечты о каких бы то ни было честолюбивых замыслах. А ему было только двадцать два года, он был любим, и жизнь его только что начиналась.
Не лучше ли, не дожидаясь худшего, покончить с собой.
Но эта мысль только промелькнула в голове Владимира Борисовича, и он испугался – не смерти, нет, а того нравственного падения, в которое ввергло его отчаяние. Неужели Господь совсем отступился от него? Неужели он должен погибнуть безвинно, не узнав даже имени своего врага, не отмстив за себя и за родителей?
Снова начал Углов размышлять о том, что произошло, и, чем ярче воскресали в его памяти подробности достопамятного дня, предшествовавшего его выезду, тем яснее сознавал он связь направленных против него преследований с кознями против великой княгини и опасность положения, в котором он оказался. В его лице преследуют слепое орудие сторонника цесаревны, князя Барского. Это было ясно, как день, так же ясно, как недомолвки и намеки, к которым он так небрежно относился, вращаясь в обществе блестящей столичной молодежи. Теперь молодой человек понимал значение таких слов, как «партия цесаревны» и «партия цесаревича», «измена Бестужева», «интрига Воронцова» и тому подобные сплетни, занимавшие город.
Товарищи не стеснялись с ним и, может быть, умышленно заводили при нем разговоры о том, что ждет Россию в случае кончины императрицы. Возбудить в Углове любопытство к такого рода опасной затее, как государственный переворот, никому до сих пор не удавалось: он был слишком легкомыслен и беспечен, слишком привязан к светским удовольствиям, чтобы рисковать своим счастьем и спокойствием ради честолюбивых замыслов, цель которых была недоступна его пониманию. Тем не менее его не оставляли в покое, и ему вспомнилось странное впечатление, вынесенное месяца два тому назад на вечеринке у братьев Орловых, куда его затащили почти силой и где за ужином все перепились и понесли такую околесицу, что ему стало не по себе, и он непременно уехал бы до конца пира, если бы ноги не отказались нести его. Сам не понимая, как это случилось, опомнился он от тяжелого забытья в отдаленной комнате, на широком диване, в нескольких шагах от окна, у которого разговаривали двое из гостей.
– …после примирения пошло еще хуже, – произнес вполголоса один из собеседников, – с нею не хотят даже и минуты оставаться наедине, не хотят выслушать ее объяснений.
– А он к Лизавете все больше и больше льнет, – подхватил другой.
– Да, кабы не Лизавета, наша давно бы уехала в монастырь.
– Это всегда успеется. Стеречь надо зорче. Он спит и видит скорее вдовцом сделаться.
– Ну, это ему не удастся, нас много! – воскликнул первый так громко, что второй испугался.
– Тише! – прошептал он и при этом, вероятно, указал на кровать, потому что ему возразили, с обидным для Углова пренебрежением, что такого дурака опасаться нечего.
– Он и трезвый-то ни во что не вникает и дальше своего носа не видит…
Тут, на счастье Углова, кто-то вошел и прекратил неприятное положение, в которое ставила его невозможность прекратить подслушанный против воли разговор. Собеседники покинули комнату, а вслед за тем и Владимиру Борисовичу представилась возможность благополучно выбраться из дома, где почти все гости находились в невменяемом состоянии от французских и испанских вин, которыми угостили их гостеприимные хозяева.
Теперь молодой человек и про этот случай вспомнил, и последний представился ему совершенно в новом свете. Он понимал, что можно было и в трезвом состоянии говорить о печальном положении цесаревны, об опале канцлера Бестужева, о намерении великой княгини удалиться в монастырь и что вся эта затея не допустить великого князя до престола, не так бессмысленна, как представлялась она ему в Петербурге. Понял он также, что обстоятельства так сложились, что ему необходимо решить, за кого стоять: за наследника престола или за его супругу, и что князь Барский обманным образом так далеко завлек его в свой лагерь, что отступление уже невозможно. Но он не выдал бы даже женщины простого звания, доверившей ему свою тайну, а о том, чтобы изменить слову, данному цесаревне, и речи не могло быть.
И снова предстала перед Угловым цесаревна такой, какой он видел ее в ту достопамятную ночь перед своим отъездом, с бледным, печальным лицом, с заплаканными глазами и вымученной улыбкой. И, как тогда, когда он чувствовал на себе ее пристальные взгляд, пытливый взгляд, так и теперь восторженное умиление залило ему душу, и его сердце забилось от страстного желания доказать ей, что он достоин оказанного ему доверия. Не может он не служить ей всю свою жизнь до последнего вздоха. С ним могут делать все, что угодно, замучить его до смерти, – он останется ей верен!
Теперь надо прежде всего позаботиться о том, чтобы доставить ей обратно письмо. Можно себе представить, в какую тревогу повергнет ее его арест!
Владимир Борисович стал ходить большими шагами взад и вперед по комнате, схватив обеими руками голову и сжимая ее изо всех сил, чтобы выжать из нее мысли, но ничего подходящего не навертывалось ему на ум. Оставалось только одно средство сохранить вверенную ему тайну: уничтожить письмо, сжечь его…
Но как уведомить об этом? И какое имеет он право так поступать, не испробовав предварительно всех средств, чтобы выполнить ее приказание?
И вдруг соображение, страшнее всех прочих, прожгло его мозг: «Что мне делать, если Борисовскому вздумается обыскать меня пред тем, как отправить в путь?»
Чем больше думал он об этом, тем больше убеждался, что именно так случится, и он проклинал себя за недогадливость. Успеет ли он истребить письмо? Надо было высечь огня, а у него для этого не было никаких приспособлений.
Как затравленный зверь, стоял Углов среди комнаты, озираясь по сторонам блуждающим взглядом, не замечая, что уже давно два внимательных черных глаза с жадным любопытством следят за всеми его движениями, прислушиваясь к каждому его слову и стону.
Озабоченность молодого человека придавала соглядатаю смелости. Сначала он смотрел на него издали, вскарабкавшись на скамейку в аллее, как раз против окон пограничного русского дома. Затем он заинтересовался волнением приезжего молодого господина, его беготней из угла в угол, отчаянными жестами, а главное – тем обстоятельством, что он тут терзается какими-то непонятными муками совершенно один, в то время как спутник его ужинает с безруким майором. Тогда любознательный человек, осторожно оглянувшись по сторонам и убедившись, что подсматривать за ним некому – наступила ночь и город опустел, – осторожно и крадучись вдоль стен, чтобы не попасть на пространство, облитое лунным светом, пробрался к окну, перед которым в душевной пытке беспомощно метался несчастный Углов, и, вскарабкавшись на большой камень, поднялся на цыпочках до подоконника. Тут он зацепился за край его крючковатыми, грязными пальцами и запустил взгляд в комнату в ту самую минуту, когда Углов в нерешительности то принимался расстегивать пуговицы своего камзола, то, прислушиваясь к воображаемому шороху в коридоре и с испугом оглядываясь на дверь, снова застегивал их дрожавшими от волнения пальцами.
Этого достаточно было человеку, наблюдавшему за ним, чтобы догадаться, что приезжий господин находится в крайне возбужденном настроении и что у него имеются серьезные причины кого-то опасаться и ждать нападения немилосердного и сильного врага.
Прежде чем начать расстегивать камзол, Углов вынул из бокового кармана распечатанное письмо и туго набитый кошелек и положил то и другое на стол. Человек заметил также и это. С сообразительностью, свойственною людям, привыкшим всю жизнь приноравливаться к обстоятельствам, чтобы извлекать из них немедленную и наибольшую для себя пользу, он сказал себе, что дольше медлить было бы глупо, что незнакомец не без причины опасается быть застигнутым врасплох. Поэтому, сначала тихо, а затем все сильнее и сильнее, он стал стучать по подоконнику согнутым пальцем, чтобы привлечь на себя его внимание.
Удалось это не вдруг. В первую минуту стук заставил Углова обернуться не к окну, а в противоположную сторону, к двери, и остановиться, одной рукой хватаясь за грудь, а другой – за кинжал.
Про кошелек, лежавший на столе, он и не вспомнил, что убедило соглядатая в мысли, что он боится не за деньги, а за что-то другое. Это убеждение придало ему смелости.
– Господин! Господин! Не бойтесь, это – я! – проговорил он хотя и шепотом, но настолько громко, что Углов подбежал к нему.
В первую минуту он не узнал в голове с пейсами и с сверкавшими умными глазами, опиравшейся подбородком на подоконник, еврея, назойливо предлагавшего ему свой товар в то время, когда он смотрел с крыльца на прогуливающихся по аллее прелестниц, но этот последний поспешил сам отрекомендоваться.
– Не бойтесь, господин! Я – бедный еврей, очень несчастливый человек, от меня вам худа не будет. Я хочу услужить вашему сиятельству. Я – маленький человек и очень-очень бедный; у меня жена и много детей, всех кормить надо, и для этого много, ох, как много надо работать! Я могу вам услужить, ваше сиятельство, я здесь вырос и всех здесь знаю. Меня и господин майор, как честного еврея, знает, – я приношу ему табак из-за границы… чудесный табак, самый лучший, какой король курит, и никогда лишнего не беру. Я немецкую землю знаю лучше русской, – продолжал он, ободренный молчанием своего слушателя и внимательным взглядом, которым тот смотрел на него. – Доверьтесь мне, ваше сиятельство! Скажите, чем я могу вам помочь?
У Углова в уме мутилось от новых соображений. Как утопающий хватается за соломинку, чтобы спастись, так и он хватался за решения, одно несообразнее другого, но он отбрасывал их по мере того, как они возникали в его уме. Таким образом остановился он не долее секунды на мысли доверить этому еврею письмо цесаревны и отогнал от себя прочь намерение дать ему денег, чтобы тот поскакал с этим письмом к князю Барскому. Однако, когда новый его знакомец упомянул про свои связи за границей, Углов, задыхаясь от волнения и со сверкающими радостью глазами, спросил:
– Ты можешь помочь мне перейти границу?
– Могу, господин, – поспешно закивала голова, смотревшая на него с подоконника снизу вверх.
– Ну, так действуй! Времени осталось немного, нам каждую минуту могут помешать. Мне надо быть за границей, когда они отужинают.
– Будете раньше, господин.
– Получишь за это десять червонцев, – продолжал Углов, но, заметив разочарование, выразившееся на лице еврея, поспешил прибавить, вынимая из кошелька означенную сумму и раскладывая ее на подоконнике: – Это сейчас, а когда доставишь меня до надежного места, я дам тебе еще столько же. Больше не могу, у меня в кошельке всего двадцать два червонца.
Молодой человек говорил правду; все его богатство состояло из двадцати двух червонцев, – но ему казалось, что лучше оставаться на свободе без денег, чем быть привезенным под конвоем, как государственный преступник, в Петербург, чтобы быть заключенным в крепости, хотя бы с двадцатью двумя червонцами в кармане.
– Решайся скорее! – прибавил он, задыхаясь от волнения. – Больше мне дать тебе нечего.
– Сейчас принесу вашему сиятельству переодеться…
– Как это переодеться?
– Ну да! Разве возможно проводить ваше сиятельство через границу иначе, как под видом нашего брата, еврея? Вы наденете платье моего племянника Шмуля, который одного с вами роста и сложения, и я скажу солдатам, что мы идем в город за бочонком вина, выписанным для господина майора. Они часто нас пропускают, потому что им известно, что господин майор всегда обращается к Боруху, когда ему нужно заграничное вино, – прибавил еврей с гордостью.
В то же время он косился взглядом на деньги, сверкавшие на облитом лунным блеском подоконнике так близко от него, что стоило бы только протянуть руку, чтобы ими овладеть. Но у Углова был строгий и решительный вид, а на поясе у него висел такой длинный и, без сомнения, острый кинжал, что если бы даже эта мысль и пришла еврею в голову, то он немедленно отказался бы от нее, как от опасного сумасбродства.
– Ну, действуй скорее! – согласился после минутного колебания Углов, которому этот маскарад далеко не улыбался.
– О, я сейчас! – ответил Борух, соскакивая на землю и со всех ног пускаясь бежать.
Когда он исчез за деревьями аллеи, по которой Углов некоторое время мог следить за его быстро удалявшейся фигурой, согнутой в три погибели, чтобы незаметнее сливаться с кустами, Владимир Борисович снова впал в отчаяние. Не вернется этот новый покровитель вовремя, чтобы спасти его! Эта встреча – не что иное, как новое поддразнивание судьбы, чтобы опять ввергнуть его в бездну уныния.
Опять начал он прохаживаться взад и вперед по комнате, ероша себе волосы и моля Бога, чтобы Борисовский не нагрянул до тех пор, пока его спаситель вернется с платьем племянника.
IV
В одной из комнат Летнего дворца, обычного местопребывания императрицы Елизаветы Петровны, лежала на диване, уткнувшись лицом в подушку, молодая девушка и горько плакала.
Она была красиво и нарядно одета в модный костюм, называвшийся французским и состоявший из юбки светлой шелковой материи на фижмах, длинного корсажа на костях, низко вырезанного на груди, прикрытой прозрачной косынкой, с пышными рукавами, доходившими до локтя, и из зеленых башмаков на высоких каблуках. На маленькой, грациозной головке девушки возвышалась такая причудливая и высокая прическа, что она, роста немного ниже среднего, казалась высокой и занимала диван во всю его длину: ее стройные ножки упирались в одну из бронзовых химер, увивавших ручки дивана, а напудренные локоны доходили до другой.
Окна комнаты выходили на внутренний двор, обсаженный деревьями, с клумбами цветов посреди, а обстановка ее представляла собою странную смесь роскоши с простотой, доходившей до грубого убожества. К столу из белого мрамора на вызолоченных ножках приставлен был стул из простого дерева, плохо выкрашенного в красную краску; рядом вычурными креслами заграничной работы, с остатками пожелтевшей от времени обивки из белого атласа, стоял поставец в византийском вкусе, уставленный сборными штучками; рядом с пастушкой из севрского фарфора нагло выпячивался безобразный глиняный утенок-свистулька и красовалась расписная деревянная чашка, из-за которой выглядывало одним краешком гнездышко с птичками художественной работы из слоновой кости.
За исключением потолка, расписанного искусным художником, до амуров и богинь которого никакая дерзновенная рука не могла достичь, – так он был высок, все здесь было искалечено временем и отсутствием вкуса. По стенам, обитым вылинявшим штофом некогда малинового цвета, висели в неуклюжих рамах портреты безобразных людей в пестрых одеяниях, с деревянными безжизненными лицами, а над диваном из овальной облупившейся золоченой рамки выглядывало, как живое, прелестное личико с большими синими глазами, оттененными такими темными ресницами, что эти глаза должны были казаться, при известном освещении, совсем черными.