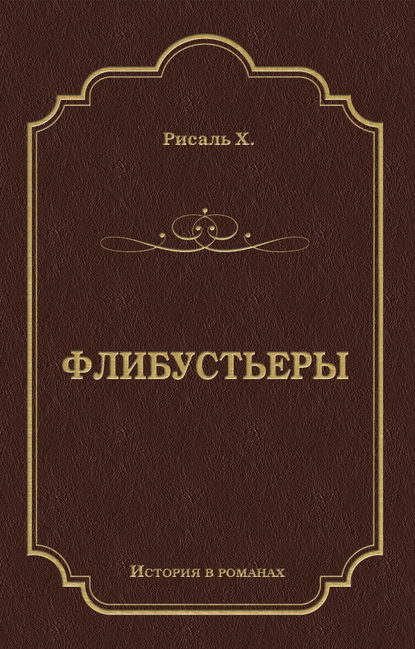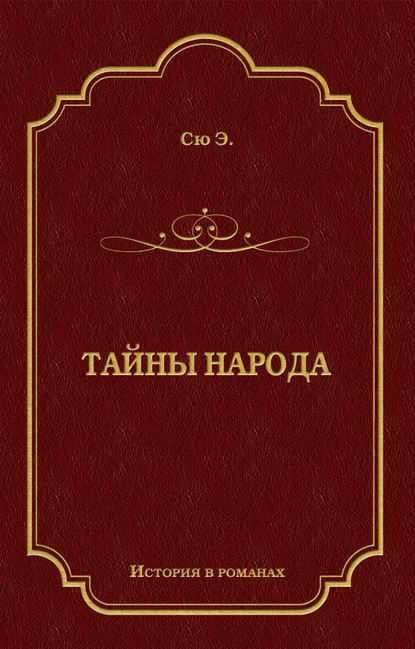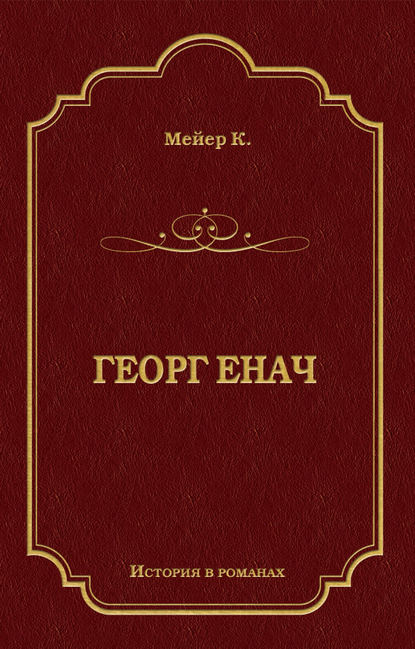Полная версия
Авантюристы
– Ну, вот мы и приехали, сударь мой, – сказал князь, опуская окно, в которое Углов поспешил выглянуть через его плечо, причем увидал при белесоватом свете занимавшейся зари, что они стоят перед чугунной решеткой сада. – Сейчас вы узнаете, кто та личность, которая пожелала видеть вас, – продолжал князь, обращая к нему свое красивое, побледневшее лицо с твердым взглядом больших серых глаз, опушенных темными ресницами. – Но я прошу вас, сударь, дать мне честное слово русского офицера и дворянина, что вы последуете за мною, не оглядываясь по сторонам и не отставая от меня ни на шаг. Предупреждаю вас, – продолжал он, понижая голос и приближая к нему свое лицо так близко, что Углов почувствовал его горячее и прерывистое дыхание, – что при малейшей вашей неосторожности произойдет такой ужасный скандал, что я буду вынужден проколоть себе грудь этой шпагой, – прибавил князь, хватаясь за рукоятку шпаги, приподнимавшей его широкий, подбитый алым бархатом, черный плащ.
Углов поспешил исполнить это желание, и его спутник, учтиво поблагодарив, выпрыгнул из кареты.
Владимир Борисович последовал его примеру. Карета отъехала, и, должно быть, куда-то далеко, потому что, когда они дошли до чугунных ворот, которые князь отпер ключом, вынутым из кармана, и Углов, прежде чем пройти за ним в сад, оглянулся на двор, окруженный стенами с наглухо заколоченными окнами, при этом дворе никого, кроме них, не было. Кругом было так тихо и пусто, что можно было вообразить себя за сто верст от города.
Впрочем, долго осматриваться и размышлять не пришлось: князь так поспешно шагал по аллеям, поворачивая то вправо, то влево, что только мельком можно было разглядеть клумбы, беседки, мраморные скамьи, мимо которых они не останавливаясь проходили. Наконец они вышли на круглое пространство, окруженное с трех сторон столетними дубами и вязами и красивым строением затейливой архитектуры с четвертой. Посреди был бассейн. Дом, напоминавший своей архитектурой древний храм, посвященный мифологической богине, был украшен белыми колоннами, между которыми чернелись впадины окон, длинных и узких, с разноцветными стеклами.
Тут было так же тихо, как и в остальной части сада. Углов невольно оглянулся на своего спутника, но тот продолжал пробираться вперед, стараясь ступать как можно тише, осторожно придерживая шпагу запахнутым плащом.
Невольно следуя его примеру, Владимир Борисович решил не беспокоить его расспросами, тем более что теперь недолго было уже ждать развязки таинственного приключения, и молча проследовал за своим спутником до террасы, спускавшейся к бассейну.
Тут князь остановился, внимательно оглянулся по сторонам. Затем, попросив Углова подождать его, он стал прокрадываться вдоль стены до крайнего окна; потом он поднялся к последнему, прыгнув за выступ колонны, и, приблизив лицо к стеклу, внимательно смотрел, выжидая, может быть, условного знака.
Это продолжалось довольно долго. Вдруг в доме поднялось движение, мимо окон пробежала тень и мелькнули тотчас же скрывшиеся огоньки. Князь соскочил с приступка и скрылся за углом дома в кустах, окружавших его.
Снова воцарилась прежняя мертвая тишина, прерываемая только робким чириканьем птиц. Небо все ярче и ярче окрашивалось пурпуром восходящего солнца, день обещал быть теплым и ясным, и замкнутость молчаливого дома казалась еще таинственнее и мрачнее.
Однако вскоре опять пробежали тени, и замелькали огоньки мимо окон; между колонн растворилась дверь, и на пороге ее появился князь. Углов в два прыжка очутился возле него, и, продолжая хранить молчание, они вместе вошли в дом.
Тут было совершенно темно, как ночью, и, если бы не свет от лампы, спускавшейся с потолка на золоченых цепях, Углову невозможно было бы разглядеть обстановку комнат, через которые он проходил за своим спутником. Впрочем, шли они так быстро и волнение его было так сильно, что, кроме общей роскоши обстановки, он ничего не мог заметить.
– Сбросьте плащ, сударь! – сказал ему князь, когда они очутились перед запертой дверью в конце длинной галереи, увешанной картинами в золотых рамах.
Углов повиновался.
Князь растворил дверь и вошел в комнату, показавшуюся его спутнику выше и красивее предыдущих. Здесь сильно пахло цветами.
Прямо против той двери, в которую они вошли, была другая, и на пороге ее стояла женщина в белом. Князь поспешно направился к ней, а за ним и Владимир Борисович.
– Ваше высочество, корнет Углов, – произнес с низким поклоном Барский, отступая к окну и оставляя таким образом его одного перед великой княгиней Екатериной Алексеевной.
Но Углов не вдруг узнал ее – так мало она была похожа на жизнерадостную, остроумную принцессу, которую ему два раза удавалось видеть издали, на выходах во дворце, среди блестящей свиты, сияющей красотой в усыпанном драгоценными камнями наряде. Теперь перед ним стояло неземное существо, напоминавшее скорее богиню меланхолии и печали, чем блестящую цесаревну, будущую императрицу.
И насколько эта казалась ему прелестнее той! Бледное лицо без румян, с глубокими, темными глазами, смотрело на него с таким пытливым и вместе с тоскливым выражением, что ему стоило невыразимых усилий, чтобы не упасть перед нею на колена.
Должно быть, цесаревна прочла это на лице молодого человека: ее губы тронула улыбка, от которой все ее лицо на мгновение просветлело, и она ласково сказала, протягивая ему запечатанное письмо:
– Благодарю вас, господин Углов, что не замедлили явиться на мой зов. Вы можете оказать мне услугу, передав по адресу это письмо, когда будете в Париже.
Владимир Борисович с низким поклоном взял письмо.
Между тем великая княгиня продолжала:
– Если так случится, что вы в Париж не попадете, привезите это письмо обратно.
Углов опять низко наклонил голову.
– Но, если вы увидите личность, которой оно адресовано, скажите ей, что вы меня видели, что я сама вручила вам это письмо для него, что он может через вас написать ответ, и пусть он за меня не беспокоится. Я здорова и, ни на что не взирая, хороших мыслей, – прибавила цесаревна с особенным ударением на последних словах.
Углов пристально смотрел на нее, мысленно повторяя каждое ее слово. Весь превратившись в слух, он ждал, что скажет она еще, но аудиенция кончилась. С милостивой улыбкой протянула великая княгиня ему руку, которую он с благоговением поднес к губам, взглянула на князя и, снова обернувшись к Углову, ласково кивнула ему. Когда низко поклонившись, Владимир Борисович поднял голову, ее уже не было в комнате; около него стоял князь и знаком предлагал ему следовать за ним.
Они вышли из дома другим ходом, чем тот, которым вошли в него, опять очутились в саду и прошли широкими аллеями к воротам в решетке, где дожидалась их карета, с лакеем в темной ливрее у дверцы, которую он держал отпертой, и с откинутой подножкой в ожидании дальнейших приказаний.
– Поезжайте с богом, мой друг, вы не опоздали: еще нет пяти часов, – проговорил князь, подходя к карете и движением руки приглашая Углова сесть в нее.
Владимир Борисович молча повиновался. Он не в силах был произнести ни слова от волнения и только крепко пожал протянутую ему руку.
Князь же, не выпуская его руки из своей, поднялся на подножку и, пригнувшись к нему, произнес взволнованным шепотом:
– Мне нечего говорить вам, что все случившееся должно оставаться в глубочайшей тайне между мною, вами и той, которая удостоила вас своим доверием: вы не были бы достойны звания русского дворянина, если бы забыли это. Но считаю своим долгом предупредить вас, что от доставления доверенного вам письма зависит спокойствие великой княгини и что она тогда только перестанет тревожиться, когда узнает, что ее поручение исполнено. Прибавлю к этому, что женщины, несчастнее нашей цесаревны, нет на всем земном шаре и что надо быть бесчувственным, чтобы не отдать с радостью за нее жизнь! Благодарите Бога, сударь, что судьба предоставляет вам случай быть нам полезным, и будьте убеждены, что мы будем здесь блюсти ваши интересы лучше, чем если бы вы имели возможность сами заняться этим. А теперь, чтобы облегчить вам исполнение задачи, даже и в таком случае, если бы вам не удалось вполне благополучно совершить ваше путешествие с курьером иностранной коллегии, я дам вам рекомендацию к одному из моих заграничных приятелей в Германии. Это – человек, с вида весьма скромный, но с таким влиянием в дипломатических сферах, что он может быть вам очень полезен. Доберитесь только до местечка Блукнест, в Баварии, и спросите пастора Даниэля: всякий укажет вам его жилище, все его там знают. Назовите ему мое имя, он примет вас, как родного, и сумеет расчистить вам дорогу всюду, куда бы вы ни пожелали проникнуть.
С этими словами Барский спрыгнул с подножки и приказал кучеру ехать, а Владимир Борисович снова очутился в темноте. Но на этот раз он этого не замечал. Скорбный образ цесаревны продолжал стоять перед его глазами, а голос ее, невыразимо приятный, продолжал звучать в его ушах, затмевая и заглушая все прочие образы и звуки. В уме настоятельно вертелся один вопрос: «Как скрыть от всех глаз доверенное ему письмо?» Казалось, что счастье не только земной, но и загробной его жизни зависит от благополучного решения этой задачи.
Молодой человек был так поглощен своей новой миссией, что опомнился тогда только, когда карета остановилась перед крыльцом его дома и он увидел перед собой глупо ухмылявшееся лицо своего камердинера.
– Что случилось? – спросил Владимир Борисович, поспешно входя в зал и не переставая придерживать карман с драгоценным письмом, под которым билось его сердце.
– Ничего-с, – не без смущения ответил Левошка.
– Был тут без меня кто-нибудь?
– Были-с, – объявил Левошка.
– Как же ты говоришь, что ничего не случилось? – воскликнул бледнея Углов.
– Да ничего и не случилось, сударь… Прибегала только девка от Чарушиных господ, с письмом от барышни. Днем-то ей, вишь, недосуг было урваться, так она чуть свет, пока в доме никто не проснулся, – прибавил он с усмешкой.
Барин вздохнул с облегчением. Только письмо от Фаины! Его опасения, слава богу, были напрасны! За ним не подсматривали, его не проследили, обыскивать его не станут, и ему на этот раз не придется защищать до последней капли крови вверенное ему сокровище. Но надо запрятать его в более надежное место; надо так устроить, чтобы не расставаться с ним ни днем, ни ночью… никогда!
Владимир Борисович прошел в кабинет и велел принести иголку с нитками; когда ему подали требуемое, он заперся на ключ и, отрезав от полотенца, висевшего на стене, кусок холста, зашил в него вынутое из кармана камзола письмо, предварительно поцеловав печать и взглянув на надпись: «Au sieur Godineau. Paris. Marais. 16». Затем, крепко-накрепко прицепив импровизированную сумку к цепочке с крестом и к ладанке с мощами, висевшей у него на шее, надел камзол, мысленно давая себе слово, тотчас по приезде в большой город, заказать для своего сокровища мешочек из кожи. Теперь нечего было об этом думать – времени оставалось так мало, что надо было благодарить Бога за то, что и таким образом удалось запрятать письмо.
Не успел Углов застегнуть последнюю пуговицу камзола, как на двор въехали две тележки, запряженные тройками, по наружному виду ничем не отличавшиеся одна от другой. С первой из них соскочил Илья Иванович, а на второй продолжал сидеть, неподвижно и ни на кого не глядя, Макарка.
Углов так заторопился навстречу своему спутнику, что пробежал не оборачиваясь мимо стола, на котором лежала записочка Фаины.
– Ну что? Готовы? – приветливо улыбаясь, спросил Илья Иванович. – Ничего не забыли? Все распоряжения сделали?
– Я готов, – ответил Углов, невольно отвертываясь от пытливо устремленных на него глаз. – Вот только это и беру с собою, – прибавил он, указывая на чемодан, который один из слуг выносил на крыльцо, – да лакей мой берет мешок с разным домашним скарбом.
– Отлично! А деньги куда вы спрятали, сударь?
– Деньги? – переспросил Углов.
В своем волнении и в хлопотах он забыл про кошелек с золотом, засунутый под подушку, и побежал в спальню. Эта подробность не ускользнула от внимания Ильи Ивановича, он, сосредоточенно сдвинув свои синие, гладко выбритые губы, до тех пор смотрел на дверь, пока Владимир Борисович снова в ней не появился.
– А это что такое у вас, сударь? – спросил Борисовский, указывая на записку, которую Углов мимоходом через кабинет захватил со стола и продолжал держать в руке, думая о другом.
– Записка от приятеля. Прочту дорогой, – ответил корнет, небрежно засовывая записку в боковой карман.
Илья Иванович лукаво усмехнулся.
– Не от приятельницы ли? – добродушно пошутил он, но тотчас же, словно раскаявшись в своей неуместной шутке, поспешил заявить, что пора ехать, и направился к выходу.
Между тем у крыльца люди Углова хлопотали у тележек. Левошка засовывал свой мешок в ноги Макарке, который продолжал сидеть идолом, не принимая ни малейшего участия в происходившей вокруг него суматохе, и равнодушно на всех поглядывал из-под надвинутого на лоб большущего козырька дорожной фуражки.
С недоумением посматривая на него, Левошка спрашивал себя: «Чем такой вялый, неповоротливый черт может быть полезен своему барину в дороге?» Однако, когда, запихнув в ноги «идола» мешок, он повернулся, чтобы идти с чемоданом к другой тележке, Макарка окрикнул его:
– Эй, ты, ловкач, куда с чемоданом-то попер? Давай его сюда!
– Барин велел к нему положить…
– Давай сюда! – повторил его будущий товарищ так грозно, что ноги Левошки сами собою зашагали к тележке, от которой он только что отошел, а руки покорно протянули увальню чемодан.
Макарка привстал, порылся под сиденьем, не оглядываясь вырвал протянутую ему ношу из рук оторопевшего Левошки и опустил ее так глубоко, что, когда снова уселся на прежнее место, никто не сказал бы, что под ним находится весьма объемистый предмет.
– Готово? – закричал с крыльца его господин.
– Готово-с, – отозвался глухим басом слуга.
– Ну, с Богом! Усаживайтесь покойнее, сударь. Подушку вашу можете в ноги себе положить, у нас экипаж к продолжительным путешествиям приспособлен, – распространялся Илья Иванович, опускаясь на мягкое сиденье рядом со своим спутником.
Владимир Борисович перекрестился, и лошади тронули среди громких пожеланий доброго пути и скорого возвращения провожающих.
Илья Иванович с довольным видом заметил, что им удалось выехать раньше, чем он рассчитывал.
– Это я за хороший знак считаю, сударь. Опоздать, по-моему, все равно, что с попом повстречаться: такие тебе пойдут препятствия во всем, что ни за что потерянного времени не наверстать, – прибавил он, в то время как лошади, завернув за угол переулка, где был дом Углова, дружно побежали по пустой и молчаливой улице, залитой лучами восходящего солнца.
III
Владимир Борисович очень скоро освоился с новым своим положением путешествующего по казенной надобности. Только в первые дни страдал он от толчков и ухабов да от невозможности, с непривычки, спать сидя, как его спутник; но мало-помалу он привык к этим неудобствам и без особенного сожаления отказался от удовольствия попариться в бане, топившейся на постоялом дворе, к которому они подъехали на седьмой день по выезде из Петербурга и где им весьма любезно предложили воспользоваться ею.
Предложение было так заманчиво, что, несмотря на необходимость торопиться, Илья Иванович не в силах был против него устоять.
– Ничего так не полезно дорогой, как баня, – уверял он своего спутника, советуя ему воспользоваться случаем попарить разбитые кости по-русски. – Как рукой, всю боль снимет.
Но у Углова были веские причины отказываться от этого предложения: до сих пор ему удалось скрыть от всех глаз письмо, висевшее у него на шее вместе с крестом, и он с радостью готов был вынести всякие неудобства, лишь бы добраться до границы благополучно. Кроме того, он до сих пор не удосужился прочитать записку Фаины, и это не на шутку раздражало его.
Если в первые минуты после свидания с великой княгиней восторженное умиление сознавать себя хранителем тайны такой высокой особы заглушило в Углове все прежние чувства и мысли, то, по мере того как он привыкал к своему новому положению посланца цесаревны, эти чувства начинали оживать в его сердце, и вопрос, о чем могла ему писать коварная девушка, отвернувшаяся от него, когда его постигло несчастье, – все назойливее и назойливее навертывался ему на ум. Невольно приходило в голову, что он, может быть, напрасно обвинял Фаину в измене. Разве она свободна поступать так, как ей хочется? Разве она смеет ослушаться матери? Она, может быть, была поставлена в невозможность сойти сверху, когда он томился один в зале, терзаясь незаслуженным оскорблением и сомнениями насчет ее любви? Крутой нрав Анны Ивановны был известен, и если, несмотря на строгое запрещение его видеть, Фаина решилась-таки прибежать в коридор, чтобы взглянуть на своего милого, в надежде, что он ответит любовным взглядом на ее взгляд, то не доказывает ли это, что она к нему неравнодушна и страдает не меньше его от беды, обрушившейся на его голову? И наконец это письмо, посланное, – легко себе представить, – с каким страхом и опасениями! За такое преступление против всех правил девической чести и светского приличия, ее могли сослать в дальнюю деревню. Сенаторша Чарушина шутить своею материнскою властью не любила. Углову это было лучше известно, чем кому-либо: ведь он всю эту зиму был принят у них в доме, как свой человек.
Однако эти размышления не мешали Владимиру Борисовичу в то же время думать о поручении, которым удостоила его цесаревна, и о затруднениях, которые ему придется преодолеть, если в маршрут его спутника не войдет столица французского государства. Но узнать про это зависело не от него, тогда как, чтобы узнать содержание письма Фаины, надо было только остаться минут на десять одному.
И вот, благодаря кстати подвернувшейся бане, случай представился. Не успел Илья Иванович с Макаркой и Левошкой скрыться за дверью избы, из которой валил густой дым, как Углов заперся в полутемном чулане, и, вскарабкавшись на опрокинутую кадку из-под капусты к отверстию под самым потолком, распечатал записку Фаины и прочел следующие строки:
«На Вас извет, что Вы родились не в законе и не имеете прав на имя и на состояние своих родителей. Я знаю это от тетеньки Марфы Андреевны. Злодей Ваш живет в Париже, зовут его Паулуччи, и он состоит секретарем при важном и близком к королю графе. Мне очень стыдно писать Вам потихоньку от родителей, и прошу Вас не осуждать меня за это. Да хранит Вас Бог! Еще скажу Вам, что государыня, и тетенька, и папенька, и все за Вас… и не верят клевете».
Можно себе представить, в какое волнение и отчаяние ввергло это письмо бедного Углова! Хорошо, что он ознакомился с его содержанием на седьмой день после отъезда из Петербурга! Вряд ли он был бы в состоянии сопровождать Борисовского за границу, если бы раньше узнал, в чем, собственно, дело! Вот почему дядя не сказал ему всей правды!
Владимир Борисович начинал теперь понимать, почему и у Чарушиных так избегали принимать его. Как он это и раньше смутно предчувствовал, опасность грозила не одному его состоянию, а также его чести, как дворянина, и доброму имени его родителя. И, сколько он не перечитывал письмо Фаины, не припоминал сказанное ему дядей, а также обещание, данное ему Барским – не от одного своего имени, без сомнения, – все это мало успокаивало его, и убеждение, что никто, кроме него самого, не может заставить смолкнуть клеветников и разрушить их козни, с каждой минутой все больше и больше росло и крепло в его душе.
Как разумно поступила Фаина, уведомив его, что враг его находится в Париже! Только любящее сердце могло предугадать так верно, что именно ему нужно в настоящее время! О, как он ей был благодарен! Как он любил ее и как клялся самому себе посвятить всю жизнь ее счастью, если Господь поможет ему одолеть злую судьбу!
Углов все еще стоял среди чулана с запиской в руках, погруженный в свои думы, когда в дверь постучались с известием, что лошади давно запряжены и что пора ехать. Поспешно вышел он на крыльцо и, учтиво извинившись за то, что заставил себя ждать, поспешил занять свое место в тележке, и та немедленно тронулась в путь.
Владимир Борисович привык владеть собой, и догадаться о новом ударе, постигшем его, можно было только по его бледности; но Борисовский все с любопытством исподтишка поглядывал на него, ворча сквозь зубы на упрямство молодых людей, всегда поступающих по-своему, вместо того чтобы следовать советам старших.
– Говорил я вам попариться в баньке, объяснял, что это – самое лучшее средство против усталости; не захотели меня слушать – вот и мучьтесь теперь головной болью до приезда. Нечего отнекиваться, – прервал он протест, готовый сорваться с языка его слушателя, – на вас лица нет; сейчас видно, что голова у вас трещит и члены ноют. Ну, сами виноваты, приходится терпеть. Хорошо еще, что недолго: до вечера до границы доедем, а там уж волей-неволей придется ждать – дилижанс раньше завтрашнего дня не придет.
Углову было не до того, чтобы прислушиваться к болтовне своего спутника, но он был благодарен ему за то, что тот каждым своим словом доказывал ему, что не подозревал настоящей причины его расстройства, и представлял его самому себе, не добиваясь от него ни опровержения, ни подтверждения догадок на его счет.
Все чаще и чаще попадались путешественникам населенные местечки, непохожие на те, которые они оставляли за собою. Погода изменилась, воздух был значительно мягче и теплее, деревья были в зелени и даже в цвету. Еще накануне Углов, между попадавшимися им на пути поселянами, заметил людей в одеждах, непохожих на русскую и разговаривавших между собою на непонятном наречии, и с любопытством убеждался, насколько люди эти опрятнее и учтивее русских. Когда же они стали подъезжать к пограничному местечку, где в последний раз имели дело с представителем русской власти в лице безрукого майора, начальника пограничной стражи, и Углов увидал за скромным домом с развевающимся на крыше русским флагом зеленые поля немцев, у него забилось сердце от волнения, и он на время забыл все свои опасения и заботы, чтобы думать только о диковинках, которые ему предстоит видеть, и о новых интересных ощущениях, которые ему предстоит испытать.
Борисовский был коротко знаком с безруким майором, выбежавшим к ним навстречу с приветливым лицом; они крепко обнялись. Борисовский представил майору своего спутника, тот приветливо пригласил Углова ужинать, а затем приятели вошли в дом, Владимир же Борисович остался на крыльце.
Левошка с Макаркой вынули вещи из тележек и внесли их в дом; тележки отъехали во двор; у подъезда никого не осталось. Наступавшая ночь начинала заволакивать окрестность; кое-где зажигались огни в домах, становилось свежо, а Углов все не трогался с места, вглядываясь в окружавшие его предметы и с изумлением спрашивая себя:
«Неужели то, что мне предстоит видеть, будет еще чуднее, еще менее похоже на русское и родное, чем это?»
По обсаженной высокими деревьями длинной и прямой улице, между рядами домиков с зелеными крышами и ставнями, со стенами, сплошь увитыми каприфолией и жасмином, прогуливались нарядные женщины. За ними следовали, прячась в тени деревьев и, видимо, смущаясь его присутствием, семь русских солдатиков, а через улицу, подняв высоко от пыли длинные полы грязных лапсердаков, суетливо перебегали взад и вперед, от дома начальника пограничной стражи к другому с вывеской: «Цум шварцен Адлер»[5], евреи с бутылками в руках.
Один из них, давно уже с любопытством оглядывавший Углова, подбежал к нему с предложениями услуг:
– А какое пиво изволит кушать его сиятельство? Баварское или саксонское? А, может быть, его сиятельство больше любит вино? Могу рекомендовать его сиятельству французское, а также кипрское и испанское… Не нужно ли его сиятельству хорошего голландского полотна на сорочки? – продолжал он, таинственно понижая голос и пригибаясь так близко к Углову, что последний отодвинулся. – На днях здесь поймана шайка контрабандистов с заграничными товарами; двух повесили, но они успели передать товар в надежные руки, – продолжал он, лукаво ухмыляясь. – Могу услужить его сиятельству наилучшей помадой и пудрой, прямо от поставщика знаменитой госпожи Помпадур, – прибавил он, умильно прищуривая свои масленые глаза. – Есть также у меня и кружева, которые я уступил бы его сиятельству за бесценок. Какие кружева! Ах, как будут они нужны его сиятельству, когда он будет представляться ко двору! Ах, как будут нужны! Я мог бы даже уступить его сиятельству кусок лионского бархата небесного цвета, точно такого, как тот, в котором герцог Ришелье был на последнем балу в Версале…
Еврей долго жужжал бы над ухом Углова, если бы последний не отвернулся от него и не вошел поспешно в дом.
Там он застал слуг, готовивших стол к ужину, и, спросив у одного из них, где находится отведенная для него комната, прошел длинным коридором в опрятную горницу, где Левошка готовил ему постель.