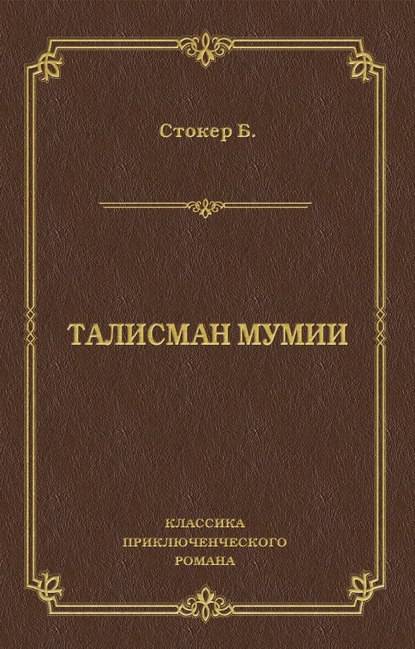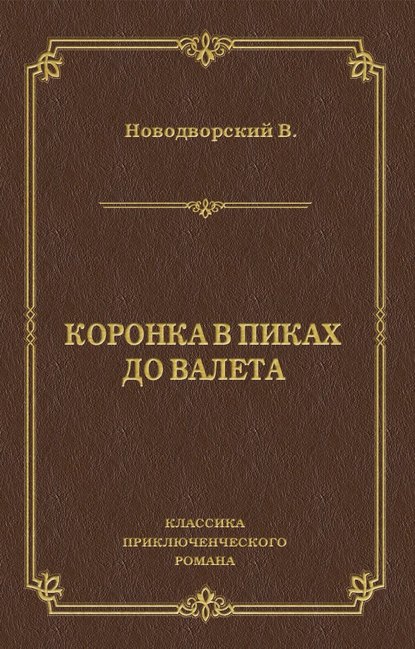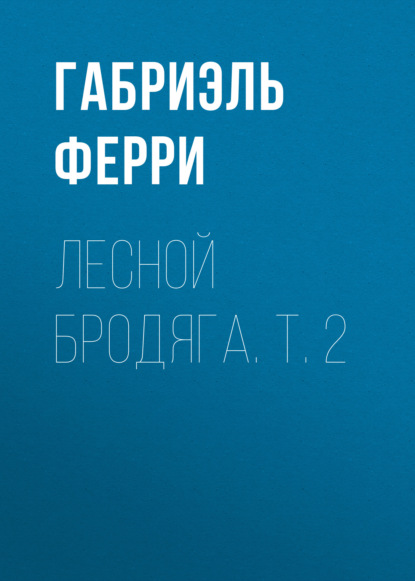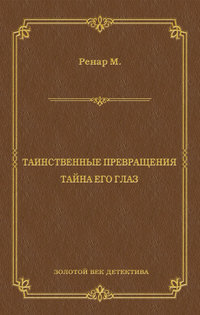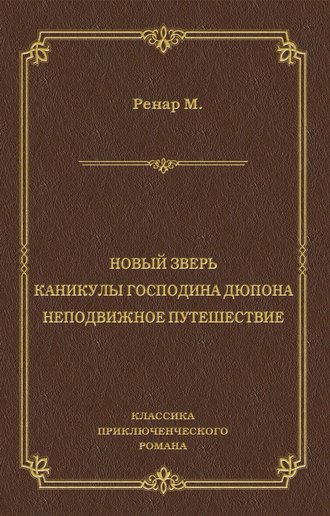
Полная версия
Новый зверь. Каникулы господина Дюпона. Неподвижное путешествие
У меня вырвался жест удивления, и Лерн догадался, в чем я его подозреваю.
– Нет, нет, нет! – воскликнул он. – Это дитя, мой друг, и ничего больше! Эта дружба мне очень дорога, и мне было бы очень больно ослабить ее чувством, которого я уже не могу внушить. Короче, Николай, – быстро и не без смущения проговорил он, – я требую от тебя обещания не ухаживать за моей протеже.
Я был очень обижен таким недостойным и неделикатным подозрением. Но подумал, что ревности без любви, как дыма без огня, не бывает…
– За кого вы меня принимаете, дядя? Уже достаточно того, что я ваш гость.
– Хорошо. Итак, я могу на тебя рассчитывать… Ты клянешься мне? Что касается ее, – продолжал он с хитрой улыбкой, – то в данный момент я спокоен. Она только что видела, как я обращаюсь с любовниками… И я бы тебе не советовал производить опыты в этом направлении…
Лерн поднялся и, положив руки в карманы, с трубкой в зубах насмешливо и испытующе посмотрел на меня.
Этот выдающийся ученый-физиолог вызывал во мне какую-то непреодолимую антипатию.
Мы прошли дальше в глубь парка.
– Между прочим, ты говоришь по-немецки? – спросил Лерн.
– Нет, дядя. Я знаю только французский и испанский языки.
– И даже английского не знаешь? Слабо, слабо для будущего коммерсанта! Немногому тебя научили!
(Дальше, дальше, дядюшка! Я уже начал широко раскрывать глаза, которые вы велели мне держать закрытыми, и я уже заметил, сколько фальши во всех ваших изъявлениях.)
Мы шли вдоль скалистой стены к выходу из парка. Из чащи выступили два боковых флигеля замка.
Мне показалось странным поведение голубя. Птица описывала в воздухе круги, все ускоряя биение своих крыльев, все суживая кольца, и вдруг стремительно упала.
– Посмотри на эти розовые кусты. Совершенно дикие. Лишившись ухода, они снова сделались, чем были раньше: дикие, желтые…
– Посмотрите на голубя! Как странно! – заметил я.
– Нет, погляди на эти цветы, – настаивал Лерн.
– Как будто его подстрелили… На охоте так бывает. Он забирается все выше, выше, выше и наконец умирает на самой высшей точке.
– Смотри себе под ноги, споткнешься! Смотри же, говорят тебе! Надо быть осторожным.
Это поспешное, ворчливое и угрожающее предостережение было совершенно не к месту.
Но птица, достигнув высшей точки спирали, вдруг упала, кувыркаясь в воздухе и несколько раз перевернувшись. Она ударилась недалеко от нас о скалу и скатилась в чащу…
Почему так забеспокоился профессор? И почему так ускорил шаги? Пока я задавал себе эти вопросы, трубка выпала у него изо рта. Я поспешно поднял ее и у меня вырвался крик изумления: он с каким-то безумием начисто откусил мундштук под аккомпанемент какого-то немецкого слова, без сомнения, проклятия…
Навстречу нам неслась толстая женщина с развевающимся синим передником.
Видно было, что такое физическое упражнение было для нее фактом совершенно исключительным и необычным. Ее страшно качало, и она поддерживала и прижимала к себе, ладонями и руками, две дорогие ей непослушные огромные массы. Увидев нас, она остановилась, но это было трудно, и она поддалась еще немного вперед. Потом она, видно, захотела отступить назад и все-таки продолжала идти вперед, сохраняя на лице выражение кающейся грешницы или провинившейся школьницы. Она предчувствовала свою судьбу.
Лерн накинулся на нее.
– Барбара, что вы делаете? Вы забыли, что ли!.. Я вам строго-настрого запретил даже нос высовывать дальше луга. Я вас прогоню ко всем чертям! Но раньше вы мне за это заплатите! Вы знаете меня!
Толстая женщина страшно струсила. Она захотела прикинуться кроткой и, сложив рот, как будто собиралась снести яйцо, начала оправдываться: она заметила из кухни, как упал голубь, и подумала, что это будет прекрасное добавочное блюдо к столу, который так однообразен…
– Да и притом, – глупо добавила она, – я не думала, что вы в саду. Мне казалось, что вы в лаб…
Грубая пощечина оборвала ее речь на первом слоге слова «лабиринт», как я решил.
– Дядя! – вскричал я с укором.
– А теперь убирайся вон… немедленно! Поняла?
Перепуганная женщина не плакала. Она только сдержанно всхлипывала и побелела как смерть. Только на одной щеке зарделись следы костлявой профессорской руки.
– Возьми в сарае багаж этого господина и отнеси его в Львиную комнату.
(Она находилась в первом этаже западного флигеля.)
– Дядя, почему вы меня не помещаете в моей прежней комнате?
– В какой это?
– В какой? Да в той… нижней, желтой, на восточной стороне. Вы ведь знаете!..
– Нет, она мне самому нужна, – отрезал он. – Марш, Барбара!
Кухарка бежала что было мочи, прижимая к передней части своей особы руки, между тем как бока, предоставленные всем превратностям судьбы, свободно качались по сторонам.
С правой стороны – пруд. Мы молчаливо обогнули его сонную поверхность.
С каждым шагом меня охватывало все большее удивление. И все-таки я старался казаться не слишком изумленным.
Вдруг я увидел строение, сложенное из серого камня и прислоненное к скалистой стене. Это было новое и довольно обширное помещение, разделенное двором на две части. Высокая стена и мгновенно закрывшиеся ворота не позволили мне заглянуть внутрь, но оттуда послышалось птичье клохтанье. Собака почуяла нас и залаяла.
Я рискнул спросить:
– Вы позволите мне посмотреть эту ферму?
Лерн пожал плечами:
– Возможно, возможно.
Потом он крикнул в сторону дома:
– Вильгельм! Вильгельм!
Немец, с лицом похожим на солнечные часы, открыл круглое оконце в воротах, и профессор обратился к нему на его родном языке с речью, которая бросила беднягу в дрожь.
«Черт возьми! – сказал я себе. – Так это мы тебе и твоей небрежности обязаны тем, что вне замка этой ночью случилось то, чего не должно было случиться, – ясно, ясно!»
После окончания экзекуции мы двинулись дальше вдоль луга. На нем паслись четыре коровы и один черный бык. Почему-то это стадо нам устроило проводы. Мой свирепый родственник вдруг повеселел.
– Николай! Познакомься! Вот Юпитер. Вот белая Европа. Рыжая По и блондинка Атор. А вот Пасифая в пятнистом облачении. Не то чернила с молоком, не то уголь с мелом, как тебе угодно, друг мой.
Это обращение к мифологии заставило меня улыбнуться. Мне нужно было подбодриться. Это была прямо физическая необходимость. Притом я почувствовал такой голод, что самым теперь интересным для меня вопросом было насыщение. Меня привлекал один только замок, как бы говоря: «Да, там ты сможешь поесть!» И мне нисколько не хотелось задерживаться ради осмотра находящейся рядом оранжереи.
А это было досадно. К бывшей оранжерее приделали две пристройки: к первоначальному круглому зданию прибавились по бокам две пузатые баржи. Закрытые ставни делали и это строение вполне соответствующим общей обстановке. Дворец и садоводство вместе. Тут, так сказать, открывался великолепный вид на самые неожиданные вещи.
Оранжерея так разукрашена! Я был бы гораздо менее поражен, если бы в каком-нибудь монастыре открыл любовный напиток!
При жизни моей тети Львиная комната всегда предназначалась для гостей. В ней были тогда – и теперь еще – три окна с глубокими нишами. Одно окно, обращенное к оранжерее, выходило на балкон. Из другого виден был парк; сейчас передо мной пастбище, дальше пруд, а между ними нечто вроде дачной беседки, которая в детстве изображала в моей фантазии сторукого великана Бриарея. Из третьего, бокового окна виден восточный флигель замка с закрытым окном моей прежней комнаты и в перспективе весь фасад замка.
Я здесь, как в гостинице. Никаких воспоминаний. Обои испещрены пятнами сырости, в одном углу они даже совсем оборвались. На сохранившихся местах множество красных львов с шарами в лапах. Тот же рисунок на портьерах, занавесях, на кровати. Кроме того, две гравюры: «Воспитание Ахилла» и «Похищение Деяниры». Но от сырости лица и фигуры этих персонажей покрылись веснушками, а спина кентавра Хирона сделалась похожа на гнилое яблоко. Зато здесь были красивые нормандские часы с фигурами. Все это было старомодно и красиво.
Я окатил себя холодной водой и с наслаждением облачился в свежее белье. Барбара без стука вошла в комнату, неся тарелку бульона; не ответив ни звуком на высказанное мною ей соболезнование по поводу ее воспаленной щеки, она, как гигантская сильфида, отступила и с трудом пролезла обратно в дверь.
В гостиной – ни живой души. Вот маленькое, черное, бархатное кресло с двумя желтыми кистями и провалившимся сиденьем. Неужели я вижу тебя снова? На нем витает тень моей тети-рассказчицы. А скромная тень милой мамы разве не покоится локтями своими на твоих ручках?
Все на своем месте. Начиная с белых обоев с гирляндами цветов до желтых ламбрекенов с висячими кистями – все чудесно сохранилось со времен прежнего владельца замка. На софах, всевозможных стульях, креслах, шезлонгах и других предметах для сидения лежали горы подушек.
Со стен улыбалась мне вся моя угасшая родня: предки, рисованные пастелью, деды в миниатюрах, дагеротип моего отца еще учеником и на убранном вазами, бантами и кистями камине несколько фотографий перед зеркалом. Одна большая группа возбудила во мне особое внимание. Я взял карточку в руки, чтобы рассмотреть ближе. Это был снимок дяди, окруженного пятью мужчинами и с большим сенбернаром, лежащим у его ног. Снято в Фонвале. В качестве заднего плана – стена замка, а в качестве статиста – розовой куст в кадке. Любительский снимок без подписи.
Лицо Лерна светится добротой, силой, умом; это именно тот большой ученый, которого я надеялся здесь найти. Из пяти мужчин трое мне знакомы – это немцы, остальных я никогда не встречал.
В это время дверь так внезапно открылась, что я не успел поставить фотографии на место. Лерн вошел, пропустив вперед себя молодую женщину.
– Мой племянник Николай Вермон, мадемуазель Эмма Бурдише.
Как видно, мадемуазель Эмма выслушала только что одну из тех нотаций, которыми Лерн так охотно наделял своих домочадцев. Ее растерянный вид подтверждал мою догадку. Она даже не в силах была мне любезно улыбнуться, а только бегло и неловко кивнула головой.
Я отвесил ей глубокий поклон и не смел поднять глаз из страха, что дядя прочтет что-нибудь в моей душе.
Моя душа! Если под этим словом понимают только сумму всех тех свойств, из которых вытекает, что человек единственное высокоорганизованное животное, то я не должен соваться здесь со своей душой. Да, так будет лучше…
О, я хорошо знаю: пусть всякая, даже самая чистая любовь по существу не что иное, как животное влечение полов, все же уважение и дружба глубоко облагораживают человека.
Ах! Моя страсть к Эмме все время оставалась в зачаточном состоянии. Если бы Фрагонар захотел изобразить нашу первую встречу и нашу любовь во вкусе восемнадцатого столетия, я посоветовал бы ему сначала набросать маленького Эроса на высоких козлиных ногах, Купидона без улыбки и без крыльев с деревянными окровавленными стрелами, и все это, без колебаний, назвать Паном. Это и есть мировая любовь, плодоносное сладострастие, чувственный повелитель жизни.
Существует ли различная степень женственности? Если да, то я никогда еще не видел женщины, которая была бы в более полной мере женщиной, чем Эмма. Я не в состоянии описать ее объективно. Я не освободился еще от ее очарования. Красива она была? Без всякого сомнения. Соблазнительна? Еще более, чем по первому от нее впечатлению.
Я припоминаю ее огненные волосы какого-то тусклого бронзового цвета, может быть, искусно и искусственно выкрашенные. И весь ее телесный образ возбуждает во мне страстное желание. Это то именно до высшей степени совершенства расцветшее и округленное, исполненное соблазнительных очертаний существо, которое мудрая и озабоченная отбором природа заставляет назло всем плоскогрудым женщинам звенеть и петь в сердце мужчины…
Никакие одежды моей Эммы не в силах были скрыть эту сверкающую округленность, лежавшую в основе всего ее образа; наоборот, они еще удваивали привлекательность каждого изгиба, полуоткрывая скрытые чудеса.
Но лучше всего было в этом достойном поклонения создании…
Кровь дико застучала у меня в висках, и меня охватила безумная ревность. Только в одном случае я отказался бы от этой женщины, только в том случае, если она никогда в жизни ни на кого не поднимет даже глаз. И если раньше Лерн показался мне неприятным, теперь он был мне мерзок. С этой минуты я решил: я останусь здесь во что бы то ни стало!
Надо было что-нибудь сказать. Нападение было внезапное и стремительное. Чтобы не выдать того, что зародилось в глубине моей души, я, отчаянно запинаясь, произнес:
– Я, дядя, рассматривал эту фотографию…
– Ага! Это я и мои сотрудники: Вильгельм, Карл, Иоганн. А это вот мистер Мак-Белл, мой ученик. Он очень хорошо вышел… Не правда ли, Эмма?
Он держал снимок прямо перед ее носом так, что ей могло показаться, что гладко выбритый на американский манер, невысокого роста молодой человек повалился на сенбернара…
– Франтоватый и остроумный малый, не правда ли? – насмехался профессор. – Шотландец по происхождению.
Эмма не выдала себя. Отчетливо и медленно она сказала:
– Его Нелли проделывала замечательные штуки…
– А Мак-Белл? – пустил шпильку дядя. – Он разве не делал сам замечательных штук?
Подбородок девушки вздрогнул, как от надвигающихся слез, и она прошептала:
– Несчастный Мак-Белл!
– Да, – обратился ко мне Лерн, заметив мое удивленное лицо, – господин Донифан Мак-Белл принужден был вследствие некоторых печальных обстоятельств покинуть замок… Я хотел бы, чтобы судьба избавила тебя, Николай, от подобных неприятностей.
– А другой? – спросил я, чтобы переменить разговор. – Вот этот господин с усами и темными бакенбардами?
– Этот тоже уехал.
– Это доктор Клоц, – сказала Эмма, несколько оправившись, – Отто Клоц, и он…
Глаза Лерна сделались прямо страшными и заставили девушку мгновенно онеметь. Не могу сказать, какого рода кару обещал этот взор, но нечто вроде судороги пробежало по телу бедной молодой женщины.
В это время половина пышного тела Барбары просунулась в дверь, и она заявила, что все готово.
Она накрыла в столовой три прибора. Немцы, значит, остались в пристройке.
Завтрак прошел очень тоскливо. Мадемуазель Бурдише не решалась проронить ни одного слова, ничего не ела, и я ничего больше о ней не узнал.
Впрочем, мне страшно хотелось спать. После десерта я попросил разрешения удалиться, чтобы лечь спать, и попросил не будить меня до утра.
Вернувшись в мою комнату, я сейчас же стал раздеваться. Я был совершенно разбит этой бешеной ездой, всей этой ночью и таким странным утром. Слишком много загадок за один раз. Я был точно в тумане. Какие-то странные сфинксы с неразгаданным выражением на лицах обступили меня.
Мои подтяжки ни за что не хотели отстегнуться…
По двору шел Лерн со своими тремя сотрудниками, направляясь к серому зданию.
Они, должно быть, будут там работать, сказал я себе… Никто обо мне не думает; они не успели еще принять никаких мер предосторожности; дядя уверен, что я сплю… Теперь или никогда!.. Что раньше? Эмма? Или тайна?.. Гм, девушка сегодня очень расстроена… Что касается тайны…
Я надел пиджак и машинально передвигался от окна к окну.
Там против балкона… эта оранжерея с загадочными пристройками. Заколоченная, запретная, заманчивая…
Я украдкой вышел на двор и неслышными шагами направился к оранжерее.
Глава III
Оранжерея
Я на дворе, без всякого прикрытия, и мне кажется, что меня подстерегают со всех сторон. Я бросаюсь в кусты, окружающие оранжерею. Затем сквозь чащу колючих и вьющихся растений пробираюсь вперед. При этом приходится принимать тысячу предосторожностей, чтобы не зацепиться платьем за шипы и не порвать его, иначе это может завтра броситься в глаза.
Наконец я у входа в оранжерею. Я счел благоразумным сначала хорошенько осмотреться, не выходя из прикрывавшего меня кустарника.
Больше всего меня удивило то, что снаружи постройка содержалась в образцовом порядке. Все ставни были заботливо исправлены и спущены, и сквозь их щели блестели на солнце оконные стекла.
Я прислушался. Ни из замка, ни из серого здания не доносилось ни звука. И в оранжерее тоже глубокая тишина. На всем невероятный, гнетущий, полуденный зной…
Я отыскал в ставне отверстие и заглянул через стекло, но ничего не увидел. Окно изнутри было замазано чем-то белым. Я все больше убеждался в том, что Лерн, очевидно, отнял у этого здания его первоначальное назначение и в настоящее время в его стенах вряд ли занимается садоводством.
Мне пришла в голову счастливая догадка, что здесь, при этой температуре, выводятся культуры микробов.
Я обошел кругом весь стеклянный павильон. Везде непроницаемый белый слой на стеклах. Отдушины, против всякого ожидания, очень высоко. В боковых пристройках дверей не было. Сзади сюда проникнуть тоже было невозможно.
Обойдя кругом, я снова очутился против моего балкона и замка, но здесь негде было спрятаться, и, следовательно, это положение было очень опасно. Побежденный усталостью, я уже хотел отказаться от борьбы, вернуться в свою комнату и оставить непроницаемый питомник микробов в покое, не нанеся ему основательного визита, как вдруг последний взгляд, брошенный на оранжерею, открыл мне ее тайну.
Дверь была захлопнута, но только захлопнута, а не дожата до конца; язык замка торчал в воздухе и выдавал безумца, вообразившего, что он повернул ключ два раза в замке… Ах, Вильгельм, ты неоценимо рассеян!
При самом входе в теплицу мои бактериологические гипотезы сразу разрушились. Туча цветочных ароматов охватила меня – теплое, влажное облако, пропитанное никотином. До крайности удивленный, я остановился на пороге. Никакая царская оранжерея не произвела бы на меня такого впечатления. Роскошь бросилась мне в глаза, ослепляла и ошеломляла меня.
Целая скала певуче-яркой зелени…
Листья, как клавиши… многокрасочные тона цветов и плодов… Это был храм, в котором гаммы цветов складывались в мощный и красочный гимн.
Но вскоре глаз привык к этой ослепительной роскоши и мое удивление несколько ослабело. Этот зимний сад мог так пленить только в первую минуту. В действительности в расположении растений не чувствовалось никакой гармонии. Все было расставлено как по команде, в дисциплинарном порядке, без изящества, без вкуса… Все было распределено по категориям, горшки стояли по-военному, рядами, и на каждом красовался ярлык с надписью строго ботанического свойства. Это заставляло задуматься. Да и как, впрочем, мог я допустить, что Лерн в настоящее время будет заниматься садоводством только как любитель!
Я окинул оранжерею восхищенным взглядом; я смотрел на эти чудеса флоры, но ни одно название не было мне знакомо – я крайне невежествен в этой области. Я продолжал машинально читать ярлыки, и вдруг все это изобилие, которое мне казалось таким невиданным и даже экзотическим, превратилось в то, чем было в действительности…
Не веря своим глазам и в то же время охваченный жгучим любопытством, я прирос глазами к кактусу…
Я очень устал, правда, но это не могло быть ошибкой, иллюзией…
Его красный цветок сводил меня с ума… Я не отрывал от него глаз, и мое изумление росло…
Несомненно! Этот одержимый нечистой силой цветок, эта волшебная ракета, взорвавшаяся красной звездой из зеленого стебля, – это был цветок герани.
Ближайшие три бамбуковых ствола вдоль всех своих сочленений поросли георгинами!..
Испуганно вдыхая все эти сверхъестественные запахи, я оглядывался вокруг и во всем и везде находил то же поразительное несоответствие.
Весна, лето и осень господствовали здесь в тесном содружестве. Все здесь цвело и наливалось. Но ни один цветок, ни один плод не сидел на естественном своем стебле или ветке… На кусте махровой розы голубым тирсом качался целый рой васильков. На концах иглистых веток араукарии цвели голубые колокольчики. И, вытянувшись шпалерой, братски обнимались, перепутав свои стебли, настурции с камелиями и разноцветными тюльпанами.
Против входной двери и вдоль стеклянной стены тянулся буйный кустарник. Один куст выделялся из своего ряда и бросился мне в глаза. Это было померанцевое деревцо, но на нем росли… груши!
Позади него, как в благословенной земле Ханаанской, дико переплетались виноградные лозы, обремененные гигантскими ягодами, то желтыми, то красными, как вино: это были сливы.
В ветвях карликового дуба рядом с желудями красовались грецкие орехи и вишни. Один из плодов не созрел и представлял собой какое-то странное сочетание зеленой шелухи ореха с красной вишневой мякотью. Это был серо-зеленый с красными крапинками безобразный нарост.
На ели вместо смолистых шишек росли каштаны и золотые апельсины, обливая ее сиянием многочисленных, солнц.
Немного далее я нашел еще более поразительное чудо. Здесь обнимались Флора с Помоной, как сказал бы добрый Демустье. Большая часть растений была мне незнакома; я запомнил и описываю только самые известные… Помню еще одну удивительную вербу, усыпанную гортензиями и пионами, ужившимися на одном стебле с персиками и земляникой.
Но самым прелестным из всех этих беззаконно скрещенных растений был розовый куст, отягощенный хризантемами и борсдорфскими яблоками.
Посредине круглого здания стоял куст с необыкновенно странной листвой, сочетанием липы, тополя и хвои. Я раздвинул ветви и увидел, что все они берут начало у одного и того же ствола.
Это было торжество искусства, которому Лерн посвятил пятнадцать лет своей жизни и которое он довел до степени чуда. Но в этих чудесах было нечто внушающее какое-то беспокойство – человек, отклоняющий жизнь от ее естественного пути, создает чудовища. Мне было не по себе.
«Откуда он взял это право нарушать и запутывать жизнь всех этих творений? – думал я про себя. – Кто позволил ему до такой степени извращать жизненные законы? Разве это не кощунственная игра и не страшное преступление против божественных устоев природы?.. Если бы еще во всех этих фокусах был заметен вкус…»
Это даже не ведет ни к какой новой истине, это только сумбурные пестрые браки, ботаническая фата-моргана, цветы-фавны, цветы-гермафродиты… Кроются ли за всем этим какие-нибудь эстетические цели, или нет – все равно это безбожно и кощунственно! Вот и все!
Профессор был охвачен каким-то кровожадным рвением. Все выставленные здесь чудовища подтверждали это так же, как находившиеся на столе бесчисленные склянки, ножи для прививок и садовые орудия, блестевшие, как хирургические инструменты. Со стола я снова перевел глаза на растения и теперь только разглядел, как они изувечены и какие терпят мучения…
Одни были замазаны клеем, другие перевязаны и походили на раненых или перенесших тяжелую операцию; их глубокие порезы сочились какими-то подозрительными соками.
В стволе куста померанцевого дерева, вырастившего груши, было глубокое, как глаз, отверстие, и этот глаз слезился.
Я почувствовал какую-то странную слабость… Детский страх обуял меня, когда я увидел дуб… на котором вишни рдели, точно капли крови, – результаты операции… Кап-кап… две спелые ягоды упали к моим ногам неожиданно, как первые капли дождя.
У меня не хватало духа, чтобы внимательно читать этикетки. Везде на них отмечено было число и несколько неразборчивых немецко-французских знаков, сделанных рукой Лерна, иногда несколько раз перечеркнутых.
Все еще напрягая слух, я, однако, принужден был закрыть глаза руками, чтобы дать себе минутку отдыха и восстановить свое хладнокровие…
Затем я открыл дверь в правый флигель.
Комната имела вид барки. Ее стеклянный свод пропускал дневной свет и ослаблял его, превращая его в голубоватые, прохладные полутени. Под ногами заскрипел гравий. В этом помещении находились аквариумы, три хрустальных сосуда, из которых два боковых содержали морские водоросли, по виду будто однородные. Но среднее здание уже познакомило меня с методом доктора Лерна, и я не мог допустить, чтобы в обоих бассейнах были абсолютно одинаковые растения. Я присмотрелся ближе. Грунт и подводный ландшафт в обоих был один и тот же. Ветвистые, древовидные формации всевозможных цветов заполняли и левый и правый аквариумы. Песок был усыпан звездочками точно эдельвейсами; здесь и там высовывались ветки, на концах которых красовались мясистые златоцветы. Я не стану описывать остальные виды растений, цветочные кроны которых состояли из жирных восковых ладьеобразных чашечек с необыкновенной окраской и причудливыми контурами. Тысячи пузырьков зарождались во внутренних слоях и, покружившись возле растения стремительными жемчужинами, взлетали на поверхность и лопались. Как будто несли полный радости и жизни поцелуй всем этим тонущим под водой растениям.
Порывшись в своих вынесенных из школы знаниях, я понял, что это те загадочные организмы, полипы, кораллы и губки, которые наука отводит в разряд полурастений-полуживотных. Их двойное бытие не перестает возбуждать интерес ученых.