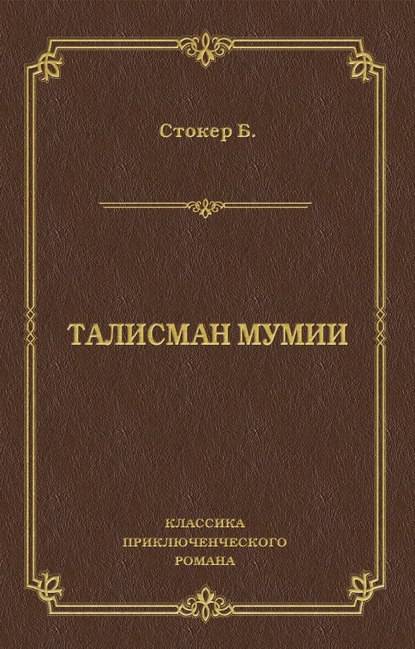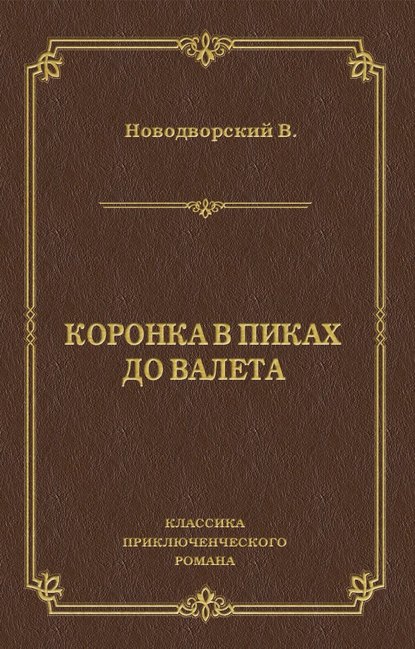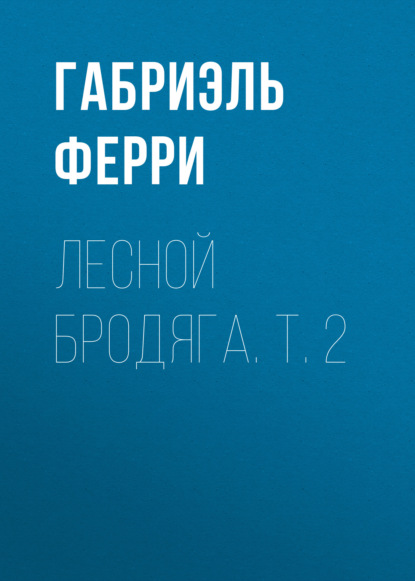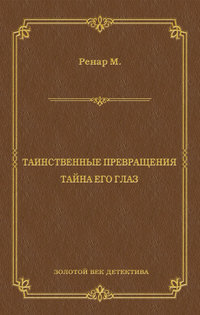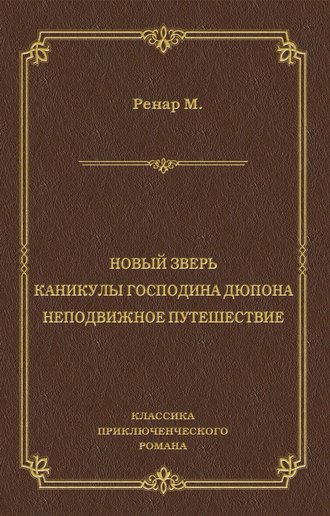
Полная версия
Новый зверь. Каникулы господина Дюпона. Неподвижное путешествие
Постепенно я научился видеть. Взошел лунный серп и окутал ночь белоснежным сиянием. Лес оцепенел в ледяном молчании. Меня знобило. Слушая рассказы моей тети, я, бывало, так дрожал от страха. В ту пору я населил бы эту тьму драконами и змеями. Пролетела сова. Она показалась бы мне в ту пору пернатым шлемом волшебного паладина. Справа береза блестела точно рыцарский панцирь. Что это там за дерево? Не сын ли это зачарованного дерева, супруга принцессы Леелины? Таинственно и величественно прошумел дуб. И над всем этим скользящий священный полумесяц…
Этот ночной ландшафт соткан из грез и страха. Я всегда отдавался влиянию этого пейзажа и с наступлением вечера редко осмеливался выходить. Фонваль, если не считать его цветников и великолепной сети аллей, казался мне отвратительным местом.
Бывшее аббатство, превратившееся в замок. Стрельчатые окна, столетний, разукрашенный статуями парк, мертвая вода пруда, крутые, грозные скалы кругом, эти адские ворота. Все это создавало какое-то враждебное окружение и при дневном свете. Неудивительно поэтому, что воображение населяло это место созданиями из мира сказок и мифологии.
По крайней мере я во время каникул жил исключительно этой воображаемой жизнью, говорил на языке сказки и совершал сказочные подвиги. Все здесь шло мне навстречу и казалось бесконечной феерией, в которой я играл с воображаемыми статистами, жившими в воде, на деревьях и под землей – чаще под ней, чем на ней. Когда я гарцевал с голыми икрами по лугу, за мной следовала огромная и блестящая рыцарская свита. А старый челнок, оснащенный тремя мачтами, сделанными из ручки старой метлы, и тремя тряпочками, изображавшими паруса! Разве он не был кораблем, уносившим крестоносцев в средиземный океан? Ого, как он качался на гребнях, покрытых пеною волн! Задумчиво и глубокомысленно глядя на острова из роз и полуострова из дерна, я провозглашал: «Вот Корсика и Сардиния!», «Италия в виду!», «Мы объезжаем Мальту!» И минуту спустя я уже кричал: «Земля!» Вот мы высадились в Палестине. В ушах раздается средневековый боевой клич: «Монжуа и Сен-Дени! Монжуа и Сен-Дени!..» У меня начиналась морская болезнь и тоска по родине, но священная война вдохновляла меня вновь – так я одновременно развивал свое воображение и упражнялся в географии.
Остальные действующие лица были большей частью вымышленные. Дитя подобно Дон Кихоту: заброшенная беседка превращается у него в сторукого великана Бриарея, а бочка заменяет дракона Андромеды. Голову к этой бочке я приделал из тыквы, а крылья – из двух зонтов. Это чудовище было помещено на повороте аллеи и повергало в ужас своим грозным видом. Казалось, оно вот-вот накинется в ярости на терракотовую нимфу. И вот я, как мужественный Персей, отправлялся за ним в погоню верхом на невидимом крылатом коне и вооруженный с головы до ног стрелами… Но когда я нацеливался в чудовище, косоглазая тыква бросала на меня молниеносный взгляд, способный обратить в бегство даже Персея.
Создания моего воображения сводили меня с ума благодаря ролям, которыми я их наделял. Но так как я всегда играл роль героя и победителя, я легко подавлял свой страх – при свете дня, конечно. По ночам, когда путешественник и рыцарь снова превращался в мальчугана-карапуза Николая Вермона, бочка все еще оставалась чудовищем. И глубоко уткнувшись в подушки, весь охваченный настроением последней тетиной сказки, я видел сад, населенный моими фантастическими чудовищами, видел, как Бриарей стоит на часах, как восставшая от смерти бочка таращит свои зонтичные когти и подстерегает меня за окном.
В детстве я почти потерял надежду, что я буду когда-нибудь, как все, и перестану бояться теней. И все же тысячеликая смерть, грозившая мне ежеминутно, потеряла всякую власть надо мной. Я готов был встретить ее взволнованный, но не трусливый. И теперь этот дикий лес без чародеев и фей казался мне слишком пустынным.
Когда я дошел до этого пункта в своих грезах, со стороны Фонваля раздался неопределенный гул. Мычал бык. И как будто завыли в отдалении собаки… Потом все умолкло снова.
Через несколько мгновений где-то между мною и замком заплакала сова. Вот одна вылетела из гнезда, за ней другие. Как будто их напугало какое-то приближающееся к нам существо.
И действительно, я услышал топот четвероногого животного. Оно двигалось по извилистым дорожкам, точно запутавшись в них, и наконец предстало передо мной.
Большие ветвистые рога. Гордая шея. Тонкие уши. Нет никакого сомнения – это олень. Но как только я это подумал, он почуял меня, отступил немного и бросился назад…
Тело его было странно легким и тощим, а шкура, может быть из-за освещения, казалась совершенно белой. В следующий миг олень исчез. Вот его галоп послышался уже далеко, и все снова затихло.
Что это? Принял ли я козла за оленя или, наоборот, оленя за козла? Надо сознаться, я был весь охвачен любопытством. И задавал себе вопрос: не обрету ли я снова в Фонвале свою детскую веру, которую когда-то там похоронил? После некоторого рассуждения я пришел, однако, к тому выводу, что голод, усталость и дремота легко могут в сообществе с лунным светом навеять недобрый обман, и существо, представившееся мне в этом освещении, не есть еще феномен.
А жалко! Я давно уже перестал испытывать страх перед чудесами, но любовь к ним я еще сохранил.
Чудесное все еще пленяет меня. Ребенком я замечал его повсюду. Юношей я истолковывал как чудо все новое, все необъяснимое. И в мысли философа: «Если вода придает палке излом, мой рассудок ее снова выпрямляет», – вторая часть мне до сих пор неприятна. Сколько бы я дал за то, чтобы не знать, что без преломления лучей божественный стрелок Феб не натянул бы своей прекрасной и грозной тетивы – радуги!
Но даже когда стараешься рассеять иллюзию чудесного, ты продолжаешь чувствовать волшебное очарование. Ты говоришь себе: «Может быть, это чудо. Но это только предположение. Надо лучше разглядеть, чтобы лучше воспринять его…» И ты приближаешься… истина выступает ярче, и чудо гаснет. Меня и таких, как я, тайна чарует уже самым своим покровом, и я не желаю ничего большего – даже при риске быть грубо обманутым, – как только осветить этот покров…
Короче, животное было действительно редкостное.
И я витал в области непостижимого, находя все это страшно загадочным; мое любопытство росло.
Я устал до смерти и заснул. Но мой мозг работал; все время во сне я исполнял головоломную работу хитроумнейшего сыщика.
Я проснулся на рассвете и сейчас же почувствовал свое освобождение.
Сквозь чащу по направлению ко мне шли люди. Говорили друг с другом. Шли по перепутанным, сбивчивым дорожкам. Они приближались, невидимые мне, к автомобилю и были уже в нескольких метрах от меня. Но из их разговора я ничего не мог понять. Мне казалось, что они говорят по-немецки.
Наконец они появились на том самом месте, где раньше показалось животное. Их было трое. Все они упорно вглядывались в дорожку, точно искали на ней чей-то след.
На том месте, где исчезло животное, один из них что-то закричал; из жестов его можно было понять, что они, по его мнению, пошли по неверному пути. Вдруг они заметили меня, и я подошел к ним.
– Господа, – сказал я с самой любезной улыбкой, – не будете ли вы так добры и не покажете ли мне дорогу в Фонваль. Я заблудился…
Все трое молча злобно смотрели на меня с инквизиторским видом.
Жутко комическое трио!
У первого на плотном, коренастом туловище сидела такая круглая и плоская физиономия с воткнутым в нее тонким и острым носом, что можно было принять его за солнечные часы.
Второй держался навытяжку, по-военному. Борода его могла служить рекламой парикмахеру. Его острый подбородок загибался кверху, как носок башмака.
Третьим был высокий старик, в золотых очках с седыми курчавыми волосами и совершенно спутанной бородой. Он пожирал вишни с таким чмоканьем, с каким крестьянский парень уписывает клецки. Это, конечно, немцы. Наверно, это те три препаратора из бывшего анатомического института.
Прежде всего огромный старик выстрелил мне в лицо градом косточек, а в своих друзей каким-то исконно немецким предложением, заряженным словесной картечью и целой грудой нечленораздельных звуков. Все трое обменялись такими же фразами наподобие громовых раскатов, не обращая на меня никакого внимания. Досыта наговорившись – они называли это «держать совет», – они повернулись ко мне спиной, не дав мне даже времени оправиться от оцепенения, вызванного их грубостью…
Что это? Эта экспедиция с каждой минутой делается смешнее! Что все это значит? Что за комедия! В конце концов, здесь надо мной потешаются! Я рассвирепел. Эти прелести детства, которые мне хотелось восстановить, – глупейшее ребячество, вызванное усталостью и темнотой. Прочь! И кончено! Прочь отсюда!
Я завел и пустил в ход машину так, что все ее 80 лошадиных сил, как рой в улье, зашумели под чехлом. Ну же, рычаг! Вдруг позади меня раздался раскатистый смех.
С фуражкой на боку, в синей блузе, опоясанный сумкой, бодрый и торжествующий, появился передо мной почтальон.
– Ха-ха! Разве я вам сразу не сказал… вчера вечером… что вы застрянете, – проговорил он сквозь смех.
Я узнал в нем крестьянина из Грей л’Аббе, но со злости не хотел отвечать ему.
– Вы хотите проехать в Фонваль? – спросил он.
Я пожелал ему вместе с Фонвалем провалиться к дьяволу.
– Если хотите туда, я вам охотно покажу дорогу. Мне все равно надо отнести письма. Но поторопитесь. У меня сегодня вдвое больше корреспонденции – сегодня понедельник. А по праздникам я не разношу.
Он вытащил из сумки письма и повертел их в руке.
– Покажите-ка! – вскричал я. – Ну конечно! Мое письмо, вот в этом самом желтом конверте…
Он посмотрел на меня недоверчиво снизу вверх и только издали показал мне письмо.
Это было извещение о моем приезде. Но, вместо того чтобы прийти на день раньше, оно достигло места назначения на одну ночь позднее меня.
Эта неудача оправдывала дядю, и моя ярость утихла.
– Садитесь, – сказал я. – Вы мне покажете дорогу, и… мы немного поболтаем…
Мы двинулись навстречу утру. Густой туман начал рассеиваться. И наконец последний остаток ночи исчез бесследно, как ненужное больше облачение рассеявшихся призраков.
Глава II
Среди сфинксов
Автомобиль медленно продвигался по извилистым дорогам. В некоторых местах, где кривая дороги сама себя пересекала, колебался даже почтальон.
– С каких это пор прямая как стрела аллея уступила место этим зигзагам? – спросил я.
– Уже четыре года, сударь. Приблизительно год назад господин доктор закончил все это устройство.
– Не знаете ли вы, зачем это?.. Вы можете говорить спокойно. Я племянник профессора.
– Ах вот как! Оттого… оттого что… он такой необыкновенный.
– Что же в нем особенного?
– Боже мой, да ничего! Его почти никогда не видно. Но это только теперь, а раньше, прежде чем он устроил эти… пьяные дороги, его можно было встретить часто, он ходил гулять в поле… Но с тех пор… он только раз в месяц выезжает в Грей.
Да, это было очевидно. Все его странности стали проявляться в одно время. Этот сад-лабиринт и странный стиль его писем совпадали во времени. Что могло так тяжело повлиять на его душу?..
– А его товарищи по работе, эти немцы… здесь?
– Да, но их совсем не видно! Впрочем… я почти шесть раз в неделю прихожу в Фонваль и не припомню, чтобы я когда-нибудь заглянул в сад. Господин Лерн сам подходит к калитке и принимает у меня письма. Ах, какая перемена! Вы знали старого Жана? Его прогнали. И его жену тоже. Вы не поверите, сударь: без кучера, без экономки, без лошади!
– Все четыре года, да?
– Да, сударь.
– Скажите, почтальон, здесь много дичи?
– Нет, не знаю. Пара кроликов. Два или три зайца… Лисицы… да, лисиц слишком даже много.
– Как? Ни козлов, ни оленей?
– Нет!
Какая-то особенная радость охватила меня.
– Мы приехали, сударь…
И действительно, мы выбрались из последнего завитка дороги и выехали на остаток некогда прямой аллеи, по обе стороны которой стояли стеной старые липы. Казалось, замыкающие ее ворота бежали нам навстречу. Перед воротами аллея расширялась в виде полукруга, образуя широкую площадку. Позади виден был замок, возносивший свою зеленую крышу поверх зелени деревьев, обступивших его со всех сторон.
Ворота были в стене, которая тянулась от одной границы оврага до другой, поперек дороги. Как постарели эти ворота под своей черепичной крышей!.. Карниз облупился, дерево источено червями и местами съедено совсем… но звонок, звонок звучал по-прежнему.
Так радостно, далеко, так чисто прозвенел он, что я чуть не расплакался…
Прошло несколько мгновений.
Наконец загремели чьи-то деревянные башмаки.
– Это вы, Гильото? – спросил голос, с совершенно зарейнским акцентом.
– Да, месье Лерн.
Лерн! Я широко раскрытыми глазами смотрел на своего спутника! Как! Это голос моего дяди?..
– Вы сегодня рано, – прозвучал голос снова.
Прозвенели засовы. Через отверстие просунулась рука.
– Дайте сюда.
– Вот, месье Лерн. Но… здесь со мной… Приехали… – осторожно произнес почтальон.
– Кто? – послышалось изнутри, и тот, кто это прокричал, выглянул в щель калитки.
Да, это был мой дядя Лерн. Но как странно он изменился, как страшно постарел! Какой дикий, запущенный вид! Седые и слишком длинные волосы свисали мочалкой на его плечи и спину, покрытые какой-то ветошью.
Передо мной стоял слишком рано и тяжело состарившийся человек с враждебно обращенными ко мне злыми глазами и нахмуренным лбом.
– Что вам угодно? – сказал он, а произнес: «Што фам уготно?»
Я колебался одну секунду. Ни одной черточки в лице, напоминающей прежнюю милую старую даму, – нет, какая страшная рожа! Мне было не по себе; я узнавал его и все же он был неузнаваем.
– Дядя! Дядя! Дядя! – сказал я запинаясь. – Это я… я приехал к вам в гости… с вашего позволения… Я вам писал… только письмо… вот оно… Мы прибыли в одно время. Простите, что я так необдуманно…
– Ага! Хорошо! Приходится сказать «хорошо»… Но, дорогой мой племянник, я должен просить у вас прощенья…
Какая перемена! Лерн оправился, покраснел, подтянулся и почти стал тоньше. Такое смущение передо мной… мне было больно.
– Ха-ха! Вы с машиной! Гм!… Ее тоже надо сюда, не правда ли?
Он открыл ворота.
– Здесь часто бываешь сам себе слуга, – сказал он под скрип петель.
Дядя мой неуклюже взялся за дело. Но видно было, что ему неловко и неприятно и что мысли его далеко.
Почтальон ушел.
– Каретный сарай все еще там? – спросил я, указывая на кирпичное здание.
– Да-да… Я вас не узнал из-за бороды… Гм! Да, борода… Ведь ее раньше не было, хе-хе… Сколько вам теперь лет?
– Тридцать один, дядя.
Когда я взглянул на каретный сарай, у меня сжалось сердце. Стены его были покрыты плесенью и наполовину облупились; как здесь, так и в конюшне навален был всевозможный хлам. С крыши вместо прежних лепных украшений фестонами свисала паутина.
– Вам уже тридцать один, – повторил он машинально и, видимо, рассеянно.
– Но говорите мне ты, как прежде, дядя!
– Да, правда, дорогой… э… э… Николай, да.
Как я был смущен всем этим! Ясно, что мое присутствие было ему в тягость.
Но мне интересно было узнать, почему именно я являюсь нарушителем его покоя. Я взял свой чемодан.
Лерн заметил это и решительно, даже в тоне приказания сказал:
– Оставьте… э… оставь! Оставь, Николай! Я сейчас прикажу отнести твой багаж. Но поговорим сперва… Пройдемся немного.
Он взял меня под руку и повел по направлению к парку. Но он все еще о чем-то про себя думал.
Мы обогнули замок. Здесь и там спущенные жалюзи. Местами облупленная, местами совершенно обвалившаяся крыша. Из-под наружной штукатурки во многих местах виднелся голый камень. Так же как и прежде, здание окружали растения в кадках, но все эти померанцевые, гранатовые и лавровые деревья уже несколько лет подряд были предоставлены суровой зимней стуже. Они погибли в своих растрескавшихся и сгнивших кадках. А передняя площадка могла вполне сойти за задний двор – столько на ней росло всякого бурьяна и крапивы. Это был замок Спящей красавицы до появления юного принца.
Лерн молча шел рядом со мной.
Мы обошли печальное здание, и парк, вернее девственный лес, открылся моим взорам. Ни цветочных клумб, ни усыпанных мелким песком дорожек. Лужайка перед замком превращена была в пастбище и огорожена проволокой. По некоторым направлениям можно еще было проследить прежние аллеи, но они заросли густой чащей кустарника. Сад скорее походил на лес с просеками и зелеными тропинками.
Лерн очень озабоченно и даже как будто взволнованно набил трубку, зажег ее, и мы вступили в чащу.
Мне захотелось увидеть снова мои статуи. Я не верил своим глазам. Прежний расточительный владелец замка щедро разукрасил ими когда-то свой парк. Но что сталось с ними, товарищами моих фантастических игр? Они оказались жалкими рыночными произведениями какого-то фабриканта Второй империи, отлитыми из чугуна. Пеплумы из бетона выцвели в кринолины, а античные верхние одеяния казались какими-то турецкими шалями. Лесные и луговые боги, Эхо, Сиринкс и Аретуза, украсились шиньонами. Наши современные изображения идолов, эти отвратительные фабрикаты пошлых фантастов, обвивающих лесных богов виноградными листьями, все-таки лучше этих мещан в вакхических венках.
Мы шли молча несколько времени по парку. Вдруг дядя указал на покрытую мохом скамейку в тени разросшегося орешника. Только мы уселись, как в чаще над нами раздался легкий треск.
Лерн вскочил в ужасе и вытянул голову.
Это была белка, наблюдавшая нас сверху.
Но дядя смотрел на нее с яростью, пожирая ее глазами; а потом вдруг расхохотался в внезапном приливе добродушия.
– Ха-ха-ха! Это всего только маленькая… штука, – сказал он, не находя нужного слова.
«Как это верно, – подумал я про себя с грустью и волнением, – что старики становятся детьми. И конечно, в этом виноваты окружающие, у которых против воли перенимаешь произношение и поведение. А среда, в которой живет Лерн, прекрасно объясняет, почему дядя так нечистоплотен, почему он так бессвязно и с акцентом говорит, почему он курит такую вонючую трубку… Он уже больше не любит цветов, не ухаживает больше за ними. Он такой нервный и так расстроен душевно… Если вспомнить еще вчерашнюю ночь, дело принимает совсем дурной оборот…»
Все это время профессор взглядывал на меня украдкой острым и беспокойным взглядом и исследовал меня, как будто он видел меня в первый раз в жизни. Видно было, что он рассуждал на всякие лады, принимая и отбрасывая сотни решений и снова к ним возвращаясь. Каждое мгновение наши взгляды скрещивались и наконец остановились друг на друге. Дядя, который, очевидно, больше не в силах был сдерживаться, с решимостью обратился ко мне.
– Николай, – произнес он, ударив меня по плечу, – знаешь, ведь я разорен!
Я насквозь видел его намерение и возразил:
– Дядя, говорите прямо, вы хотите от меня избавиться?
– Я? Дитя, что за мысли!..
– Определенно. Я в этом совершенно убежден. Ваше приглашение было достаточно нерадушно, а ваш прием очень мало любезен. Но, дядя, у вас необыкновенно короткая память, если вы думаете, что я приехал сюда ради наследства. Я вижу: вы уже не тот дядя Лерн. Правда, я это давно уже понял по вашим письмам, но то, что вы остановились на таком неудачном предлоге, для того чтобы прогнать меня отсюда, меня очень, очень удивляет. Я за эти пятнадцать лет не изменился. Я не перестал уважать вас всей душой и заслужил большего, чем ваши ледяные письма и в заключение еще такое оскорбление.
– Ну-ну-ну! Ты все такой же недотрога! – сказал Лерн вспыльчиво.
– Нет! – продолжал я. – А если вы так хотите, чтобы я немедленно убрался отсюда, скажите мне это спокойно. Я жду! Но, дядя, вы ли это?
– Ты оскорбляешь меня, Николай!
Он произнес это с таким испугом, что я назло ему прибавил еще угрозу:
– Я еще о вас расскажу, господин профессор, о вас и ваших товарищах, о всех ваших колдовских затеях.
– Ты с ума сошел… совсем с ума сошел! Замолчишь ли ты? Вообразить нечто подобное! Дурак!
И Лерн расхохотался.
Но его глаза – не знаю почему – внушали мне страх, и я пожалел о том, что сорвалось у меня с языка.
– Николай, – сказал доктор. – Не воображай ничего такого. Ты славный мальчик. Дай мне руку. Ты найдешь во мне опять твоего прежнего любящего дядю. Слушай, это неправда, что я разорен, и мой наследник когда-нибудь кое-что получит… Если все будет по-моему. Но… мне все-таки кажется, что лучше тебе здесь не задерживаться… Здесь ничего нет такого, что могло бы доставить удовольствие такому молодому человеку, как ты, милый Николай. Я целый день занят…
Профессор мог говорить сколько ему было угодно. Каждое его слово звучало притворством, и он все больше казался мне Тартюфом, с которым излишни были всякие меры предосторожности и которого можно было провести как угодно. Я решил, что останусь здесь и не уеду, пока мое любопытство не будет удовлетворено вполне.
Я прервал его и сказал, как бы совершенно сдаваясь:
– Да-да, я вижу, вы намекаете на то, что я должен отсюда уехать. Так и есть, я потерял ваше доверие, я это чувствую…
Он опровергнул это движением руки. Но я продолжал:
– Ну тогда разрешите мне остаться. Только таким образом можно восстановить нашу дружбу. А это необходимо и полезно для нас обоих.
Лерн пошевелил бровями и сказал шутливо:
– Ты, значит, во что бы то ни стало хочешь меня предать, олух ты этакий?
– Нет. Но если вы не хотите меня огорчить, не прогоняйте меня. И скажу вам прямо, – прибавил я, дурачась, – я буду верующим…
– Послушай, – энергично остановил меня дядя, – у нас тут ничего плохого не делается, абсолютно ничего!
– Абсолютно? У вас тут тайны… Но это ваше право иметь секреты. И если я о них говорю, то только для того, чтобы уверить вас, что я отнесусь к ним с полным уважением.
– Только одна. Одна-единственная тайна. И цель ее благотворна и благородна, – проскандировал дядя со все возрастающим оживлением. – Единственная, слышишь? Наша работа ведет к исцелению, славе и деньгам… Но обо всем этом и о нас самих надо молчать. Тайна? Весь мир знает, что мы здесь, что мы работаем! В газетах об этом писали! Значит, никакой тайны здесь нет!
– Успокойтесь, дядя, и обойдитесь со мной немножко любезнее. Положитесь на мою скромность…
Лерн продолжал свои рассуждения.
– Ну да, – сказал он, подняв брови. – Так оно и должно быть. Я всегда к тебе хорошо относился и теперь не должен тебя отталкивать. Это значило бы отвергнуть все прошлое. Ну оставайся, только под условием. Мы здесь производим исследования, которые близятся к концу. Как только мы усовершенствуем наше открытие, мы его сейчас же опубликуем. Но до тех пор я не хочу осведомлять никого о наших еще незаконченных опытах и достигнутых ими результатах, потому что это нам может создать только конкуренцию. Я нисколько не сомневаюсь в твоей скромности, но я все-таки не хотел бы подвергать ее испытанию и, в твоих же собственных интересах, прошу тебя ничего не оглашать, пока это тебе не будет разрешено. Я сказал: «в твоих собственных интересах». Не потому только, что лучше молчать, чем болтать, а еще вот по каким основаниям. Наше дело, в конце концов, – дело коммерческое. Нам очень полезен будет человек с торговым опытом. Мы разбогатеем, племянничек, неслыханно разбогатеем. Предоставь мне спокойно создавать твое состояние и с сегодняшнего дня держи себя, как человек тактичный и строго уважающий мои приказания, если хочешь быть нашим союзником. Притом я здесь не один в этом предприятии. Если ты сделаешь что-нибудь против правил, которые я тебе изложу, тебе придется раскаяться… страшно раскаяться… больше, чем ты себе можешь представить. Итак, постарайся быть индифферентным ко всему, что здесь происходит, дорогой племянник. Ты ничего не должен ни видеть, ни слышать; будь туп, ничего не понимай, будь мертвецом, если хочешь разбогатеть… и если… не хочешь погубить своей молодой… цветущей… жизни… Да, я знаю, равнодушие – добродетель нелегкая… особенно здесь, в Фонвале! Здесь, вне замка, сегодня происходили вещи, которые не должны были происходить, и случились только по недосмотру…
При этих словах ярость снова нахлынула на профессора, и он со сжатыми кулаками угрожающе забормотал:
– Вильгельм! Тупоумный осел!
Теперь я был уверен, что проникну в эту тайну и найду объяснения многим милым сюрпризам. Ни обещаниям, ни угрозам дяди я не придавал никакого значения; я понимал, что он пускает в ход это оружие только для того, чтобы держать меня в руках.
Я холодно ответил:
– И это все… что вы от меня хотите?
– Нет. Еще следующее… Еще другие запрещения, Николай. Сейчас там, в замке, я тебя представлю одной особе… Я сюда пригласил… одну молодую девушку…