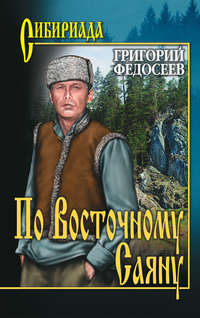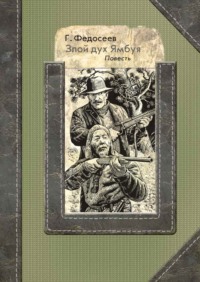Полная версия
В тисках Джугдыра
Вниз, к стоянке, спустились быстро. В палатке тепло. Василий Николаевич вскипятил воду. Мы обмыли Трофима Николаевича и уложили в спальный мешок. После всего пережитого он впал в забытье, метался в жару, бредил и непрерывно вздрагивал от затяжного кашля.
Геннадий настойчиво стучал ключом, вызывая свои станции, хотя до назначенного времени оставалось более двух часов. Его упорство закончилось удачей, и в эфир полетела радиограмма:
«Все затерявшиеся живы, находимся лагере под Алгычаном. Королев тяжелом состоянии, срочно вызовите к аппарату врача, нужна консультация, оказание помощи больному».
Остальные из пострадавших нуждались лишь в нормальном питании. Почувствовав тепло и присутствие близких им людей, они понемногу стали приходить в себя.
Врачи по признакам болезни определили у Трофима Николаевича воспаление легких. Болезнь протекала тяжело. Больной лишь изредка, и то ненадолго, приходил в себя.
Через несколько дней мы снова вынесли на голец строительный лес и воздвигли на пике пирамиду. Стоит она и сейчас на зубчатой громаде Джугджурского хребта, как символ победы советского человека.
Болезнь Трофима Николаевича очень тревожила нас. У него не прекращались кашель и одышка. Температура упорно держалась выше тридцати девяти градусов. Утром и вечером у аппарата появлялся врач и давал советы по уходу за больным, хотя наш лагерь и находился за тысячу с лишним километров от штаба.
Четырнадцатого марта мы тронулись в обратный путь к бухте. Теперь дорога нам была знакома, а дни стояли солнечные, теплые. Для Трофима Николаевича были сделаны специальные нарты с капюшоном, на которых он мог лежать. Упряжку всю дорогу вел Василий Николаевич. На крутых спусках и в опасных местах оленей выпрягали и нарты тащили вручную.
В бухту пришли на третий день. Трофима Николаевича положили в больницу. У него действительно оказалось воспаление легких. Хотя теперь он находился под непосредственным наблюдением врачей и в хорошей обстановке, жизнь его все еще была в опасности. Ожидался кризис.
В день приезда я посетил председателя райисполкома и вернулся в лагерь поздно. Все спали, кроме Василия Николаевича.
– Ты куда собрался? – спросил я, увидев приготовленные для похода рюкзаки и лыжи.
– Прошлый раз вы же обещали: как вернемся с Алгычана, пойдем море смотреть. Столько было разговоров… А тут, пожалуйста, остановились в таком месте, что даже морем не пахнет. Геннадий говорит, самолет за нами придет послезавтра, значит, можем пойти всего на один день. Каждый час дорог. Вот я и тороплюсь. На рассвете мы должны быть за хребтом! – заявил он.
– Не сейчас ли думаешь идти?
– Неужто утра дожидаться? Да вы взгляните, ночь-то какая светлая! – ответил он, отбрасывая борт палатки, но, увидев темноту, поправился: – Не слепые же, доберемся до места, там и переждем.
– Успеем, Василий, и выспаться и к морю попасть, – ответил я.
Но уснуть так и не удалось. Василий Николаевич всю ночь возился, гремел посудой, а под утро так накалил печь, что в палатке стало невыносимо жарко. Пришлось подниматься.
Нартовая дорога, по которой мы идем, ведет нас от бухты на север. Через три километра она врезается в лес, переваливает хребет и крутой щелью спускается к морю.
Начинает светать. Мы идем берегом, направляясь к мысу Льготному. Он уже чуть-чуть вырисовывается сквозь поредевший мрак. Под ногами шумит разноцветная галька – мелкая, плоская, пересыпанная перламутровыми ракушками. Как много этих ракушек на берегу! Тут и двухстворчатые, и чашеобразные, и спиральные. Вместе с ними море выбрасывает на берег много ценнейших водорослей, откладывая их длинными валами или небрежно расстилая по гальке. Больше всего здесь морской капусты – длинных коричневато-зеленых ремней, много стеблевидных фукусов, морского салата и других растений. Трудно смириться с мыслью, что эти ценные дары моря пропадают. Ими никто пока не интересуется, кроме разве бурого медведя, большого охотника до морской капусты.
Слева от нас уходят в безграничное пространство шероховатые поля льдов. Начинается прилив. Море медленно надвигается на материк, и в этом закономерном движении чувствуется спокойствие. Пахнет йодом и морской травой, и прохладный воздух кажется особенно свежим. Вода до того прозрачна, что сквозь нее видно все, что есть на дне.
Вдруг до слуха долетает протяжный звук, напоминающий стон. Мы останавливаемся. Он повторяется далеко возле мыса, позади и снова впереди нас. Море пробуждается, а звуки усиливаются и скоро превращаются в сплошной рев. Это кричат птицы. Огромные стаи чаек лениво летят на север. На маленьких льдинах важно восседают бакланы. По разводьям – бесчисленные табуны уток. Это самые беспокойные из водоплавающих. Тут и драки, и писк, и возня. Птиц, как говорится, видимо-невидимо. Сколько радости в этом неумолкающем птичьем гомоне!
К краю гальки пристыл припай – намерзшая за зиму полоска берегового льда. Справа над припаем высятся исполинские скалы. Они, казалось, угрожают завалить море. Нужно иметь всего лишь капельку воображения, чтобы увидеть в очертании этих скал то полуразрушенные бастионы, крепости, то часовых, оберегающих рубеж материка, то гигантские колонны, украшающие вход в пещеры.
По бровке скал темной каймой виднеется лес. Растет здесь преимущественно лиственница. Но издали ее ни за что не узнать, такая она жалкая! Крайние ряды деревьев, что ближе к морю, маленькие, уродливые. Их густые и изувеченные кроны переплелись между собою непролазной стеною, будто понимают, что только сообща, обнявшись, можно противостоять силе ветра и стужи. Верхние ветви этих деревьев словно подстрижены постоянной струею леденящего ветра. Ни одна веточка не смеет высунуться выше установленной границы: она погибнет.
Есть там и одинокие деревья. Это те же лиственницы. Их корни спрятаны под утесом в щелях скал или в россыпях, а стволы выбрались на уступы и не растут вверх, а лежат, как осьминоги, присосавшись к шероховатой поверхности горизонтальных скал. В таком положении они селятся даже на совершенно открытых карнизах, постоянно продуваемых ветрами, но только там, где между скалами и холодной струей воздуха существует какое-то жизнеспособное пространство, хотя бы с полметра.
За защитной полосою низкорослых и горбатых лиственниц виднеются темные ели. Они тоже растут сообща и, кажется, больше в корень, чем в высоту.
Тяжелую борьбу ведут деревья за право жить на этом морском берегу! И все же радостно смотреть на этих пионеров растительного мира, дерзнувших отвоевать, подчинить себе суровые склоны береговой полосы Охотского моря.
– Что это там, впереди? Видите? – говорит Василий Николаевич, показывая на бесформенный предмет, одиноко торчащий на берегу.
Мы подходим ближе. Это носовая часть небольшого грузового судна. Измочаленные шпангоуты, оборванная якорная цепь и вбитые в стенки судна угловатые осколки скал свидетельствуют об упорной борьбе, которую выдержало судно, прежде чем развалиться. Что случилось с людьми, где груз, машины? Разве у моря узнаешь его тайны?
Продвигаемся дальше по припаю. Все ближе подступают к берегу льды. Василий Николаевич замечает на них черное пятнышко.
– Смотри-ка, кажется, движется. Не морской ли зверь? – говорит он, показывая рукою вперед на огромную льдину, упершуюся краем своим в припай.
Остановились. В бинокль я вижу: черный комочек ползет на верх льдины и там замирает.
– Маленькая нерпа, – сказал я.
Василий Николаевич сбрасывает с плеча малокалиберную винтовку, заряжает ее, и мы, пригнувшись, почти ползком крадемся к зверю.
Метров через сто мы останавливаемся, выглядываем из-за камня. Нерпа, не замечая охотников, лежит у самого края льда, отбросив лопастый хвост. Но стрелять далеко.
Подбираемся к краю припая и снова ползем к льдине, на которой лежит нерпа. Василий Николаевич осторожно просовывает вперед ствол винтовки, прижимает ложе к плечу и, приподнявшись, выглядывает. Я жду выстрела. Охотник же, не поворачивая головы, рукой подает мне знак приподняться и шепчет:
– Спит…
В двадцати метрах от нас беспечно спал маленький зверь, длиною с метр, повернув усатую, слегка поседевшую мордочку к солнцу. Видимо, так приятно было ему, так тепло, что он забыл про опасность.
Василий Николаевич, растроганный этой сценой, и не вспомнил про винтовку. Облокотившись о кромку льдины, он внимательно рассматривал зеленовато-рыжий комочек, изредка вздымающийся от равномерного дыхания. Где-то близко крикнула чайка. Нерпа открыла глаза и удивленно посмотрела на нас, будто хотела сказать: «Зачем вы мешаете мне погреться на солнышке?» Потом повернула к солнцу серебристое брюшко, шлепнула, видимо от удовольствия, хвостом и снова заснула.
Вдруг над нами прочертил воздух пернатый хищник, догоняя пролетевшую стайку чирков, и нерпа мгновенно спрыгнула в воду.
– Видишь, откуда она почуяла опасность, с воздуха! Ну и глупая! – сказал Василий Николаевич, и мы тронулись дальше.
В полдень подошли к мысу. Ветер усиливался. Льды, продолжая наступать, выпирали на берег, лезли друг на друга, ломались и с грохотом рушились вниз. Мимо нас поспешно пролетали гурты птиц.
– Кажется, буря будет, что-то похолодало, – сказал Василий Николаевич.
Теперь перед нами лежало открытое море. Солнце обливало его потоком радужных огней. Бесчисленные гряды серебристых волн, гонимые холодным ветром, то набегали одна на другую, то вздымались высоко-высоко, словно дикие кони, то смешивались в гигантский вал и с яростью набрасывались на рифы, преграждавшие подступ к мысу.
Море металось в бессильной попытке вырваться из гигантской чаши, разрушить береговые твердыни, сковавшие его просторы. Какая неизмеримая в нем сила!
Но вот перед нами и мыс. Его грудь, изъеденная ветром, надвинулась на море, как бы готовясь ринуться в схватку. К мысу издалека подходят стены отвесных скал. Непоколебимой кажется граница между этими двумя вечно враждующими титанами – морем и сушей. Но это только первое впечатление, пока не присмотришься. На черных и безжизненных скалах лежат неизгладимые следы разрушений. Этому свидетели и одиноко торчащие островки, и рифы, и скатившиеся в море глыбы твердых пород. Несомненно, все они когда-то в далеком прошлом составляли неразрывное целое с материком, отступившим в борьбе с морем и ветром.
Эта борьба продолжается и теперь. Волны затопляли рифы, лезли на скалы, бросая на них льдины, плавник. Какая необузданная сила в этом натиске! Но для того чтобы отвоевать у материка несколько десятков метров скал, морю потребовались тысячелетия.
Величественно стоят береговые громады, оберегающие границу материка. Удары волн, неповторимо своеобразный стон скал, крик чаек – все это сливалось в общий гул и уносилось ветром.
Пора было возвращаться в лагерь, но Василий Николаевич запротестовал:
– Успеем. Давайте поднимемся выше и еще сверху взглянем. Может быть, больше не придется побывать здесь.
Взбираемся на небольшой уступ и молча любуемся разбушевавшейся стихией. Ужасно ее вечное однообразие. Та же голубизна, те же волны, штормы, та же непримиримая борьба с материком, как это было тысячи лет назад. «А что же скрыто в морских глубинах?» – вдруг подумалось мне. Туда не проникают лучи солнца. Там постоянный мрак и нерушимый покой. Но это не безжизненное пространство. Морское дно, так же как и поверхность суши, состоит из впадин, возвышенностей, гор. Там свои пустыни, дремучие леса разнообразных водорослей, своеобразные луга. И все это огромное подводное пространство заселено живыми существами, мало или совсем не известными человеку.
Мы еще не имеем подробной карты дна океанов и морей и далеко не все знаем о сокровищах, спрятанных там, о том, что растет и какие организмы обитают в темноте. Там все настолько необыкновенно, что даже воображение ученого бессильно представить полную картину жизни морских глубин.
Наука все настойчивее проникает в тайны подводного мира. Ну как не позавидуешь смельчакам, на долю которых пала сложная борьба за освоение морских богатств, тем, кому придется перестраивать природу океанов! Их ждут великие открытия!..
Погода не унималась. Ветер обжигал лицо, проникал под одежду и с воем уносился вглубь материка. Ни уток, ни бакланов. Исчезли и чайки. Все попряталось. Только одинокий орел, споря с ветром, высоко парил над нами.
В лагерь вернулись поздно вечером. После ужина все собрались в нашей палатке. Василий Николаевич рассказывал товарищам о шторме, о скалах, о погибшем корабле, достал из сумки ракушки, камешки, листики и корешки водорослей, собранные им для коллекции. Я, несмотря на усталость, уселся за дневник.
На второй день утром за нами прилетел самолет. На смену Королеву прибыл техник Григорий Титович Коротков. Среди привезенных журналов и газет я нашел два письма, адресованных нам с Трофимом Николаевичем. Их прислала Нина Георгиевна. «Я вам не отвечала более года, – писала она мне. – Нехорошо, знаю. Вы меня ругаете, конечно, плохо думаете. У меня умер муж, человек, которого я тоже любила. Теперь, когда прошло много времени, я смирилась со своим горем и могу подумать о будущем. Я написала подробное письмо Трофиму, не скрывая ничего, пусть он решает. Я согласна ехать к нему. Если его нет близко возле вас, передайте ему мое письмо. Остальное у меня все хорошо, Трошка здоров, пошел в школу. Ваша Нина».
Наконец-то можно было порадоваться за Трофима, если… если это письмо вообще не запоздало. Жизнь Королева по-прежнему в опасности. Но я знал, что письмо Нины ободрит больного, поможет противостоять недугу.
Пока загружали машину, мы с Василием Николаевичем и Геннадием пошли в больницу. Дежурный врач предупредил, что в палате мы не должны задерживаться, что больной, услышав гул моторов, догадался о нашем отлете и очень расстроился.
Трофим лежал на койке, прикрытый простыней, длинный, худой. Редкая бородка опушила лицо. Щеки горели болезненным румянцем, видимо, наступил кризис и организм напрягал последние силы. Больной ни единым словом, ни движением не выдал своего волнения, хотя ему было тяжело расставаться с нами.
– Нина Георгиевна письмо прислала, хочет приехать совсем к тебе, – сказал я, подавая ему письмо.
– Нина?… Что же она молчала так долго? – прошептал он, скосив на меня глаза.
– Она обо всем пишет подробно… Почему ты не радуешься?
Он молча протянул горячую руку. Я почувствовал, как слабо бьется его сердце, увидел, как неравномерно вздымается грудь, и догадался, какие тревожные мысли его волнуют сейчас.
– Не беспокойся, все кончится хорошо. Скорее выздоравливай и поедешь в отпуск к Нине.
Трофим лежал с закрытыми глазами, почти восковой. Видимо, собрав всю свою волю, он сдерживал в себе внутреннюю бурю. На сжатых ресницах копилась прозрачная влага и, свернувшись в крошечную слезинку, пробороздила худое лицо.
– Мне очень тяжело… Трудно дышать… Кажется, запоздали… и Нина и счастье…
Он хотел еще что-то сказать и не смог.
– Крепись, Трофим, и скорее поправляйся.
Больной открыл влажные глаза и устало посмотрел за окно. Там виднелись мачты зимующих катеров, скалистый край бухты, затянутый сверху густой порослью елового леса, и кусочек голубого неба. До нас доносился гул моторов.
– Вам пора… – И он сжал мою руку.
Тяжело было расстаться с ним, бросить одного на берегу холодного моря. Трофим уже давно стал неотъемлемой частью моей жизни. Но я не мог распоряжаться собой и должен был немедленно возвратиться в район работ.
Мы распрощались.
– Задержитесь на минутку, – прошептал Трофим и попросил позвать врача.
Он с трудом сдерживал волнение.
Когда пришел врач, Трофим приподнялся, просунул руку под подушку и достал небольшую кожаную сумочку квадратной формы с прикрепленной к ней тонкой цепочкой.
– Это я храню уже семнадцать лет. С тех пор как ушел от беспризорников. Здесь зашито то, что я скрыл от вас из своего прошлого. Не обижайтесь… Было страшно говорить об этом, думал, отвернетесь… А после стыдно было сознаться в обмане. Евгений Степанович, – уже шепотом обратился он к врачу, – если я не поправлюсь, отошлите эту сумочку в экспедицию. А Нине пока не пишите о моей болезни… – И Трофим безвольно опустился на подушку.
Евгений Степанович проверил пульс, поручил сестре срочно сделать укол.
– У него стойкий организм. Думаю, что это решит исход болезни. Но для полного восстановления здоровья потребуется длительное время, – сказал врач.
Выйдя из больницы, я медленно шел по льду к самолету и продолжал думать о Трофиме, об удивительном постоянстве его натуры, которое позволило так долго хранить свое чувство к Нине, о сильной воле, которая не покидала его и сейчас, в смертельно-трудные минуты. Горько думалось и о том, что, может, ему не придется вкусить того счастья, к которому он стремился всю жизнь и которое стало близким только сейчас, когда жизнь его висит на волоске. Заставили меня призадуматься и слова Трофима о таинственной кожаной сумочке. Мне казалось, что я знал все более или менее значительное о его тяжелом прошлом, знал и о преступлениях, совершенных им вместе с Ермаком, возглавлявшим преступную группу беспризорников. Что же Трофим мог скрыть от меня?
Коротков со своим подразделением должен будет еще с неделю задержаться в бухте, пока окончательно не придут в себя спутники Трофима Николаевича – Юшманов, Богданов, Харитонов, Деморчук. К ним уже вернулась прежняя жизнерадостность. В молодости горе не задерживается.
Через час самолет поднялся в воздух, сделал прощальный круг над бухтой и взял курс на юг. Семнадцатого марта в полдень мы были дома.
Часть вторая
I. Колхозный смолокур. – Знакомство с Пашкой. – Голубая лента. – Избушка на краю бора. – Пашка-болельщик
В штабе затишье. Все подразделения уже далеко в тайге, и странно видеть опустевший двор, скучающего от безделья кладовщика и разгуливающих возле склада соседских кур. Необычно тихо и в помещении. На стене висит карта, усеянная условными знаками, показывающими место стоянок подразделений. Самую южную часть территории к востоку от Сектантского хребта до Охотского моря занимает топографическая партия Ивана Васильевича Нагорных. Севернее ее до Станового расположилась геодезическая партия Василия Прохоровича Лемеша, на восточном крае Алданского нагорья – Владимира Афанасьевича Сипотенко. На карте вся эта огромная территория пестрит условными флажками. Как только наступит тепло, все флажки придут в движение, переместятся и до глубокой осени будут путешествовать по карте, отмечая путь подразделений.
Наш маршрут остается прежним. Отправляемся на реку Мая к Лебедеву, чтобы обследовать стык трех хребтов. Затем уйдем в верховья реки Зеи искать проход через Становой. Путь далекий, предстоит на нартах покрыть расстояние около пятисот километров по безлюдной тайге и снежной целине, где для нас никто не промял дороги. Нужно торопиться, чтобы успеть до распутицы добраться до места работы. Вылет на косу, где живут наши проводники, назначен на завтра, но вечером выяснилось, что в районе посадки самолета свирепствует непогода. Придется задержаться. Ко мне зашел Василий Николаевич. Нужно было кое-что выписать со склада и разрешить ряд вопросов, связанных с отъездом. Мы только сели за стол, как в комнату вошла хозяйка с кипящим самоваром.
– К вам дедушка пришел, войти стесняется, может, выйдете? – сказала она, заваривая чай.
В сенях стоял дородный старик, приземистый, лет шестидесяти пяти, в дубленом полушубке, перевязанном кумачовым кушаком. На голове у него была лисья шапка-ушанка, надвинутая глубоко на брови.
– У нас промежду промышленников слушок прошел, будто вы охотой занимаетесь, вот я и прибежал из зимовья, может, поедете до меня, дюже коза пошла! – проговорил он застенчиво, переступая с ноги на ногу.
– Вы что же, охотник?
– Балуюсь, – замялся он, – с малолетства маюсь этой забавой. Еще махонький был, на выстрел бегал, как собачонка, так и затянуло. Должно, до смерти.
– Заходите!
Старик потоптался, поцарапал унтами порожек и неловко ввалился в комнату.
– Здравствуйте!
Немного осмелев, он уселся на краешек табуретки, сбросил с себя на пол шапку-ушанку, меховые рукавицы и стал сдирать с бороды прилипшие сосульки, а сам нет-нет, да и окинет пытливым взглядом помещение.
– Раздевайтесь!
– Благодарю. Ежели уважите приехать, то я побегу. А коза, не сбрехать бы, вон как пошла, табунами, к хребту жмется, должно, ее со степи волки турнули.
Василий Николаевич так и засиял, так и заерзал на стуле.
– Да раздевайтесь же, договориться надо, где это и куда ехать, – сказал он.
– Спасибо, а ехать недалече, за реку. Я ведь колхозный смолокур, с детства в тайге пропадаю. Так уж приезжайте, два-три ложка прогоним и с охотой будем…
Сухое, обожженное ветром лицо старика перетягивалось вздувшимися прожилками.
– Где же мы вас найдем?
– Сам найдусь, не беспокойтесь. Пашка, внучек, вас дождется и отсюда на Кудряшке к седловине подвезет. Он, шельма, насчет коз во как разбирается, мое почтенье! Весь в меня, негодник, будет, – и его толстые добродушные губы под усами растянулись в улыбке. – В зыбке еще был, только на ноги становился, и что бы вы думали? Бывало, ружье в руки возьму, так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А способный какой! Малость подрос – ружье себе смастерил из трубки, порохом начинил его, камешков наложил… Вот уж и грешно смеяться, да не утерпишь. Бабка белье в это время стирала. Он подобрался к ней, подпалил порох, да как чесанул ее, она, голубушка, и полетела в корыто, чуть не захлебнулась с перепугу… Так что не беспокойтесь, он насчет охоты разбирается… Где умишком не дотянет, хитростью возьмет…
– По случаю нашего знакомства, думаю, не откажетесь от рюмки водки. Пьете? – спросил я старика.
Тот смешно прищелкнул языком и, разглаживая влажную от мороза бороду, откровенно взглянул на меня.
– Случается грех… Не то чтобы часто, а приманывает. Пора бы бросить, да силен в ней бес, ой, как силен!
Старик выпил, вытер губы, смоченные водкой, а бутерброд есть не стал, переломил его пополам и всунул в рукавицу.
Василий Николаевич вышел вместе со стариком.
Я стал переодеваться. Слышу, приоткрылась дверь, и в комнату заглянула взлохмаченная голова с птичьим носом, разрисованным мелкими веснушками. Парнишка боком просунулся в дверь, снял с себя козью доху, бросил ее у входа. Это был Пашка.
На нем была важная пара с чужого плеча и большие унты, вероятно, дедушкины обноски. Поверх этого костюма, напоминающего водолазный скафандр, торчала на тоненькой шее голова с беспорядочно взбитыми волосами. Серые ястребиные глаза мгновенно пробежали по всем предметам комнаты, но во взгляде не мелькнуло ни тени удивления или любопытства.
– Здравствуйте! – сказал он застенчиво. – У вас тепло… Вы не торопитесь. Пока дедушка добежит до лога, мы лучше тут подождем – в тайге враз продует.
– Куда же он побежал?
– Мы-то поедем прямиком до седловины, а он по Ясненскому логу пугнет на нас коз.
– Пешком и побежал?!
Пашка улыбнулся, широко растягивая рот.
– Он у нас чудной, дед, сроду такой! До зимовья двенадцать километров, а за тридцать лет, что живет дедушка в тайге, он на лошади ни разу туда не ездил. Когда Кудряшка была молодой, следом за ней бегал. А теперь она задыхается в хомуте, спотыкается. Так дед пустит ее по дороге, а сам вперед рысцой до зимовья. Она не поспевает за ним.
– А как же зовут твоего дедушку?
– Не могу выговорить правильно, сами спросите. Его все Гурьянычем, по отцу, величают. Сказывают, он будто был одиннадцатым сыном, родители все имена использовали, ему и досталось самое что ни есть крайнее. Ниподест, что ли!
– Анемподест?
– Да, да… Он у вас ничего не просил?
– Нет.
– А ведь ехал с намерением. Значит, помешкал. У нас на смолокурке все к краю подходит: зимовье на подпорках, бабушка старенькая, да и Кудряшка тоже. А Жучка совсем на исходе, даже не лает, так мы с дедушкой хотели щенка раздобыть. Говорят, у вас собаки настоящей породы, – и паренек испытующе посмотрел мне в глаза.
– Собаки-то есть, только когда будут щенки, не знаю, да и будут ли.
– Бу-у-дут, – убежденно ответил Пашка. – К примеру, наша Жучка каждый год выводит щенят, да нам хотелось породистого. Мы уже и будку ему сделали и имя придумали – Смелый… Значит, еще неизвестно?
Пока он рассказывал семейные секреты, я переоделся.
– Чаю со мной выпьешь?
– С сахаром? А что это у вас, дядя, за коробка нарядная?
– С монпансье.
– Знаю, это такие кисленькие леденцы, – и он громко прищелкнул языком.
– Могу тебе подарить.
– С коробкой?
– Да.
– Что вы, ни-ни!.. – вдруг спохватился он. – Дедушка постоянно говорит, что я за конфетку и портки свои продам, брать не велит. А чай с монпансье выпью… Какие у вас маленькие чашки!