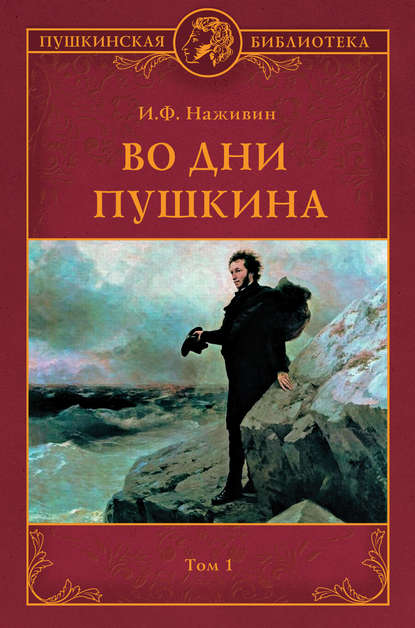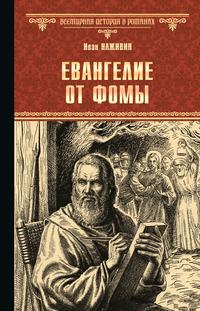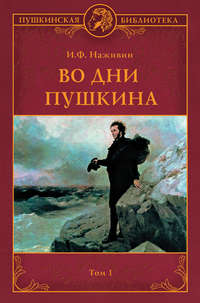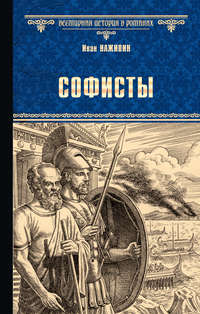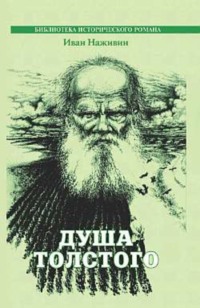Полная версия
Во дни Пушкина. Том 2
Только одна Дунай необъятная равнодушно ковыряла чудовищным пальцем в носу и зорко следила своими звериными глазками, нет ли поблизости мух…
– А я забыл вам сообщить одну маленькую подробность из жизни нашего сераля, Александр Сергеевич… – тихонько проговорил майор. – Всего, вместе с жрицами Мельпомены, в нашем гареме поболе тридцати красавиц. При них изрядное количество мамок и нянек, которые няньчут потомство его сиятельства… И вы будете поражены, не правда ли, если я скажу вам, что у некоторых из этих затворниц есть у одной томик Жуковского, а у другой Пушкина…
– Да что вы говорите! – засмеялся Пушкин. – А скажите: нельзя ли вместо томика самому автору туда пробраться?
– И думать нечего! А знаете, между прочим, откуда они достают эти томики? Все через больного музыканта… тайком…
– А-ха-аххх! – пронеслось вдруг по громадному цирку.
Один из рыцарей с треском вылетел из седла и растянулся без памяти на песке арены.
Но от этого турнир следующих пар стал только горячее и красивее…
А потом снова начался пир, и пляс, и картеж, и битье посуды… И какой-то представитель чернозема с дикими уже, блуждающими глазами, лохматый, со съехавшим набок галстуком, среди блюющих, ревущих, хохочущих орал:
– Jurisprudetia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia!..[26] Так сказал Ульпианус! А вы, свиньи, что сказать можете? Ничего, ибо вы – свиньи!..
– Ура-а-а!.. – заорали все вокруг. – Качать философа!
Началась дикая возня вкруг оратора. Он отбивался, но его все-таки подняли на руки и, подняв, все вместе с хохотом обрушились на залитый паркет…
Пушкин, уставший от еды, прошел в гостиную. Вокруг графини как будто поредело немного, и он любезно сказал ей несколько комплиментов по поводу блестящего празднества… Но она, по-видимому, осталась к похвалам вполне равнодушна и, боязливо оглянувшись, спросила:
– А скажите, monsieur… monsieur…
– Pouchkine… – поторопился он прийти ей на помощь.
– Monsieur Pouchkine, как вы думаете: не может это страшное несчастье с этой… как ее?.. с Полтавой… pardon, Помпеей повториться и у нас?
– О, нет, графиня! – воскликнул он. – Для этого нужны прежде всего огнедышащие горы… А где они в Отрадном?.. Вот когда начнут расти они, тогда, конечно, можно всего опасаться… Но пока можете почивать спокойно… Во всяком случае, рост их настолько медлителен, что тысячи лет…
Но она уже не слушала.
– А что в Петербурге думают насчет второго пришествия? – озабоченно продолжала унылая старушка. – Здесь все уверены, что оно должно быть тогда, когда Светлое Воскресенье придется в четверг…
– В Петербурге уверены в том же, графиня, – ответил он любезно. – Но там все митрополиты и астрономы, соединившись, высчитали, что такое совпадете будет только через 2377 лет… Как видите, на наш век хватит…
– А, может быть, они ошиблись?
– Помилуйте, графиня: митрополиты… астрономы… С ручательством!
И он, смеясь, ловким маневром отступил, а графиня уныло подумала, что молодежь стала что-то уж очень легкомысленна и что, пожалуй, Господь накажет за это всех: и митрополиты могут ошибиться…
А ночью, в розовом свете фонарика с легкомысленными воздушными фигурками, появилась новая фея… И странно: Наташа казалась теперь где-то за тысячи верст и он немножко удивлялся, что он так от нее загорелся…
X. Подарок
На третий и последний день праздника, как только граф отхаркался и отдышался, вся огромная усадьба сразу зашумела исступленным шумом. Торжественный день начался оглушительным народным праздником. На огромном дворе за ночь выросли качели, карусели, эстрада для оркестра, столы для крестьян, мачты для лазанья на призы, арена для бега в мешках, невероятных размеров бочки с пивом, вином и медом. И под грохот пушек и треск оркестра среди колонн дворца показался граф с графинюшкой, окруженный всем своим двором и гостями, и бесчисленная дворня стала подходить к ручке и получать в награду сайки, водку, гривенники в то время, как мужики кланялись только издали и дивились на великолепие своего владыки. Дунай ловко и незаметно сгребла зазевавшуюся муху и отправила ее в рот.
– Видали? – усмехнулся майор, опиравшийся на свой чудесный посох с многозначительной надписью. – Наш Дунай великолепная иллюстрация к рассуждению Дэтю-де-Траси о наследственной монархии… – щегольнул он старинкой. – Автор сей замечает, что люди считали бы безумным сделать наследственными обязанности кучера, повара, адвоката или доктора и обязаться пользоваться услугами только этих лиц и их наследников по праву первородства, будут ли это дети или дряхлые старики, сумасшедшие или какие-нибудь маниаки или подлецы. А между тем они считают вполне естественным повиноваться государю, получившему власть таким образом. Нельзя же все-таки, чтобы наследник-цесаревич на торжественном приеме послов какой-нибудь иностранной державы ловил бы и ел мух! Пойдемте, пройдемся, ежели угодно: привычный я к этим забавам человек, а и то устаю… А тут будет еще и кулачный бой, и травля медведей меделянскими псами, и еще что-то в этом роде… А то вот хоть тут, под липами, посидим…
Они сели под огромными липами на скамейку и майор, опираясь на droit de l’homme, знакомил Пушкина с проходившими мимо гостями.
– Вот этот плешивый, в орденах, с висячим брюхом, был председателем коммерческого суда в Киеве, – говорил он. – В надежде, что он останется в своей должности и на второй срок, он без всякого зазрения совести забирал у казначея казенные деньги под расписки. Отказать тот, разумеется, не смел… И так набрал он до ста тысяч рублей – серебром-с, не ассигнациями!.. И вдруг на выборах ему накидали черняков. Он явился к казначею с толстым пакетом, как бы с деньгами, потребовал свои расписки и тут же бросил их в топившуюся печку, а потом презентовал казначею флакончик с ядом: в пакете его была старая газета. Ну, казначея похоронили, жену его застращали, – муж перед смертью раскрыл ей все – а этот благополучно цветет у себя в имении… А этот вот молодой, с нафабренными усами и победительным видом – помещик из с. Смыкова. Он до сих пор пользуется правом primae noctis. Один мужик вздумал-было супротивничать. Тогда он приковал его с бабой к стене у себя и на их глазах изнасиловал их дочь-невесту… Большой шум пошел по всему уезду, но предводитель счел благоразумнее замять дело и все сошло молодцу благополучно. А, смотрите, вон тот, благодушный старичок в старинном кафтане – замечательная личность!.. Он мелкопоместный. Земли у него всего около 300 десятин и работают на ней только шесть душ, а остальные крепостные все предаются по воле господина изящным искусствам: у него есть три скрипача, виолончелист, два кларнета, две волторны, есть певцы-солисты, а остальные рисуют картины, режут рококо и ренессансы, плетут клотильды, рассказывают сказки и былины, завивают молодых барышень и проч. На этом веселом имении накопилось уже до десяти тысяч казенной недоимки, но это нисколько не мешает художественной дворне петь, играть, расписывать, вырезывать, обивать, причесывать. Вот тот, краснорожий с стеклянными глазами, пьет мертвую. Когда он напьется, фантазия его не имеет пределов. Прошлым летом он, пьяный, приказал запречь свою жену, совсем голую, в тарантас, в корень, а девок, тоже голых, на пристяжку и на вынос и – покатил на сенокос. Там на свежескошенной траве он уселся бражничать, а жену и девок велел гонять перед собой на корде… Вон тот, сивый, огромный, с синим, раздувшимся лицом и заплывшими глазками, по рождению самый подлинный орловский мужичок. Когда начал он свою карьеру, у него в кармане было всего пять целковых, а теперь у него по Уралу двадцать шесть железных и медных заводов и за каждой из трех дочерей своих – Дунаю они уступят разве немногим в смысле красоты телесной – он дает по 15 000 душ приданого!.. Он богаче нашего амфитриона, ибо его сиятельство, как видите, разбрасывает, а этот подбирает… Я нисколько не удивлюсь, ежели через некоторое время он в Отрадном будет хозяином, а граф у него церемониймейстером… И всего замечательнее, как он на волю выбился. Он платил своему владыке бешеный оброк и все на волю просился: за себя и своих давал огромный выкуп – сказывали, до полумиллиона. Но князинька его был не дурак: зачем же курицу с золотыми яйцами продавать? А этот тем временем под сурдинку хлопотал в Петербурге, сыпал деньгами и вдруг – бац: Владимира получил, а с Владимиром и дворянство… Уж и хохотал же он над своим князинькой! И теперь, ежели кто хочет занять у него взаймы, то непременно просит его предварительно рассказать историю своего освобождения, о том, как он князиньку поднадул… И тогда, наверное, чего нужно добьется… Ну, что, доктор, как наш музыкант? – обратился он к врачу, который проходил мимо.
– Плох… Не знаю, дотянет ли до завтра…
– Надо будет навестить его перед отъездом, – сказал Пушкин.
– А вы завтра уезжаете? Окончательно?
– Да, надо ехать…
– Сегодня вечером будет отдан приказ выпускать всех беспрепятственно… – сказал майор. – За эти два дня пленных еще человек пятьдесят набрали… А я на вашем месте остался бы еще погостить, а потом наши черноземные чудеса и описал бы…
– Нет, пора… Э, Григоров, милый человек! Я завтра еду… А вы как? – остановил он торопливо проходившего куда-то воина.
– Сопровождать не могу… Извините, – лукаво извинился тот. – Cherchez la femme!..[27] Не сердитесь, голубчик… Но я непременно выйду проводить вас, только пришлите сказать, когда поедете…
И, еще раз лукаво подмигнув, он устремился на поиски своей красавицы.
– Да… – вздохнул майор. – Так-то и я вот, заехал погостить сюда на недельку да и живу вот уже четырнадцатый год… Трясина. Завяз – пропал…
Дамы приглашены были полюбоваться смешным бегом в мешках, а кавалеры – балетом, на который вход дамам был закрыт…
– Однако у вас все идет росо а росо crescendo![28] – сказал Пушкин.
– Наша система, – просто отозвался майор. – Пожалуйте на спектакль: в Петербурге, пожалуй, такого не увидите…
Опять пылал огнями театр, и загремел навстречу гостям туш, и занавес с Фонтаном Ювенты и лебедями поднялся, и – рой беленьких, голубых, розовых балерин с очаровательными улыбками и подчеркнуто изящными жестами начали разводить руками и взлягивать обнаженными ногами. Как и полагается, балет изображал какую-то неимоверно слащавую чепуху. Мужчины-гости были в достаточной степени разочарованы и хотя во время спектакля и хлопали часто, но больше для того, чтобы угодить хозяину. А некоторые поднялись было покурить…
– Да стойте, стойте!.. Куда вы?.. – засмеялся из своей ложи граф. – Это только присказка, а сказка будет впереди… Садитесь…
Начались так называемые национальные пляски: и русская, которая привела всех в восторг, и гопак, и огневая мазурка, и чардаш, и менуэт, и тарантелла, и все что угодно, и для каждого танца надевался с волшебной быстротой костюм соответствующего народа. Потом перед подогретыми зрителями танцовщицы появились в каком-то томном танце в прозрачных покрывалах и вдруг, по знаку графа, все разом сбросили покрывала и предстали перед обомлевшими зрителями во всей наготе. У тех в зобу от радости дыханье сперло, а красавицы под нежную, ласкающую мелодию – ее написал, по словам майора, умирающий музыкант еще в Италии – стали сплетаться и расплетаться в светлых, волнующих хороводах… И медленно спустился занавес…
Гости изнывали от восторга. Граф как-то сонно смеялся над ними… Во дворце открылся бал, в котором принял участие и двор графа, разодетый в шелк, бархат и блистающий золотом и камнями. Открыт был бал самим графом с одной из своих статс-дам, которая предварительно поцеловала его руку… И тут же заревел неистовый последний пир, который шел до самого рассвета. Вокруг все было иллюминовано. Церковь была пирамидой огня. Везде полыхали смолевые бочки. Озеро рдело бешеными потешными огнями. Казалось, горела вся земля и все живое дышало огнем… Все орало, блевало, храпело под залитыми вином столами, обнималось, ругалось, хохотало, плясало среди мертвых тел, а к тем, которые изнемогли и убрались к себе, сейчас же являлись благоуханные, прозрачные, прелестные феи…
Пушкин встал рано. Он был совершенно вымотан и решил немедленно уехать. Майор уже не останавливал его.
– Я хотел бы только проститься с музыкантом, – сказал поэт.
– Увы: он только что на заре помер…
– Да что вы?! – нелепо удивился Пушкин, жесткой щеткой причесывавший свои непокорные кудри. – Ну, делать нечего: проститься все же надо…
Они пошли к службам. Ночью прошел дождь, распустилась сирень, и по тихой усадьбе везде пели зяблики. И все в этом солнечном утре говорило о каком-то нежном счастье. А там, в тихой комнатке с горящей лампадой, тихий, просветленный, лежал музыкант…
Заплаканная мать, давясь слезами, тихонько подошла к Пушкину.
– Ваня… сы… нок мой… наказал мне передать вам… барин… вот эти но… ты… Очень он… это… любил…
Пушкин развернул тетрадь. Это был «Пророк». А сверху изломанным, из последних сил почерком было написано: «Великому поэту от скромного музыканта последний привет».
XI. Степной волчонок
Весна торжествовала. Дороги подсохли, и Пушкин весело катил все дальше и дальше, рассеянно глядя на тот безбрежный крестьянский мир, который медлительно раскрывался перед ним во всей своей серой безбрежности и убожестве. Крестьянство интересовало Пушкина почти исключительно с точки зрения языка: он умел ценить те слова-жемчужинки, которые народ бессознательно ронял на своем историческом пути… У крестьянства, через Арину Родионовну одну хотя бы, Пушкин взял очень много, но он не думал, что за этот дар надо отблагодарить. Среди этих зеленых, привольных степей развертывалась трагедия, которая была безмерно интереснее ночных похождений графа Нулина в чужом доме или размышлений русского monsieur Онегина о выеденном яйце. Но он точно не видел ее. Вообще крестьянством на верхах занимались мало. Первый, кто заговорил о нем, был Радищев – либеральная Като упрятала его в каменный мешок. Ребром поставили крестьянский «вопрос» декабристы – их Николай раскачал картечью…
Он катился зеленою степью, лениво грезя о предстоящих работах, о Натали, о женщинах вообще, о том, что он увидит на войне, о своем все еще сомнительном будущем, а мимо бежали села и деревни. И деревни эти выглядели прочно, хозяйственно, если их владелец был хозяином, а если он занимался балетом, Вольтером, английским парламентом, то деревни были разорены и полны неизбывной тоски.
Владели двуногой скотинкой этой не только одни господа: рабы были и у купцов. Таких купеческих крестьян особенно много было на востоке, по Уралу, где они были прикреплены к купеческим фабрикам и заводам. Мало того: владели крепостными через подставных лиц часто даже сами крестьяне. Иногда одна деревня владела другой, больше для отдачи в рекруты вместо своих, а то и в качестве работников. И если крепостной мужик писал своему барину-дворянину: «Все ваши Государские крестьяне Милостивого Государя нашего батюшки все покорные подданные, ваши рабы, покорно перед честными вашими ногами кланяемся», то и своему хозяину-мужику крепостные писали почти в том же стиле: «Милостивому государю и отцу нашему Никифору Артемьевичу, раб ваш Кондратий Васильев всеподданнейше челом бьет. Которое вашим милосердием к нам, нижайшим рабам, повеление прислано, чтобы нам, нижайшим рабам…» – и т. д. Но когда княгине Куракиной нужно было деньжонок до срока, она называла своих мужичков «любезными моими крестьянами», «моими друзьями» и, прося об уплате оброка за будущий год, вперед, уверяла их, что «Бог заплотит вам все то, что вы для меня в теперешнем случае сделаете…».
Каким мужикам было слаще, господским, купеческим или крестьянским, установить трудно, но надо полагать, что сладко было всем. Мордобой, палки, даже пытки, все было на барских усадьбах, но мордобой, палки и пытки были и на заводах купеческих. Бывали случаи, когда управляющие знаменитого Демидова приказывали бросать людей в доменную печь, а когда в конце XVII века к Акинфию Демидову нагрянула вдруг ревизия, то его крепостные, чеканившие для него в подземельях Невьянского завода фальшивую монету, чтобы скрыть концы, были просто затоплены. Решительно нет никакого основания думать, что лучше было крепостным крестьянским: заплатив за раба трудовой копеечкой, мужичек старался вернуть ее с лихвой… И все, конечно, всемерно пеклись о приплоде двуногой скотинки. Знаменитый полководец Суворов, маленький генерал, изобрел премии и награды за многоплодие: кухмистеру Сидору «с его супругой» приказано было выдавать на детей провиант до пятилетнего возраста, а после полный, а кроме того, за каждого новорожденного по рублю, а Полякову за многоплодие была куплена в подарок хорошая господская шляпа, а его жене – хороший кокошник. Женили же иногда просто малолетних: Гастгаузен рассказывает, что он видел шестилетних мужей. И сами помещики старались на этом поприще в своих гаремах.
Приплод шел на продажу. Особенно дотошные господа возили своих девок к Макарию и на знаменитую Урюпинскую ярмарку: там их больше покупали азиаты. А которые – за болезнью или старостью – не годились ни на работу, ни на приплод, ни даже в рекруты, тех под благовидным предлогом высылали в Сибирь, куда они, однако, доходили редко: дорогой по острогам погибали…
В довершение всего допекало мужика и крапивное семя – земские чиновники. Они пользовались всем для насилия и взяток. То соберут мужиков на общественные работы в сенокос или жатву, держат месяц и ничего не делают: пусть откупаются стервецы. А то заставят делать что-нибудь, а потом ломают, говоря, что сделано не по форме. В сборе податей не стеснялись и, пользуясь безграмотностью и бесправием мужика, часто драли втрое против того, что положено по закону…
Малейшее движение против помещичьей власти, и военные команды заливали кровью и иногда разоряли и самую деревню дотла. Но это помогало плохо, и в последние годы брожение среди крестьян все усиливалось. Воли ждали от всех – даже от Наполеона. А так как воля не приходила, то выступали все чаще и чаще «свои средствия»: стали поджигать, стали убивать, а когда московский барин Базилевский был высечен своими мужиками и царь за то отобрал у него все имения, то мужичишки стали ловить своих господ и – пороть: и смертного греха на душу не ложится, и господишки шелковыми делаются. Выпороли так раз мужичишки одну великосветскую барыню, и та, как баба умная, все дело замяла и повела в деревнях своих политику примирительную…
Другие, натуры вольнолюбивые, как и при первых Романовых, бежали на украины: на Кавказ, в Бессарабию, даже в Галицию, а потом облюбовали себе крепость Анапу, где – как ходил среди мужиков слух – всякий крепостной сразу вольным делался. Бродяжки эти занимались и рыболовством, и в батраки нанимались, и разбоем промышляли. Беловодию, как всегда, всюду искали…
Мечта о вольности разгоралась все более и более. И если одни, немногие, мечтали о вольности, как о возможности жить жизнью человеческой, то огромная масса ждала ее только для того, чтобы «потешиться»: попить, погулять, с девками поиграть… И все труднее и труднее становилось помещику держаться в деревне…
Раз, уже в Придонье, у Пушкина сломалось колесо. С помощью Якима – он раздобрел чрезвычайно, мужицкой работой теперь брезговал и был поэтому поломкой недоволен – ямщик кое-как подвязал ось, и Пушкин пешком, вслед за поломанным экипажем, пошел зеленой степью на ближайший хутор, стоявший у самого большака…
Это было жалкое гнездо какого-то мелкопоместного, у которого было всего четыре души. Бедность была такая, что господ нельзя было отличить от их крестьян. Они ели все за одним столом, во всем доме было всего два тулупа, одна пара сапог, которые и служили то барину, то мужику, чтобы ехать на базар, на мельницу или в город… И надо было видеть, с каким презрением, вполоборота, изъяснялся с помещиком Яким, как медлительно он нюхал перед ним табак, как цедил он сквозь зубы!..
Убогий, беспорядочный хуторок был охвачен возбуждением: воинская команда, пришедшая из города, оцепила ближайшие балки, где в непролазном, низкорослом дубняке скрылось несколько молодцов, шаливших по дороге… И было неясно, на чьей стороне находятся симпатии хуторян, не только рабов, но и хозяев: на стороне ли власть предержащих или на стороне степных волчков? Степная драма эта захватывала всех настолько, что Пушкин никак не мог добиться от хозяев толка о ближайшей кузнице, о возможности доставить туда сломанный экипаж и пр. Даже шедшие мимо большаком обветренные богомолки с холщовыми сумочками и подожками, и те остановились и судили, и рядили, и ужасались.
– Куда вы это, тетушки, собрались? – бросив хозяев, спросил их Пушкин.
– К Сергию преподобному, сударь, – с заметным хохлацким акцентом отозвалась худенькая старушка. – К Сергию преподобному, родимый…
– И не боитесь вы в такую даль идти?! – воскликнул он. – Что же, по обету, что ли?
– Какия по обету, а вон дочка моя, так та зубами который год мается…
– Так разве Сергей преподобный и по зубной части помогает? – не удержавшись, оскалился Пушкин.
– А как же можно? – уже с недоверием глядя на веселого барина, проговорила богомолка. – Первое дело… Умные люди сказывали, что посередь лавры стоит там в церкови гробик преподобного – вот и надо больными зубами щепочку от него эдак поумнее отгрызть, а потом, как будут болеть зубы, щепочкой этой в зубах и поковырять… Как рукой, сказывают, боль-то снимет… Он, батюшка, Сергий преподобный, во всех скорбях скоропослушен, – вот и идет к нему народик-то со всех сто…
В балке раскатился выстрел, а за ним еще два. Все взволновалось еще больше. Из балки вышли два замухрышки-егеря с ружьями. Они вели оборванного и загорелого парня с красивым, в крови, лицом и уже связанными назад руками… Бабы подперли рукой подбородок и на лицах их отразилась глубокая жалость…
– Ишь, какой молоденький!.. Всего окровянили… Знамо: от хорошей жизни в балке хорониться не будешь… О-хо-хо-хо…
Парень тяжело дышал, и глаза его горели сумрачным огнем… На большаке остановился великолепный дормез, катившийся с юга на север, и какой-то молодой, изящный денди, привлеченный стечением народа и видом солдат, передвигавшихся по краю балок, вышел из экипажа и с легким иностранным акцентом спросил у Якима, в чем тут дело, а затем навел на разбойника золотой лорнет.
– Аль ослеп, барин? – дерзко усмехнулся степной волчонок. – А глядеть, не стар… Погляди, погляди… Ежели насмерть не запорют, может, еще когда увидаться придется. Вы без всякой работы и заботы живете, только нас грабите, а мы вот захотели с вас дань взять. Словно поцарствовали, будя!..
Денди с испугом смотрел на волчонка, а работники, богомолки и даже егеря-замухрышки разинули рот на неслыханные речи хлопца. И по замкнутым лицам их опять никак нельзя было понять, где их сердце. Денди, чтобы показать, что он нисколько не смущен, снова изящным жестом, оттопыривая мизинец в палевой перчатке, вскинул лорнет на волчонка.
– Хорошо, барин, что не в степи мы с тобой встретились, – усмехнулся пленник. – Там ты на меня не так смотрел бы…
И он презрительно сплюнул кровавую слюну в сторону.
А вокруг была бездонная степь, бездонное, кроткое небо и в солнечном потопе радостно звенели влюбленные жаворонки…
XII. Проблески государственности
Пушкин проехал почти всю Россию до ее южной окраины и – не заметил грандиозной, но тихой трагедии, которая неугасимо шла в этих бескрайних равнинах еще со времен Разина… Он въехал в области, которые только совсем недавно стали Россией. В зеленой степи Закубанья, за гранью которой уже голубели горы, он наткнулся на калмыцкое кочевье. Он с любопытством заглянул в крайнюю от дороги кибитку. Там сидела около огонька с трубкой в зубах молоденькая, недурная собой, но невероятно грязная калмычка. Он с улыбкой вошел в кибитку и подсел к степной красавице.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Мансуха, – отвечала она.
– А сколько тебе лет?
– Десять и восемь…
– Что это ты шьешь?
– Портка.
– Кому?
– Себя…
– Поцелуй меня, – забыв о небесном создании, Натали, сказал он.
– Не можна. Стыдна…
Но, чтобы гость не обиделся, она подала ему свою трубку покурить, а сама взялась за котелок, в котором варился чай с бараньим жиром. Она вежливо предложила своего варева и гостю, и тот вынужден был, затаив дыхание, проглотить ложку этого ужаса… Потом он по своему обыкновению полез было к Мансухе, но она покраснела и, схватив балалайку, которая валялась неподалеку, звонко щелкнула его по кудрявой голове…
Он засмеялся, вышел из кибитки и покатил дальше. С улыбкой он стал обдумывать, как внесет он этот смешной эпизод в свои путевые записки. Ему казалось, что всего лучше оставить все, как было в действительности. Но вспомнил, что ему уже тридцать лет, что он, может быть, скоро женится, что пора уже ему остепениться и показать себя человеком серьезным. И он решил дать о своей поездке отчет в стиле строго государственном и потому, ничего не говоря о балалайке, сказал, что калмычка полезла к нему с нежностями и что он, человек серьезный, должен был спешно ретироваться от «степной Цирцеи»…