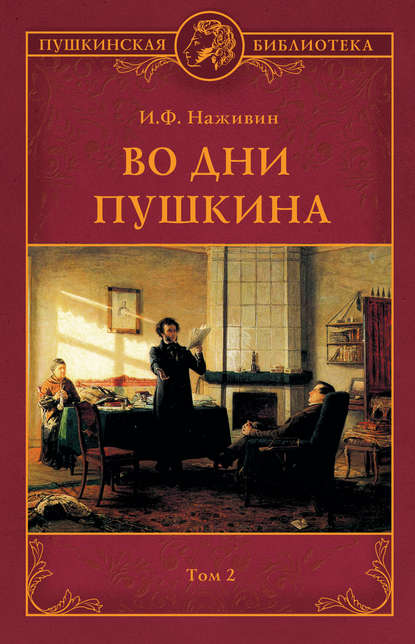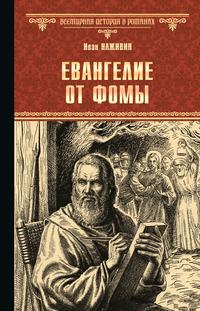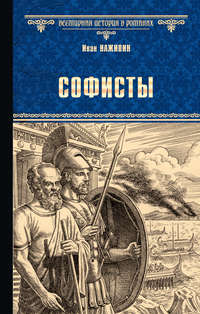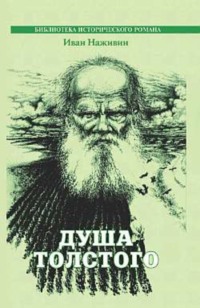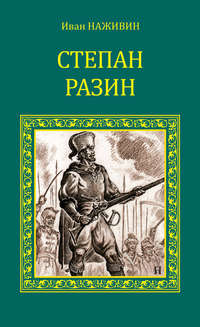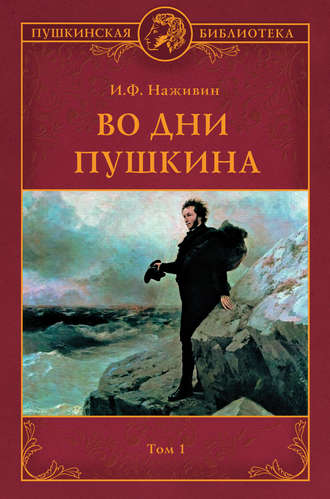
Полная версия
Во дни Пушкина. Том 1
– «Читай не так, как пономарь, – процитировал, улыбаясь, Пущин из комедии, которую он знал уже чуть не наизусть, – а с чувством, с толком, с расстановкой…» Ну?
Но не успел Пушкин прочесть и первой страницы, – а читал он, когда был в ударе, мастерски, – как за окном послышался визг снега под полозьями. Пушкин, с рукописью в руках, подошел к окну, заглянул к крыльцу, и Пущин заметил, что он смутился и как будто даже растерялся. Он бросил комедию на круглый стол, быстро спрятал письма от друзей в карман и нервно раскрыл лежавшие тут же старые Четьи-Минеи с цветными закладками.
– Кто там? – подняла от чулка глаза няня.
Пушкин нетерпеливо махнул рукой. В передней слышались возня и голоса.
– Да в чем дело, любезный? – удивленный, спросил Пущин.
Но не успел поэт ответить, как дверь в гостиную отворилась и на пороге, кланяясь, улыбаясь и отдирая сосульки с усов, появился небольшого роста монах с красным волосатым – это было очень смешно – носом. Арина Родионовна степенно поклонилась и тотчас же вышла: не любила она этого гостя, хотя и считала это большим грехом. А монах между тем, усердно помолившись на темневшую в углу икону, снова начал с улыбкой раскланиваться.
– Отец Иона, настоятель Святогорского монастыря… – представил Пушкин гостя другу. – Мой приятель, Иван Иванович Пущин…
Сперва Пущин, а потом и Пушкин, оба атеисты, подошли под благословение, а потом Пушкин, с холодком в голосе, попросил игумена садиться.
– Извините… Может, помешал… – говорил монах, все кланяясь. – Мне сказали, что в Зуево приехал господин Пущин. Я и подумал, что это П.С. Пущин, великолуцкий уроженец, который в Кишиневе бригадой командует. Он старый дружок мне. А выходит не то… Простите великодушно… Мы соседями с Александром Сергеичем будем…
Отношения у Пушкина с о. Ионой были довольно нелепы: с одной стороны, Иона был не глупый мужик, с которым за бутылкой можно было не без приятности поболтать часок, а, с другой стороны, это был один из соглядатаев, которому было приказано присматривать за ним. Чувствовал неловкость положения и о. Иона, который был расположен к «вострому», как он говорил, михайловскому барину, и очень любил его «стишки» на высоких лиц. Пущин не понимал, в чем тут дело. Но Арина Родионовна уже хлопотала насчет чаю и, как всегда, ссорилась с Розой Григорьевной, которую в доме не любил никто. И сейчас же в гостиную был подан самовар, варенье, сухарики, печения всякие и, конечно, ром: вкусы о. Ионы нянюшка знала отлично.
– Да-с, морозец, можно сказать, самый крещенский… – благодушным говорком, поглаживая свою сивую бороду, лениво говорил монах, ощупывая глазами и старые Четьи-Минеи, и рукопись, и немного нахмурившееся лицо молодого хозяина, и с аппетитом прихлебывая с блюдечка густо разбавленный ромом чай. – А к ночи, того и гляди, опять завирюха разыграется: поземка опять потянула…
– Да, пожалуй… – согласился Пущин, поглядывая на своего приятеля, который выглядел скорее как провинившийся школьник.
– Что же, долго в наших краях погостить изволите? – зачерпнув вишневого варенья, спросил о. Иона. – Ах, хорошо у тебя варенье, мать Арина! Мастерица ты на эти дела… Я уж еще стаканчик согрешу, ежели позволите…
От рома глазки о. игумена сразу замаслились. Пушкин, зная его привычки, снова накатил ему чуть не полстакана рома. О. Иона сразу размяк, и ему стало еще более нудно. Он то и дело вынимал красный, в нюхательном табаке, платок и обтирал им взмокший лоб и сразу засиявший волосатый нос.
– А это что же, новое сочиненьице какое-нибудь ваше, Александр Сергеевич?.. – спросил он, указывая глазами на рукопись.
– Нет. Это комедия Грибоедова «Горе от ума»… – отвечал тот неохотно.
– А-а!.. Слышал, слышал… – вдруг оживился монах. – Тут у нашего отца благочинного сын студент на Рождество домой приезжал, так сказывал… Весьма любопытно, весьма-с…
– Да ведь для вас вот Четьи-Минеи есть… – не мог удержаться Пушкин. – А это вещь скоромная…
– Так тем более-с любопытно. И можно сказать, по должности необходимо познакомиться с тем, что наши сочинители теперь пишут… – сказал хитрый монах, и глаза его засмеялись. – Дабы в случае чего предостеречь овец своих духовных… Как же можно…
– В таком случае, если желаете, мы будем продолжать чтение… – еще больше повеселел Пушкин, которому нравился лукавый поп. – Хотите?
– Да сделайте милость!.. Премного обяжете… Мать Арина, удовлетвори меня, касатка, еще стакашком, а я, ежели говеть у нас будешь, велю попу помягче с тебя спрашивать…
– Ну, уж вы скажете тоже, батюшка!.. – помягчела и няня. – Давайте стакан-то, сполосну…
И Пушкин снова взялся за рукопись. Комедия все более и более захватывала его, и он, оживленно жестикулируя, читал сцену за сценой.
– «…Когда постранствуешь, воротишься назад, и дым отечества нам сладок и приятен…» – прочитал он и вдруг раскатился. – Вот именно!.. А, Пущин?..
Пущин отвечал улыбкой. Но он украдкой все принюхивался: в комнате определенно пахло угаром, которого он не выносил.
– Ха-ха-ха… – раскатывался хозяин. – «Как станешь представлять к крестишку иль к местечку, ну как не порадеть родному человечку?!»
О. Иона, с блаженным выражением на волосатом лице, боялся пропустить единое слово. Арина Родионовна вязала свой чулок, и на лице ее было теперь обычное благодушие. Она не совсем понимала, для чего это нужно писать и читать эти побаски, но раз Сашенька был доволен и весел, значит, все обстоит и слава Богу… Арина Родионовна была истинной дочерью земли и точно вся была пропитана ее простой мудростью, которая не знает лукавства и принимает не только покорно, но и с удовольствием, жизнь человеческую со всеми ее несовершенствами. Может быть, потому-то так и тепло всегда было около нее ее буйному питомцу.
– «…А о правительстве иной раз так толкуют, что если б кто подслушал их – беда!..» – весело читал Пушкин и покосился на о. Иону: тот плавал в блаженстве. – Ай да Грибоедов!.. – воскликнул он и жадно выпил несколько глотков чаю. – Ай да тезка!..
– И даст же Господь такое дарование!.. – покрутил о. Иона черным клобуком. – Конечно, душеспасительного тут мало, но востро, весьма востро!.. Ну-ка, нянюшка, еще черепушечку за здоровье господина сочинителя Грибоедова…
Пущин украдкой все болезненно морщился: угаром пахло все сильнее. «Вот он, дым отечества!.. – с тоской подумал он. – Печи истопить не умеют…» Но он не мог не улыбнуться на своего друга, который с такой неподражаемой ужимкой прочел: «…а форменные есть отлички: в мундирах выпушки, погончики, петлички…»
– Нет, мой «Онегин» решительно ни к черту не годится! – крикнул вдруг Пушкин, щелкнув рукописью по столу. – Вот как писать надо: ни единого слова лишнего!
И снова – в окна глядела уже черная ночь – голос его зазвенел меткими, не в бровь, а в глаз, стихами:
Я князь Григорию и вамФельдфебеля в Вольтеры дам:Он в три шеренги вас построит,А пикнете, так мигом успокоит…И он опять раскатился… О. Иона блаженствовал. Но у Пущина в виске забилась жилка, предвестник головной боли. Нет, этот угар решительно невозможен!.. Но Пушкин, всеми силами сдерживая смех радости, уже кончал:
Ах, Боже мой, что станет говоритьКнягиня Марья Алексевна?!– Нет, решительно: к черту «Онегина»!.. – еще раз крикнул он. – Извините, о. Иона, насчет черта… Но зарезал меня разбойник Грибоедов!.. И как тебя благодарить за такой гостинец, любезный Пущин, право, не знаю! Давно не имел я такого удовольствия… О. Иона, как? Очень скоромно?!
– Полноте, Александр Сергеич: монахам, и тем читать можно… – вытирая довольное лицо красным платком, проговорил о. Иона. – Такие ли бывают!..
– Слышишь, Пущин? – захохотал Пушкин.
– Слышу…
О. Иона решительно встал.
– Ну, мне пора и к дому… – сказал он. – Премного благодарим, хозяин дорогой, на угощение: и на духовном, и на телесном… Прощайте, Иван Иванович. Премного уважили… Вот таких гостей почаще бы в наши края. А то живем, как в берлоге… Прощай, нянюшка… Спасибо на угощении… А ты, Александр Сергеич, поди-ка на два слова ко мне, между протчим… – поманил он за собой хозяина в переднюю. – На минутку…
Пушкин последовал за разопревшим от чаю и удовольствия монахом. Тот, увидав Якима, стоящего с его шубой, отослал его и, нагнувшись к Пушкину, низким голосом проговорил:
– Ты вот что, Сергеич… Я знаю ведь, что я для тебя гость не всегда приятный, да что поделаешь?.. Должен творить волю пославшего мя, как говорится… Ну, только я то хотел сказать тебе, чтобы ты меня никак не опасался… От меня вреды тебе никакой не будет… Понял? Ну, вот тебе и весь сказ… А ты, между протчим, все же будь поаккуратнее: их сила, их и воля… Прощай, родимый… Спасибо… Яким, где ты там, жива душа?..
Яким помог ему напялить овчинный тулуп, подал теплые рукавицы и выбежал кликнуть ямщика.
– Ну, еще раз прощай, Александр Сергеич… Давай-ка, брат, поцелуемся по-милому, по-хорошему… К нам в гости жалуйте… А ежели, неровно, стишки какие похлестче опять будут, захвати, мотри…
– Непременно… – смеялся Пушкин. – Обязательно…
И поп расцеловался с поэтом, вышел, и сейчас же в ночи завизжали полозья. Пушкин, задумчивый, вернулся назад. «Хорошо, что этот поп с душой. Но ведь на его месте мог оказаться и сукин сын какой-нибудь…» – подумал он. И ему стало опять тоскливо.
– Какая досада, что я накликал на тебя это посещение!.. – сказал Пущин, уже понявший все.
– Перестань, любезный друг… – махнул тот рукой. – Все равно за мной смотрят. Этот, как видишь, еще ничего… Не будем говорить больше об этом вздоре…
– Ну, хорошо… Только вот что, брат… – вдруг решительно встал Пущин. – Есть у тебя нос или нет?..
– Во всяком случае, был… – засмеялся Пушкин и, потрогав нос, прибавил: – И был, и есть… В чем дело?
– Да угар-то в комнате ты чувствуешь или нет?
– А в самом деле, припахивает… Мама, что это, самовар, что ли?.. Это называется угостить гостя носом об стол…
Началась суета. Оказалось, что Арина Родионовна, думая, что Пущин останется ночевать, приказала вытопить весь дом, который не отапливался с прошлого года. Пущин, досадуя на своего бесхозяйственного друга, сам стал во главе дворни, приказал везде вынуть вьюшки и отворить форточки.
– Нет, это решительно невозможно!.. – говорил он. – Арина Родионовна, надо непременно отапливать весь дом… Вон в зале у вас стоит недурной биллиард, а войти нельзя: холод, хоть волков морозь… Пусть будет везде тепло, пусть ему будет поудобнее… Куда же он денется?.. Как в клетке… За этим младенцем надо смотреть…
– Слушаю, батюшка, слушаю… – говорила Арина Родионовна. – Все исделаем, как велишь. Только вот куды ты, на ночь глядя, поедешь?.. А мы тебе и комнату прибрали было, и постель постелили… Ночуй у нас, а утречком кофейку напьешься, и с Богом…
Но Пущин торопился. Было уже около полуночи. На дорожку собрали закусить. И хлопнула в потолок третья пробка: на прощанье. Но прощанье затянулось: они не могли оторваться один от другого. Весь дом уже спал, а они все говорили и говорили, то голосами потушенными, то, вдруг загораясь, начинали кричать, делать жесты, ходить по столовой…
IV. Ночь
– Я знаю только одно: долго такой жизни я не вынесу… – ероша свои кудрявые волосы, говорил Пушкин. – Я еще в Одессе все примеривался дать стрекача за границу, и Лиза Воронцова помогала, но ничего не вышло. И здесь я жду только удобного случая… Хочу сыграть на моем аневризме…
– На аневризме?.. – в удивлении поднял брови Пущин. – Давно ли ты его приобрел?
– Никакого аневризма нет… – засмеялся Пушкин. – Я придумал его, чтобы перед Иван Иванычем был предлог проситься за границу: как же можно помирать во цвете лет?..
– Ну, их, брат, тоже не надуешь!.. – сказал Пущин. – И государь, говорят, на тебя крепко сердит: вед все эти твои насмешки до него доходят… Я и то все дивлюсь его долготерпению. На его месте Павел давно бы тебя слопал. Помнишь историю капитан-лейтенанта Акимова?
– Не помню… В чем дело?
– Он тоже сочинил-было эпиграмму на Павла и налепил ее собственноручно на стене Исаакия, а его на месте преступления и сгребли… Постой, как это у него там было? Да:
Се памятник двух царств,Обоим столь приличный, –Основа его мраморна,А верх его кирпичный…Вот… Ведь Исаакия-то начали при Екатерине строить из мрамора, а закончили при Павле уже из кирпича. А господину сочинителю за его вирши Павел отрезал язык и уши и сослал под чужим именем в Сибирь… А ты дерзишь куда больше… «Владыка слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда…» Это, брат, определенно Сибирью пахнет… А, может быть, и не по адресу даже: он, говорят, очень переменился. Задумчив, молится, ищет уединения… И приставать не следовало бы…
– Да, мы с Иван Иванычем все что-то ссоримся… – оскалился Пушкин. – А подумай: было ведь время, когда он мне за мою «Деревню» свое монаршее благоволение выражал, плешивый черт!..
– Бросил бы ты лучше, брат, попусту своей головой играть… – проговорил Пущин и вдруг, встав, начал ходить по комнате. – Хотя и то сказать: терпения никакого не стало…
– Ага!..
– Ты тут, в Михайловском-то сидя, и понятия не имеешь, что там делается… – продолжал Пущин, взволнованно сипя большой трубкой. – В моем черном чемодане я везу сейчас в Москву своим всякие материалы для доклада: по министерству просвещения, по цензуре, по военным поселениям, по духовному ведомству – ты представить себе не можешь, что это за сумасшедший дом! Если бы было время у меня, я прочел бы тебе все это, но надо ехать…
– Зря ты так торопишься, Jeannot!.. – сказал Пушкин. – Хотя, черт знает, может быть, и осторожнее так: у этих дураков хватить глупости, чтобы выдать тебя отсюда с фельдъегерем… Ну однако, что же ты в Питере разнюхал, что везешь москвичам?..
– Всего и не перескажешь… – махнул Пущин рукой. – Вот тебе несколько фактов из области наиболее тебе близкой, из цензурной… Ты помнишь у Вольтера небольшую книжечку «Le Sotissier»?[5] Так в нашей цензуре он нашел бы теперь материала еще на десяток таких книжечек. Недавно Красовский запретил книгу о вреде грибов потому, что грибы составляют постную пищу для православных и потому не могут быть вредны. Но еще лучше была история с каким-то французским стихотворением, которое перевели для «Сына Отечества». Красовский прочитал и говорит, что он может разрешить напечатать его, но только никак не раньше № 18 или 19 журнала. Что такое? Почему? Очень просто: в стихотворении говорится о каком-то трубадуре, который уносит из замка «вздох хозяйки молодой» и тому подобное, а теперь Великий пост. И на полях стихотворения, каналья, написал: «Теперь сыны и дщери церкви молят Бога с земными поклонами, чтобы Он дал им дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви – совсем другой любви, нежели какова победившая француза-трубадура. Надеюсь, что почтенный сочинитель прекрасных стихов не осудит цензора за совет, который дается от простоты и чистого усердия к нему…» В другом стихотворении любовник уверяет свою красавицу, что один ее нежный взгляд дороже внимания всей вселенной. – Красовский вычеркивает: «Во вселенной есть цари и законные власти, вниманием коих дорожить должно…»
Пушкин хохотал как помешанный, прыгал, по своему обыкновению, бил себя по ляжкам…
– Погоди, брат… Посмотрим, как ты захохочешь, когда тебя так мордовать начнут!..
– А как будто не мордуют!.. – крикнул Пушкин. – У меня в «Онегине» есть одно место так:
На красных лапках гусь тяжелый,Задумав плыть по лону вод,Ступает бережно на лед…И вот кто-то из цензорской братии отчеркивает это место и собственноручно помечает: «На красных лапках далеко не уплывешь…» Справедливо, конечно, но его ли это дело нас поправлять?.. А сколько стихов я и в печать совсем не посылаю! Да что тут долго разговаривать: «Горе от ума» ты привез мне в рукописном виде – этим сказано все…
– Нет, не все!.. – горячо воскликнул Пущин. – Ты подумай только: цензура приостановила даже катехизис Филарета, на заглавном листе которого означено было, что он святейшим синодом одобрен и напечатан по высочайшему соизволению! И надо было видеть действие этого запрещения: в два-три дня в Москве все экземпляры книги были раскуплены по тройной цене!.. Погоди, я все-таки принесу свой чемоданчик и познакомлю тебя кое с чем…
Он быстро принес свой чемодан, порылся в сложенных в нем бумагах и, вытащив одну из тетрадей в синей обложке, сел ближе к лампе, и стал рыться в рукописи.
– Невозможность напечатать комедию Грибоедова, конечно, дикое насилие, издевательство и все, что хочешь… Это так… – продолжал он. – Но ты посмотри, что делается в министерстве просвещения! Достаточно сказать, что во главе департамента духовных дел поставили нашего приятеля, Александра Тургенева, бабника и бонвивана. Правда, он человек образованный, но, убей меня Бог на месте, если он не смеется в душе над всякой религией!.. В молодости он либеральничал и все уверяет всех, что наша российская жизнь есть смерть, что какая-то усыпательная мгла царствует в воздухе и что мы дышим ею, но теперь он бонвиванит вовсю и потолстел невероятно… И вот при министерстве устроили ученый комитет для рассмотрения книг, предназначаемых для школ, который должен водворить в России постоянное и спасительное согласие между верой, ведением и властью – ну, коротко говоря, поддерживать самовластие при помощи религии и подчиненного ей просвещения. Учение о первобытном состоянии человека может излагаться в книгах только в виде гипотезы, неосновательность которой надлежит сделать очевидной. Ложные учения о происхождении верховной власти не от Бога, а от договора между людьми – бедный Руссо!.. – подлежат тоже отвержению… В естественных науках устраняются все суетные догадки о происхождении и переворотах земного шара, а в физических и химических учебниках должны содержаться только полезные сведения, без всякой примеси надменных умствований, порождаемых во вред истинам, не подлежащим опыту и раздроблению… Ловко? И проделать все это над нами должны были капитан русской службы граф Лаваль, камер-юнкер Стурдза, полугрек, полумолдаванин… – впрочем, ты этого знаешь хорошо… – и академик Фус, по-видимому, совсем не знающий русского языка! А теперь всеми делами заправляет наш Магницкий.
– Говорят, что умница, великий острослов, не верящий ни в Бога, ни в черта… – сказал Пушкин.
– Умница чрезвычайный!.. – подтвердил Пущин. – Но и циник невероятный. А язык востер до того, что когда он был еще членом русского посольства в Париже, его должны были, по требованию Наполеона, отозвать: до того досаждали его эпиграммы императору!.. И при этом обаятельно красив, каналья… И мне все кажется, что он просто поставил себе задачу довести глупость до ее последних пределов: а ну, выдержат или нет? И представь себе: выдерживают!.. Вот как он рисовал правительству общее положение: «Европа успокоилась под эгидой Священного Союза, но вдруг взволновались университеты, явились исступленные безумцы, требующие смерти, трупов, ада… Что значит сие неслыханное в истории явление? Чего хотят народы посреди всеобщего спокойствия, под властью кротких государей, среди всех благ законной свободы?..» А вот чего они хотят: «Прочь алтари, прочь государей, смерть и ад надобны…» Оказывается, что это «Сам князь тьмы подступил к нам: редеет завеса, его скрывающая, и, вероятно, скоро уже расторгнется. Слово человеческое есть проводник сей адской силы. Книгопечатание – орудие его. Профессора безбожных университетов подают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям несчастному юношеству, а тиснение разливает его по всей Европе…» И вот когда царь назначил его, наконец, попечителем Казанского учебного округа, – этого он только пока и добивался, – вот тут-то и начал он ставить на глупость с такой смелостью, что, воистину, иногда дух захватывает. И представь себе, этот дьявол легко нашел исполнителей для всей этой своей чепухи!.. – воскликнул Пущин. – И, как всегда, они постарались еще превзойти эти задания… Университет превращен в монастырь. Проштрафившиеся студенты называются грешниками и отбывают наказание в «комнате уединения», где повысили для них картину распятий и Страшного суда… И профессор Фукс утверждает, что цель анатомии в том, чтобы находить в строении тела премудрость Творца, создавшего человека по Своему образу и подобию. Профессор математики Никольский равенство треугольников доказывает так: «Этот треугольник с Божией помощью равняется вот этому…» Он утверждает, что как нет числа без единицы, так нет и вселенной без Единого… Словом, все науки сделаны, как во времена господства средневековой схоластики, служанками теологии – ancillae theologiae – и на всех кафедрах прикреплены дощечки с текстом из послания Павла к колоссянам о ничтожестве злоименного разума перед верою… И Магницкий похваляется, что он избавил университет от хищнического владычества философии, что теперь у него философия научает мудрствовать небесная и отучает мудрствовать земная, и что смиренномудрие, терпение и любовь сопровождают все поступки его студентов. А ты вот смеешься!.. А ты подумай, каких граждан приготовят нам все эти Тартюфы… Вокруг крепостное право, военные поселения, нищета народа, а этот наглец открыто проповедует, что «цель гражданства есть жертвовать счастьем всех – одному»… – Он махнул рукой…
Пробило три… За окном, в морозном мраке, давно уже позванивали бубенцы прозябшей тройки. Ямщик то устало задремывал на козлах, то, прозябнув, ходил, усиленно размахивая руками и притоптывая, вокруг саней и все посматривал на красневшие во мраке окна гостиной.
– Так-то вот, милый мой… – вздохнул Пущин. – Ну, как ни усладительны мне эти часы, проведенные с тобою, и эта наша маленькая дебоша, но время ехать… Давай выпьем по последнему бокалу, и в путь… Ну, будь здоров, француз!.. И смотри: не безумствуй…
Они крепко обнялись, и Пущин надел, с помощью друга, выбежавшей заспанной няни и Якима, свою медвежью шубу и, не говоря от волнения ни слова, торопливо вышел на темное крыльцо. Алексей, сонный, хлопотал уже около возка. И Пушкин, со свечой в руке, вышел. Свеча мигала и оплывала, и рука казалась прозрачной и красной. Пушкин кричал что-то с крыльца, но Пущин от волнения ничего не слышал. Еще мгновение, он исчез в возке, Алексей вскочил в сани с другой стороны, зазвенел колокольчик, заговорили бубенцы, и прозябшие лошади сразу подхватили под горку.
– Прощай, друг Jeannot!.. – крикнул Пушкин.
V. «Вождь народов»
Не спал в эту железную ночь и Александр I – он часто не спал в последнее время. Жизнь царского дворца разбилась о ту пору на два лагеря. В одном, центром которого была старая Марья Федоровна, вдова убитого Павла, веселились день и ночь: есть люди, с которых все скатывается, как с гуся вода. Именно к этой беззаботной породе и принадлежала Марья Федоровна, старуха с птичьей головой, выхолощенным сердцем и, несмотря на то, что всю жизнь свою она провела в России, с отвратительным русским языком. В другом, рядом, изнемогал душой на незримой Голгофе сын ее, могущественный император гигантской страны, находившийся в апогее славы и величаемый «вождем народов». И страдала в холодном одиночестве давно брошенная им жена, императрица Елизавета Алексеевна, женщина с наружностью Психеи и с углубленной, мужской душой, о которой князь П.А. Вяземский говаривал, что она во всей семье Романовых единственный мужчина…
«Вождь народов» не спал. Блестящая поэма его жизни заканчивалась такой страшной пустотой, такими развалинами, такой безмерной тоской, что он готовь был кричать о спасении на все стороны. И в тайне черных ночей этих он и кричал, но – ответа не было. Александр, повесив уже облысевшую и поседевшую голову, – ему не было и пятидесяти, – ходил по своему огромному кабинету и думал, и искал понять, как случилось то, что случилось. И кроткими очами следила за ним со стены Сикстинская мадонна…
Он родился в те наружно блестящие годы, когда лживая, бесстыдно-развратная и ограниченная Екатерина уже подвела Россию вплотную к кровавым пучинам Пугачевщины. Молоденький Пушкин не терпел этого «Тартюфа в юбке и в короне» и утверждал, что она развратила весь народ. Знаменитый созыв депутатов он считал «непристойною фарсой», а наказ – лицемерием. Начав царствование на крови мужа, она никогда не задумывалась залить кровью недовольство истомленного народа. Она хотела, чтобы ее двор сравнился в блеске «со славною Версалиею» и потому расхищала народное достояние без всякого удержа: Екатерина считала «неприличной грошовую экономию». Поэтому, когда граф Орлов отправлялся в Фокшаны, она подарила ему кафтан в миллион рублей… Осенью 1791 года, когда во Франции гремела уже революция, а русские князья с воодушевлением напевали революционные песни и носили в карманах трехцветные кокарды, в Петербурге разнесся слух, что придворный банкир Сэттерланд запутался. Назначено было следствие. Не ожидая его окончания, Сэттерланд застрелился. Следствие обнаружило, что он раздавал казенные деньги высокопоставленным лицам – взаймы без отдачи. Среди этих расхитителей казны оказались князь Потемкин, князь Вяземский, граф Безбородко, граф Остерман и много других, а во главе всех – великий князь Павел Петрович. Этот грабеж до такой степени стал бытовым явлением, что, когда бригадир, граф П.А. Толстой, заведовавший выборгским комиссариатом, во время пожара с опасностью жизни спас крупные комиссариатские суммы и на другой же день представил их главнокомандующему, бывшему с ним на дружеской ноге, тот с удивлением посмотрел на героя.