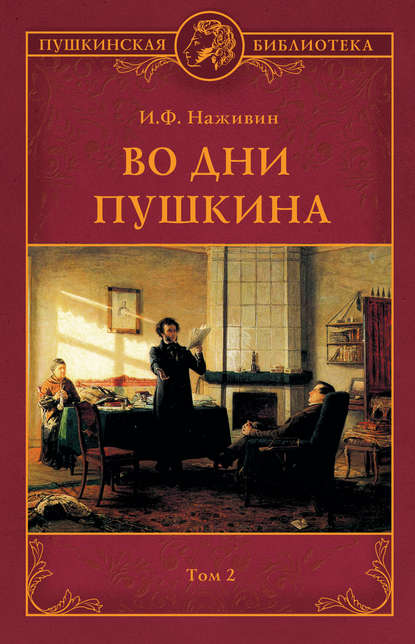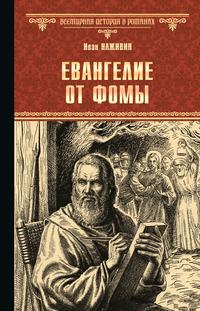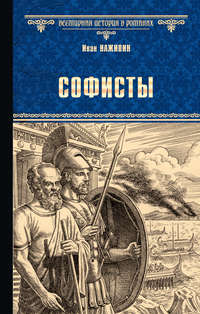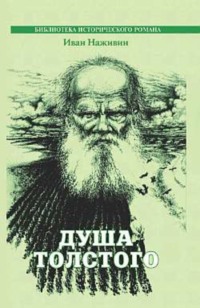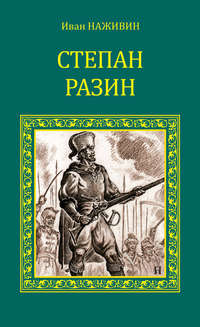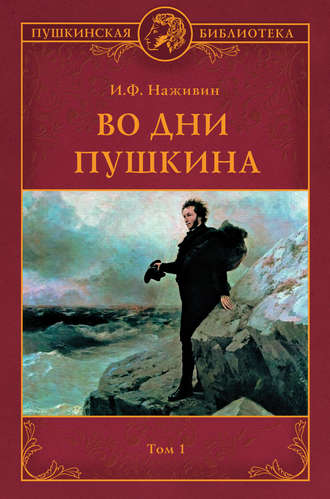
Полная версия
Во дни Пушкина. Том 1

Иван Наживин
Во дни Пушкина. Том 1
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru
От издательства. Все это может показаться
Смешным и устарелым нам,Но, право, может только хамНад русской жизнью издеваться…Александр Блок«Пушкинская библиотека» – так будет именоваться программа, к выполнению которой приступило наше издательство. Надо ли говорить, любезный читатель, что фундаментальная серия книг, первая из коих – в ваших руках, посвящена русскому национальному гению и приурочена к 180-летию трагической гибели поэта. Столь же, по-видимому, ясно, что Пушкин – главный герой и этого, и всех последующих томов, а томов этих, уверяем, будет немало. Наконец, стоит ли втолковывать просвещенному, поднаторевшему в изучении Пушкинианы любителю словесности, что наша идея – собрать воедино все лучшее из русской прозы и мемуаристики XIX и XX веков, повествующее о Пушкине, собрать, систематизировать и издать в рамках единой долговременной серии – по существу, не имеет аналогов и потому, да простится нам наша нескромность, есть идея новаторская.
Итак, первая книга серии, первый увлекательнейший роман, ждет вас через несколько страниц. Наверное, ни к чему слишком оттягивать миг приятного и полезного знакомства с ним, однако на одну, на наш взгляд, важнейшую, особенность «Пушкинской библиотеки» все же стоит обратить внимание.
Наш программный замысел многогранен. Идущие к вам книги, разумеется, о Пушкине, о «солнце нашей поэзии». Но они же, эти книги, и о России, о том, что мы имели, да не сберегли, бездумно отвергли, потеряли или растратили, а теперь, прозревая, ищем, мучаемся, только обрести вновь никак не можем. Эти книги – о былой русской жизни. Хотелось бы, чтобы наши читатели и восприняли их именно так, широко и глубоко, и, путешествуя от главы к главе, из тома в том, задумались, в числе прочего, и о смысле того ушедшего времени.
Да, трудно ныне жить на этом свете, господа, ох как трудно… И сколь утешительно, как спасительно для души порою отвлечься от повседневной рутины и вспомнить: а ведь все-таки была некогда такая эпоха в истории России, эпоха славная, величественная и, быть может, единственная. И оживают невзначай в дремлющей памяти подробности…
В те времена, теперь уже баснословные, русские разбили в честных и упорных битвах басурманов, торжественно и гордо вошли в их столицу и – великодушно простили недавних неприятелей. И никому не пришло в голову извратить общероссийский подвиг, принизить значение победы, спасшей Европу от порабощения корсиканцем.
Тогда люди – лучшие люди, подлинная соль земли – служили не токмо ради жалованья, и служба их на любом поприще была стремлением к воплощению в жизнь высоких, завещанных предками, идеалов. Эти люди, эти труженики «числились по России», берегли и умножали ее святые ценности – и не имели понятия о ценностях «общечеловеческих», что никоим образом не принижало тружеников.
И художники тогда не пытались переделать, перекроить жизнь, вдолбить современникам «низкие истины», обучить их тачать сапоги – нет, художники смотрели выше и дальше, много дальше и гораздо выше, и видели многое из того, на что умудрились закрыть очи их просвещенные донельзя потомки.
А иные в ту удивительную эпоху просто жили – но как они жили… И пили частенько и помногу, но – красиво, весело, не опускаясь, не забывая про службу-служение, не пропивая ум и честь, не отдаваясь в плен безжалостной горячке. И ели – будто священнодействовали, да не обжирались до икоты, до непотребства, но легко вскакивали в седло прямо из-за пиршественного стола. И любили жен и прелестниц так, как не в силах было любить слащавым книжным героям, аркадским пастушкам всех времен и народов. И измену, сводную сестру любви, превращали в высокое искусство, коему не должно быть порицания. И повесничали так, что суровые полицеймейстеры, задохнувшись от бессильной ярости, приказывали долго жить.
А вслед за бедными чинами полиции и сами повесы складывали свои буйные русские головы – кто при Аустерлице, кто на Бородинском поле, иные же в горах всегда неспокойного Кавказа… И служились над ними полковые панихиды, и вырастали кресты, и забывали благодарные соотечественники о вольнодумствах и богохульствах почивших героев-грешников. Так шли и прошли годы. Заросли травою Багратионовы флеши, Наташа вышла замуж за Пьера и нарожала детей, и раздался оглушительный – на всю Россию – выстрел на Черной речке. И – кончилась вмиг эта эпоха. Потом ее кто-то назвал пушкинской, и название осталось, освятилось традицией, и живо оно, к счастью, и по сей день. Многое и многажды в державе переименовывалось, перестраивалось, но это – звучит, как и встарь, стоит незыблемо, и так уж, видно, будет до века. О той поре написано много, и написано с любовью и тщанием, талантливо и подробно. Но вот проблема: никто еще, кажется, не попытался определить основное содержание пушкинской эпохи в краткой формуле, афористично, одной емкой фразой или даже одним-единственным словом-символом, наподобие того заветного слова, что подыскала прозревшая Татьяна Ларина для Онегина. А ведь язык наш – тот, исконный, великорусский, еще не опошленный – настолько богат, что, мнится, вполне способен выполнить и такую сверхзадачу. Вот что в этой связи приходит на ум.
Кажется, общепризнано, что никто лучше поэта и поэзии не способен отобразить свое время, его внешний и внутренний строй, едва слышимые духовные и душевные шелесты эпохи. Но ведь та пора – пора безусловного владычества Пушкина, а тот нес в российскую жизнь, нес и словом, и делом, редкостную гармонию. Впрочем, есть прекрасное и близкое по смыслу русское, почти заброшенное, слово – лад. Вот его-то мы и склонны принять за искомый девиз жизнетворчества в описываемые десятилетия.
По-видимому, это была вторая эпоха более или менее устоявшегося лада в нашей многострадальной истории. Первая же пришлась на период существования Святой Руси. Но то был лад замкнутый, исключительно воцерковленный, спокойно-пренебрежительный к внешнему, временному, бытовому, в пределе своем как будто неотмирный. Пушкинский же лад базировался на иных принципах. Нет, он не был секулярным, но он был ладом светским, открытым в суетную жизнь, чутким, как эхо, примирившим в себе предания и веру предков и новые, весьма неоднозначные реалии имперского периода русской жизни.
Петр Великий, проводя свои грандиозные преобразования и разворачивая Русь лицом к Европе, произвел ломку доселе неслыханную и исключительно болезненную: с высоты трона он приказал быту доминировать над бытием. Так он прививал Запад к Востоку. И тогда Россия на реформы Петра ответила, по образному выражению Герцена, явлением Пушкина. Уточним: ответила пушкинским ладом.
Это было некое согласие, равновесие внешнего, бытового, по преимуществу рационального, с одной стороны, и внутреннего, сокровенного, душевно-духовного с другой. И недаром поэт провозгласил – казалось бы, шутливо, но на самом деле более чем серьезно:
Быть можно дельным человекомИ думать о красе ногтей…И не случайно кумиром юного Пушкина был мыслитель и франт – неподражаемый Петр Чаадаев.
Тогда еще был неведом России пресловутый «человек из подполья» и грядущая «двойная бухгалтерия». Не было в душах людских противоестественного раздвоения, расщепления на атомы, того надлома, который впоследствии стали считать чуть ли не добродетелью и который стал краеугольным камнем поэзии и философии Серебряного века. И дума соответствовала произнесенному слову, а слово – поступку. И люди были цельными, многогранными, но монолитными, и не требовалось их, как позднее, «сузить», а державу – «подморозить».
Какая несравненная галерея встает перед глазами неленивыми и любопытными… К примеру, ладен по-своему был лихой гусар Петр Каверин, равно преданный и службе, и шампанскому, и женщинам, и друзьям, и невинным скабрезностям, и высоким философическим грезам. Все уживалось в этой богатой натуре, все соседствовало, ничто не подавлялось и не извращалось.
Ладен и дерптский студент Алексей Вульф, известный «русский Дон-Жуан» и пушкинский приятель. Почитайте его откровенные дневники – и вы наверняка удивитесь, как может любовный быт органически соединяться с подлинным бытием.
Ладен и сам император Николай. Теперь, спустя полтора столетия, мы, глубокомысленные прокуроры, находим в его деяниях много якобы спорного, ошибочного, «реакционного». Но будем хоть сейчас справедливыми: ведь он был подлинным рыцарем на престоле, и ему, Николаю, суждено было стать последним российским императором, который и хотел, и мог править по законам собственной, ничем не запятнанной совести:
Он бодро, честно правит нами…Беда в том, что его преемникам выпадала уже иная участь: они принуждены были править исключительно по законам политики, большой и грязной, и посему – лицемерили, интриговали, против своей воли превращаясь в двуликих Янусов.
А разве не ладна столь легкомысленная Анна Петровна Керн, беззаветно любившая многих и так же искренно изменявшая им? Конечно, да, и нет в ней и намека на скорое появление Настасьи Филипповны. Ведь только самой гармонии можно вручить такие стихи:
Я помню чудное мгновенье:Передо мной явилась ты,Как мимолетное виденье,Как гений чистой красоты.«Гений чистой красоты» и одновременно, в те же сроки – «вавилонская блудница», и еще знаменитые эпистолярные строки, адресованные приятелю. И не было здесь для поэта противоречия, натяжки. Ибо «красота», начало духовное, еще не вступила тогда в непримиримый конфликт с банальным животным «блудом», еще не возник конфликт, породивший позднее омерзительные конгломераты.
Служителями и ревнителями лада становились тогда очень и очень многие. И через это служение многих более или менее ладна была и сама Империя. Разумеется, была здесь и оппозиция правительству, что вполне допустимо, а подчас и необходимо, но не было и в помине массовой оппозиции Отечеству, что непростительно ни при каких обстоятельствах. И клевета на Россию не могла найти сочувственного отклика в душах, да и само слово «патриотизм» не допускало ни презрительных усмешек, ни двусмысленных толкований.
Повторим еще раз: лучшим доказательством существования русского лада в ту эпоху стал Пушкин, его поэзия и его жизненная поступь. Все остальное – лишь дополнительные красочные иллюстрации к этому постулату.
Вышеописанное – отнюдь не утопия, не русофильская маниловщина, но правда. Увы, не вся правда. Должно, как это ни прискорбно, сказать и о другом.
Да, пушкинский лад и был, и торжествовал, однако недолго. Равновесие быта и бытия продолжалось в течение короткого, трудноопределимого по времени момента, воистину чудного мгновенья отечественной истории. Найденная было точка гармонии тут же стала размываться, исчезать, а бок о бок с ладом начал набирать силу разлад. На гармонию, хрупкую и прекрасную, едва-едва зародившуюся, ополчился хаос. Нет, темные силы, его посланники, не победили тогда – еще не приспело время их разрушительной вакханалии, да и иммунитет Империи был велик; но они уже начали делать свое дело. Так приземленное, обмирщенное донельзя, холопское по сути, прикрываясь красивыми словесами, стало теснить, а кое-где и вытеснять горнее, вечное, исконно русское.
И образовалась трещина в некоторых русских душах…
И вот что вышло. Пушкин, высшее воплощение лада, решительно не разделял многих идейных и тактических установок декабристов. Однако он был готов, как признался впоследствии императору Николаю, выйти с ними на площадь, погибнуть там, ибо заговорщики – его «друзья, братья, товарищи». Таков был наш Пушкин: его душевно-духовная гармония не допускала предательства, а дружба, категория высокая, почти мистическая, вполне уживалась у поэта с никчемными политическими разномыслиями.
А рядом с Пушкиным – Иван Пущин, он же «Большой Жанно», «первый и бесценный друг» тож. Светлый лик, честнейший и порядочнейший человек, неистовый и бесстрашный борец за социальную справедливость. «Души прекрасные порывы» – это и о нем тоже.
Но порывы – порывами, а в ходе последекабрьского следствия бунтовщик Пущин лжет и всячески изворачивается, в иные моменты выгораживает себя, в иные – обрекает на каторгу товарищей. Да и товарищи его, такие же рыцари Спасения и Благоденствия, ведут себя схоже. Например, они страстно обличают и безусловно хотят отменить крепостное право – повсюду, кроме собственных поместий. Или позднее, уже в Сибири, обзаводятся шикарными домами и бесчисленной челядью – а подле них, на тех же улицах, живут в нищете менее родовитые члены тех же разгромленных тайных обществ. Сравните эти факты с позицией Пушкина – и вы, быть может, уясните для себя на конкретных примерах, как лад в русской душе тотчас стал оборачиваться всеразъедающим разладом.
Дальше – больше, и множились трещины, и крепчали западные ветры, и, наконец, наступило время, когда о ладе в душе и в жизни совсем забыли. Забыли, ибо исчез он окончательно, бесследно, словно и не было его никогда, словно и не было Пушкина. Наступил хаос.
В этом хаосе мы и обретаемся уже второе столетие. В нем рождаемся, с ним беззаботно живем, с ним плодим потомков, с ним же и уходим. Нет и намека на лад в наших иссохших душах. Да и о каком ладе, какой гармонии может идти речь в непрекращающееся смутное время, когда, в числе прочего, возводится в абсолют дикое «Дыр, бул, щыл» или восхваляется убогий и ушлый «андеграунд»? Нет, лад продуцирует совсем другую поэзию.
Какую же? – наивно спросит кто-нибудь. Да ту самую, общеизвестную, родную, почти ветхозаветную и вечно юную. Потянитесь к полке, смахните с томика пыль, откройте его и задумайтесь:
Не дорого ценю я громкие права,От коих не одна кружится голова.Я не ропщу о том, что отказали богиМне в сладкой участи оспоривать налогиИли мешать царям друг с другом воевать;И мало горя мне, свободно ли печатьВ журнальных замыслах стесняет балагура…Вот он, агрессивный, постоянно атакующий, претендующий на бескрайнюю монополию в жизни человека быт, становящийся в процессе агрессии синонимом разлада, тот самый быт, который превращает лад в чуждый консенсус, а великий народ – в оболваненный электорат. Но вот, в соседних стихах, и подлинное бытие:
НикомуОтчета не давать, себе лишь самомуСлужить и угождать; для власти, для ливреиНе гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;По прихоти своей скитаться здесь и там,Дивясь божественным природы красотам,И пред созданьями искусств и вдохновеньяТрепеща радостно в восторгах умиленья.– Вот счастье! вот права…Пушкин вовсе не отрицает быт, но отводит ему вполне определенное место в иерархии, необходимой для существования лада. Для поэта однозначно ясно, что стоит недорого, продается на всяком углу за мелкую разменную монету, а что – бесценно и свято. Ясно ему и то, что лишь счастливо найденный симбиоз быта и бытия ведет к гармонии:
Быть можно дельным человекомИ думать о красе ногтей…Именно об этом – о человеке и его Деле, о красе внешней и внутренней, о русском ладе в пушкинскую эпоху и, разумеется, о самом Пушкине, о борьбе лада с разладом, о жрецах лада и прислужниках хаоса – собранные и изданные нами книги, наша «Пушкинская библиотека». Эти книги созданы разными людьми и в разное время, они разноплановы, посвящены различным периодам жизни Пушкина и самой России; не похожи друг на друга и авторы: читатель легко заметит и их идеологическую полифонию, и стилистическую многоголосицу, и различия по части литературных дарований. Читайте эти книги, господа, читайте – и, быть может, не столь трудно будет вам жить на этом свете. Ведь когда у человека за спиною, в прошлом, было нечто хорошее, светлое, теплое, то легче верить, что и будущее не совсем беспросветно. И коли была некогда такая эпоха в истории России, эпоха славная и величественная, то где, в какой Книге судеб прописано, что прошлое, пусть и в новом обличье, не повторится? Как знать, как знать…
Многое будет зависеть от прилежания учеников, то есть от всех нас, от нашей способности учиться у прошлого, от нашего умения извлекать из минувшего крайне необходимые уроки. Будут ученики смиренными и даровитыми – и есть у них некий шанс преодолеть тотальное притяжение быта, постичь сокровенный смысл пушкинской эпохи, приблизиться елико возможно к самому Пушкину, который был и есть – «наше все».
Случись такое – и дано будет школярам лицезреть вожделенное чудное мгновенье. Хотелось бы надеяться, что в числе вознагражденных окажутся и сегодняшние читатели «Пушкинской библиотеки» или, по крайней мере, их ближайшие потомки, те, кто посетит сей мир в начале нового тысячелетия.
В «Пушкинской библиотеке» будут представлены самые разнообразные книги. Одни написаны в России еще до революции и давно стали классикой отечественного пушкиноведения. Другие созданы людьми, оказавшимися в лихолетье за границей, в эмиграции, и эти труды до сих пор мало известны на родине. Третьи созданы сравнительно недавно, но уже успели завоевать всеобщую популярность. Интригуя и не называя пока имен, обещаем читателю, что его ждут и сочинения поистине сенсационные, в какой-то мере меняющие привычные представления о поэте. Обещаем и великолепное созвездие имен, и множество тем, и хронологическую широту повествований, и глубину мыслей, и напряженность сюжетов.
Судьба Ивана Наживина
Наживин настоящий поэт, рассказчик чарующей силы, одно из самых могучих литературных явлений в тех поколениях, которые идут за Достоевским, Лесковым и Толстым…
Из мюнхенской газеты (1925)В эмиграции подвизался также бывший толстовец И.Ф. Наживин. В 20-е годы им было опубликовано несколько романов на злободневные темы, в том числе длиннейший роман о Распутине.
Из книги Г.П. Струве «Русская литература в изгнании» (1956)Воистину неистощима русская литература на выдумку писательских биографий, вариантов судеб литераторов. Взгляните: что ни биография – то жанр, что ни жанр – то неповторимость, своеобычность, «необщее выраженье»… Порою даже кажется, что нового впредь не будет дано, что было уже все, но случай сводит тебя с неведомым ранее писателем, погружает в его мир, заставляет как бы прожить в извлечениях чужую жизнь – и в итоге опять-таки убедиться, что всякий труженик пера, будь то «гений» или «ремесленник», есть явление всегда уникальное.
Только сейчас, на исходе века, из тьмы долгого забвения, из тумана «других берегов» начинает проступать и приближаться к нам колоритная фигура очередного литературного репатрианта, «человека неистового», прозаика и мемуариста Ивана Федоровича Наживина. Замелькало с некоторых пор его имя на страницах журналов, начали выходить книги, томившиеся десятилетиями на идеологической таможне, пишутся первые краткие статьи о нем – и уже чуть зримее, чуть понятнее становится еще один вариант человеческой и литературной судьбы; вариант, надо сразу признаться, странный, весьма драматический.
Наш герой появился на свет 25 августа 1874 года во Владимирской губернии, в семье зажиточного крестьянина, «кулака». Детские и юношеские годы провел на просторах Суздальской земли. Учился понемногу и довольно рано пристрастился к писательству, бодро вступил в «цех задорный» и уже к началу XX века завоевал некоторую известность своими сборниками рассказов и очерков – такими как «Родные картинки» (1900), «Убогая Русь» (1901) или «Перед рассветом» (1902). Заметное влияние оказал в эти годы на Наживина не кто иной, как сам Лев Толстой: начинающий литератор познакомился с графом, вступил с ним в переписку, взял на вооружение кое-какие, правда, подчас спорные, идеи великого художника. Отметим, что увлечение Толстым и толстовством было сильным, но вовсе не единственным мировоззренческим пристрастием Ивана Федоровича накануне революции: отдал он дань и отмиравшему народничеству, и анархизму, и воззрениям, так сказать, более радикальным. Позднее Наживин честно признавался, что в течение многих лет «стоял на очень левых позициях». Впрочем, особой оригинальности здесь не было: в ту злосчастную пору разрушительным теориям и практикам симпатизировало едва ли не всё «просвещенное» общество, все «прогрессивные» и «порядочные» люди, неистово, с каким-то садизмом и мазохизмом единовременно, боровшиеся и против царя, и против правительства, и против русской армии, и против русского прошлого, и против, как вскоре выяснилось, своего же будущего. Надо воздать должное писателю: ему удалось, особенно под воздействием событий 1905–1907 годов, преодолеть крайности идейного радикализма и занять позицию более умеренную, если не государственную и патриотическую, то, по крайней мере, уже не разрушительную и не антирусскую. Так, Наживин стал горячим приверженцем П.А. Столыпина и его реформ, начал пересматривать и свое прежнее отношение к самой идее монархии; постепенно он склонялся к мысли, что самодержавие есть и неизбежность, и необходимость, благо для России и народа. При этом, однако, им всячески подчеркивалось, что существует огромная разница между монархией «идеальной», теоретически обоснованной, долженствующей быть некогда на Руси, и «старым позором и безумием», который некогда был и даже есть, и который однозначно должно изжить, напрочь вычеркнуть из русского бытия.
К 1917 году Наживин еще больше «поправел», окончательно перешел в охранительный лагерь. Понятно, что Октябрьский переворот он воспринял как «катастрофу», крах российского либерализма, как неслыханное нравственное падение одураченного народа. Позднее писатель вспоминал; «Спасаясь от голода и крови, я бежал с детьми на Черноморье – на борьбу с Хамом, пошел за Россию, за монархию».
Так он очутился в рядах Белого движения, в Осведомительном агентстве, где проработал два года, написал великое множество газетных статей, листовок и брошюр пропагандистского характера. Он видел гражданскую войну воочию, и отнюдь не глазами романтика; в 1922 году Наживин признавался: «На моих глазах прекрасная молодежь беззаветно, красиво гибла тысячами за родину и – об этом вслух она сказать не смела – за царя-спасителя. Ее удивительная жертва подкупила меня… Но – молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и похабничали… Поэтому – и только поэтому – разразилась катастрофа, и я попал в эмиграцию». Мысль, право, резкая, наверное, и упрощенная, и огульная, однако, увы, в известной мере справедливая, перекликающаяся с другими правдивыми свидетельствами. Надо признать, что не всегда и далеко не повсюду участники Белого движения походили на античных героев и выступали в ослепительно белых мундирах; да, был в том незабвенном воинстве и боевой дух, и «дум высокое стремленье», и массовый героизм, и жертвенность, за что и заслужили защитники России вечную память тех, кто чтит русское прошлое и преклоняется перед «отеческими гробами»; но были у противников большевизма и ошибки, не изъять из скорбной летописи тех времен и страницы темные, эпизоды зловещие; те, кто верой и правдой служит родной истории, обязан помнить и их. Наживин многое понял за годы братоубийственной войны и не упрощал, не подгонял под красивую схему обретенное тогда знание. Такой подход не мог сулить легкой жизни – и особенно в эмиграции, где после краха Белой борьбы оказался и наш герой.
В 1920 году Наживин эвакуировался вместе с остатками разбитых добровольческих полков из Новороссийска в Болгарию. И начались десятилетия изгнания… Довелось ему пожить и в Австрии, и в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославии), и в Германии. С 1924 года он осел наконец в Бельгии. Там Наживин и провел, почти безвыездно, отпущенные ему годы, стал членом писательского клуба «Единорог», даже основал собственное издательство. Там, в Брюсселе, в стороне от крупнейших эмигрантских центров, он и завершил 5 апреля 1940 года свой многотрудный земной путь и лег в чужую землю.
Странная, причудливая судьба… Жил одиноко, преимущественно в деревне, свел до минимума визиты в столицы, не любил кружки и салоны, чрезвычайно много работал. Работал – и печатался в журналах и альманахах: «Двуглавом орле», «Зарницах», «Перезвонах», «Воле России», «Детинце», «Зеленой палочке»; в газетах «Руль», «Парижский вестник», «Русь», «Возрождение» и других. Оказался же в итоге писателем маргинальным, почти не замеченным критикой Зарубежной России. Объяснить феномен Наживина непросто, но, кажется, можно. Впрочем, сначала поведаем о некоторых впечатляющих фактах из его литературной биографии.
Вот, например, перечень тех городов мира, в которых печатались книги Наживина: Париж, Берлин, Вена, Брюссель, Рига, Нови Сад, Тяньцзин, Харбин, Мюнхен, Лейпциг… Многоточие здесь – знак нашей неуверенности: не исключено, что были и иные выходные данные на титульных листах сочинений писателя. Но и приведенный реестр стран и континентов достаточно внушителен, редкие художники-эмигранты могли похвастаться такой географией. Вывод напрашивается сам собой: прагматичным издателям было выгодно печатать Наживина, следовательно, его книги пользовались популярностью у эмигрантской публики, не залеживались на складах и в лавках.