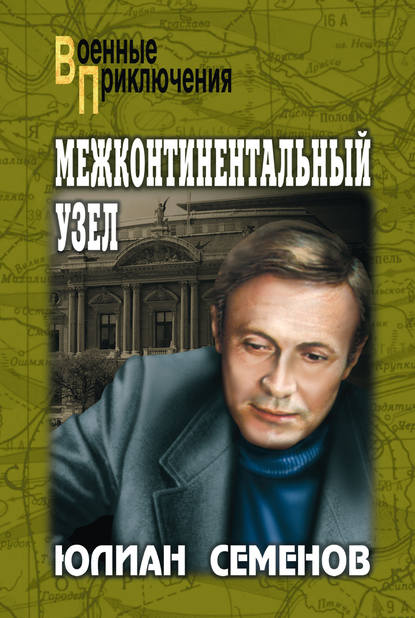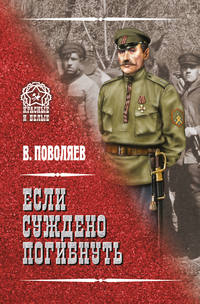Полная версия
Опасная тишина
Подтвердил, что в середине ночи полк собирался выступить в город, сообщил сведения совершенно новые – к полку должны будут присоединиться «камышовые коты» – пятьдесят человек, прячущиеся в лиманах, в глухих сомовьих местах, такое же выступление должно произойти и на бывшей территории Войска Донского.
На что рассчитывали восставшие, Мягков, честно говоря, не понимал. Возможно, существовал какой-то блистательный, умный, совершенно неожиданный план, подкрепленный выгодными оперативными обстоятельствами, но ни командир четвертой роты, ни его коллеги-краскомы о плане ничего не знали.
– Уже известны пароль с отзывом, которые будут действовать ночью, – надсаженным сиплым шепотом сообщил Никодимов Мягкову на ухо. – Вовремя мы наступили этому змею-горынычу на хвост. Охо-хо, – покряхтел он неожиданно по-старчески, – хо! – Взялся обеими руками за спину, согнулся, разогнулся… Пояснил: – Это у меня с Карпат, с тамошних окопов. Зимовал в Первую мировую там, хребет застудил на всю оставшуюся жизнь.
Вскоре стало известно еще одно обстоятельство: «коты», обитающие в плавнях, должны будут получить сигнал с ветряка – старой, но еще способной скрипеть и молоть зерно мельницы, по сигналу этому покинуть свои камышовые норы и с оружием в руках двинуться в город – вешать большевиков.
– Подготовились, сволочи, – удивленно покачал головой Никодимов, – и неплохо подготовились… Коммунистов вешать задумали. Ну-ну!
Такие же показания дал командир хозяйственной роты, израненный простоватый мужик, в прошлом выбившийся в офицеры из унтеров, по происхождению из саратовских крестьян, плосколицый, со светлыми и прозрачными, как вода, глазами, перетянутый двойной кавалерийской портупеей, следом за ним – заместитель командира пулеметной команды.
Картина была ясная.
Правда, в картине этой не хватало одной персоны – командира полка Попогребского. Он исчез – словно бы сквозь землю провалился – ни в станице его не нашли, ни в городе, даже в Екатеринодар по его поводу телефонировали, – там жил его брат, но и из Екатеринодара поступило короткое телеграфное сообщение: «Командир полка Попогребский у нас не появлялся».
Так где же он появлялся, где находится сейчас?
В этот день Мягкову везло невероятно – он вновь встретил Дашу. Судьба словно бы специально сталкивала этих двух людей, сводила в одном пространстве, в одном месте.
Даша, в легком платье, привычно покрытая красной косынкой, шла по улице, держа в руках пакет, свернутый из давней, здорово выгоревшей на солнце газеты. Был виден крупный рисованный заголовок издания «Кубанские областные ведомости». Бумага, казалось бы, должна была ссохнуться, стать ломкой, трескучей, но была она свежей, мягкой, прочной, словно бы ее только что вынули из-под валов бумагоделательной машины… Умели раньше производить продукцию, не то, что сейчас.
Увидев Дашу, Мягков не сдержался, улыбнулся широко, рукавом гимнастерки смахнул внезапно возникший на лбу горячий пот, а вот внутри у него, наоборот, возник некий томительный, сладостно-острекающий холодок.
Даша была крепче закаленного орденоносца Василия Мягкова, никакой влаги на чистом загорелом лице, блеснула улыбка, глаза сделались радостными, большими, на ходу она развернула газетный кулек:
– Угощайтесь, Василий Семенович!
Вон ведь как, Дашенька, оказывается, даже его имя с отчеством знает! Мягков благодарно закрутил головой, заморгал, поймал себя на том, что может раскиснуть, но в следующий миг взял себя в руки.
– Угощайтесь!
В пакете темнела крупная ранняя черешня.
– Надо же, диво какое дивное, – Мягков заглянул в пакет и удивленно покачал головой. – Откуда, из каких сказочных краев?
– Да ребята-абадзехи к нам, в комитет комсомола, с гор привезли… У них черешня поспевает рано – влаги там больше, солнце не так сушит, день на высоте длиннее, чем внизу. Угощайтесь, Василий Семенович!
Комендант аккуратным, почти робким движением подхватил одну лаково поблескивающую черешину, сунул в рот, сощурился от удовольствия – черешня была спелая, сладкая. Редко когда ранняя черешня бывает такой сладкой.
– М-м-м… – не сдержавшись, покрутил он головой от удовольствия.
– Берите, берите еще, Василий Семенович, – Даша протянула ему пакет, – берите больше. Жалко, газеты какой-нибудь нет, я бы отсыпала вам…
Мягкову показалось, что он может задохнуться от нежности, от тепла, возникшего внутри, от того, что в воздухе было слишком много солнца, свет солнечный подрагивал, колебался, переливался, то исчезая, то появляясь вновь. Мягков взял еще одну черешину, – крупную, темную, – отправил в рот.
– М-м-м!
– Нас в комитете комсомола предупредили: сегодня вечером мы поступаем в ваше распоряжение.
Коменданту показалось, что он не рассчитал свой шаг и на ходу налетел на какой-то жесткий штакетник, больно сделалось не только в груди, больно сделалось рукам и ногам. Косточка от съеденной черешни едва не застряла в горле.
– К-как? – неверяще спросил он. – Зачем? Ничего не понимаю…
Даша приподняла одно плечо.
– А я думала, вы знаете это лучше меня.
– Да вы же молодые, необстрелянные, пороха еще не нюхали… А там может быть такая стрельба, что воробьи от страха с деревьев будут сыпаться, как горох, – Мягкову показалось, что воротник гимнастерки слишком сильно сдавливает шею, он расстегнул верхний крючок. – Это глупость, Даша, не надо комсомолу участвовать в этой операции.
Радостное светлое состояние, в котором Мягков пребывал еще две минуты назад, исчезло.
– Такое решение принял секретарь городского комитета комсомола – выделить вам двадцать человек для участия в операции. Чтобы комсомольцы знали, чем пахнет война. – Мягков чуть не задохнулся от этих слов: какой же все-таки дурак сидит в молодежных вожаках… Тьфу! Даша вновь протянула кулек коменданту. – Вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь.
– Спасибо, – Мягков отрицательно качнул головой. – Не то привыкну к разным сладостям, а это – роскошь, штука по революционным временам недозволенная.
– Еще секретарь решил воспитывать в революционном духе национальные кадры, – в операции будет принимать участие нацмолодежь.
Малых народов на этой земле было много – хакучи, убыхи, сванеты, горские евреи, бесленеевцы, кабардинцы, абадзехи, – всех, наверное, не перечислить, но малые народы сейчас не интересовали Мягкова, его интересовала Даша – он боялся за нее. Пуля ведь дура, в таких операциях чаще всего погибают те, кто раньше никогда не слышал свиста пули. Они не знают совершенно, чего надо бояться, и в самые опасные минуты вместо того, чтобы совать голову в укрытие, открывают рот и с любопытством рассматривают место схватки.
Уроки войны не откладываются в крови, забываются быстро, память не передает их последующим поколениям, дети о том, что пережили их отцы и матери, не знают совершенно, только догадываются. Они ничему не научены.
И теперь вот какой-то недоумок из комитета комсомола решил необстрелянную молодежь сунуть под пули. А зачем, спрашивается, совать – не война же, впереди – мирное время… Много мирного времени. Надо срочно тормознуть эту воинствующую курицу и отменить приказ. Сам нюхач этот нюхал вообще когда-либо порох или нет? Интересно, как его фамилия?
– Как фамилия вашего секретаря? – спросил Мягков.
– Богомолов.
Ну и ну! Комсомольцы считают себя безбожниками, а у предводителя их такая фамилия… Очень церковная. А может, это и к лучшему? Мягков лапнул себя за карман гимнастерки – есть там карандаш и бумага? Ни карандаша, ни бумаги не было, Мягков расстегнул медную пуговицу, залез внутрь, но это не помогло – ни карандаш, ни бумага от таких решительных действий не появились, и Мягков махнул рукой:
– Ладно, фамилию без карандаша запомню.
– Василий Семенович, не надо отменять приказ Богомолова… Ну, пожалуйста! Молодые комсомольцы точно так же, как и вы, должны иметь боевой опыт. Хотя бы чуть-чуть, – Даша, подняв руку, свела вместе два тонких нежных пальца, потом приподняла один палец над другим, оставив крохотный зазор, – вот столько… Ладно?
– Нет, Даша, – Мягков покачал головой несогласно. – Нет и еще раз нет. Мужчины должны знать, чем пахнет порох, это для них обязательно, а для женщин совсем необязательно. У вас из двадцати человек половина явно женщины.
– Больше половины, – поколебавшись немного (не знала, говорить об этом или нет), сказала Даша.
Мягков поморщился.
– Это вообще никуда не годится, – произнес он с досадою. – Простите меня, Даша, мне надо к своим, – комендант развернулся стремительно и едва ли не бегом устремился к ближайшему телефонному аппарату, уже на бегу сообразил, что ближайший телефонный аппарат находится у пограничников, в следующий миг тормознул и прокричал издали: – Даша, вечером вам разрешено находиться только дома и больше нигде.
В ответ Даша только рассмеялась и приподняла над головой газетный кулек с черешней:
– Василий Семенович, вы не доели ягоды!
– Это не ягоды, это – черешня, – Мягков вновь заскользил сапогами по горячей пыльной улице. Надо бы обзавестись матерчатыми сапогами, они и много легче, и нога в них хоть дышит малость, в кирзовых же и яловых не дышит совсем.
Секретаря горкома с «некомсомольской» фамилией Богомолов на месте не оказалось, секретарша его с резким, как у сверчка, голосом сообщила, что «товарищ секретарь находятся на подведомственной территории»… И чего ему делать на «подведомственной территории», траву косить, что ли? Сидел бы у себя в кабинете, собирал членские взносы, бил хлопушкой мух, да, высунув язык от усердия, пыхтел бы над стенной газетой, придумывал заметки поострее. Ан, нет!
– Когда секретарь обещал быть на месте? – поинтересовался Мягков.
– Мне он не доложил, – проверещала секретарша, потом, поняв, что ответ ее получился грубым, добавила: – Это знает только он сам.
– Тьфу! – с досадой сплюнул Мягков и открутил назад ручку вызова – дал отбой.
Телефонный аппарат в комендатуре был новый, современный, Мягков мог им гордиться. Что, собственно, он и делал.
К сожалению, распоряжение, данное недалеким секретарем, только сам секретарь и может отменить – в комсомоле дисциплина такая же крепкая, с неукоснительными выполнениями приказов, как и у пограничников… Или почти такая же.
Через двадцать минут Мягков снова позвонил в комитет комсомола. В трубке, как и в прошлый раз, послышался сверчковый верещащий голос, такой тонкий, что он него резало ухо.
– Да и вряд ли он появится в ближайшие полтора часа, товарищ, – предупредила Мягкова исполнительная пишбарышня.
В трубке раздавалось звучное, с откатом, шипение, очень похожее на тяжелый шорох сползающего с берега мокрого песка, подмытого морской водой… Ну словно бы телефонный аппарат комсомольцев стоял где-то на открытой косе, любовался синей рябью волн, поднятых неторопливым ветром, пересчитывал на небе невесомые сухие облачка.
Мягков с досадой повесил трубку: чертов секретарь! Девчонок решил послать под пули, не задумываясь о последствиях, а сам сейчас отсиживается небось где-нибудь в огороде со сладкими скороспелыми огурчиками, хрумкает их аппетитно, пузо толстое набивает. Тьфу!
Либо вообще умотал из городка куда-нибудь к бесленеевцам делиться мудрыми мыслями, позаимствованными у других людей. Еще раз тьфу!
Места здешние интересные, плавни больше похожи на мокрые африканские джунгли, чем на плавни; что же касается разной живности, то водятся там не только камышовые коты, больше похожие на волков, чем на котов, и такие же, как и волки свирепые, но и всякая ядовитая пакость – гадюки, толстопузики, серые пауки толщиной в кулак, от укуса которых погибают не только люди, но и коровы, – кусаются пауки, как собаки.
Сколько может прятаться в плавнях людей, дневать там, чтобы потом ночью выкатываться на большую дорогу по своим разбойным надобностям?
Пятьдесят человек, шестьдесят? Может, гораздо больше – и сто, и сто пятьдесят человек… Мягков обеспокоенно потряс головой – а ведь «камышовые коты» эти могут иметь на вооружении не только винтовки с карабинами, но и пулеметы. Пулемет – оружие серьезное… Выходит, надо делать засаду. И не одну. На дороге, в промежуточной части ее, при въезде в город, в комендантской роте, возглавляемой Ряповским, в станице Петровской, в пограничной комендатуре, у чекистов, – в общем, мест, где могут появиться «камышовые коты», много.
Мягков снова позвонил в комитет комсомола, трубку подняла секретарша со сверчковым голосом, сделала это в тот же миг, едва на столе у нее затренькал телефонный аппарат. Начальник ее, – секретарь, – продолжал заниматься прежним своим делом, совершенно бесполезным, на взгляд коменданта, – воспитывал национальную молодежь Кубани и Северного Кавказа в традициях революционных драчек: кто кому фингал под глазом поставит, тот и прав. Мягков выругался и нахлобучил телефонную трубку на рогатый сундучок аппарата.
Лучше бы занялся секретарь полезными вещами – например, археологической наукой или изучением грязевых нарывов. В районе у них полно вулканических мест, где на поверхность выплескивается горячая грязь, издает шлепающие мокрые звуки, в промоинах вспухают пузыри, лопаются с громким щелканьем, в нарывах раздается глухое колдовское бормотание, иногда рождаются целые вулканы – небольшие, правда, – которые местный люд зовет сальзами.
Во время извержений сальзы выбрасывают на поверхность вместе с грязью древние вещи – обросшие зеленой коростой бронзовые зеркала, гребни, шкатулки, украшения, светильники, монеты, плошки для мазей, чашки, обломки мебели, мраморные статуэтки… Если все это собрать вместе, получится внушительная музейная коллекция.
Вот бы чем заняться комсомольскому секретарю, а не примирением хакучей с абадзехами, они и без него помирятся. Если, конечно, сочтут это дело нужным.
Иногда сальзы попадаются крупные, пытаются устремиться к облакам – на Таманском полуострове, недалеко от Темрюка они достигают ста пятидесяти метров высоты, есть крупные сальзы и в других местах. Ахтанизовская блевака, например, имеет высоту сто с лишним метров (слово-то какое – блевака, а?). Мягков интересовался этой блевакой специально, книжки кое-какие в Екатеринодаре полистал, вычитал, что высота ее равняется тремстам шестидесяти футам…
Но фут – мера старорежимная, из обихода уже вышла, один фут – это треть метра, вернее, чуть более трети метра, вот и считайте, дорогие товарищи, как высоко вспучился над землей этот дурной нарыв – Ахтанизовская блевака. В метрах считайте, согласно современным революционным требованиям.
И название у нарыва какое сочное, выразительное, даже закашляться хочется – блевака. Выблевывает, значит, из себя посторонние предметы, грязь, дурной воздух, сгнившие камни, останки древних животных, еще что-то.
Очередной звонок в комитет комсомола ничего не дал, Мягков не сдержался, выругался, ощутил под сердцем страшную холодную пустоту.
Выглянул в окошко: ну, как там жара? Жара не спадала, городок их был пуст.
Это хорошо, что на улицах – ни единой души, это на руку. Все перемещения, выбор огневых точек, установку пулеметов нужно делать скрытно, чтобы ни один взгляд, – тем более, взгляд вражий, – не засек это.
Может быть, даже и меловые кресты они стерли рано, – пусть бы красовались на воротах, – а за воротами можно было поставить опытных стрелков и достойно встретить непрошеных гостей.
Но кресты уже стерты – нет их.
И комендатура и штаб пограничного отряда действовать уже приготовились, подкатили к окнам пулеметы, распаковали ящики с лентами, набитыми патронами, были также осмотрены въезды в город, выбраны наиболее выгодные точки для встречи «дорогих гостей», проверены места засад и дорожки, по которым непрошеные визитеры будут драпать.
Сил, конечно, в городе было маловато, но на то, чтобы подоспела помощь, времени не оставалось совершенно, надо было обходиться своими силами, теми, что у них имелись.
Поразмышляв немного, Мягков обошел десяток домов, где жили бывшие буденовцы, попросил поддержать пограничников в случае нападения на город, – ни один из боевых рубак коменданту не отказал, – буденовцы хорошо понимали, что будет, если «камышовые коты» вздумают прополоть пулеметами городские улочки.
Раскаленный донельзя день перевалил уже на вторую половину, солнце, кажется, лопнуло и как гигантский яичный желток разлилось по всему небу. Небо сделалось необыкновенно ярким и почему-то тяжелым. Было понятно как Божий день – что-то должно случиться.
Мягков еще дважды звонил в комсомольский комитет – бесполезно, Богомолов как сквозь землю провалился, комендант даже попытался отменить его приказ о «мобилизации», для этого прискакал на Гнедке в роскошное барское здание, занятое комсомольцами на берегу моря, но попытка оказалась тщетной – отменить приказ мог только сам секретарь.
Впрочем, до часа «икс», до полуночи, когда ожидалось нашествие «камышовых котов», время еще было, – значит, секретарь еще мог объявиться.
Медленно тянулось время. Температура поднялась настолько, что пыль ошпарила ноги одному пацаненку до волдырей. Орал пацаненок на всю улицу.
В общем, погода стояла лихая, жара, похоже, не собиралась схлынуть и ночью – все так же будет припекать, хотя солнышко завалится на сон грядущий в постель, расположенную по ту сторону моря, и очнется лишь на рассвете.
К вечеру стало сильно пахнуть цветами. Цветы в их городке росли в каждом палисаднике, – росли самые разные, комендант в их сортах не разбирался. Разбирался только в их колере, в окраске: белые, голубые, желтые, красные и так далее, середки почти у всех были сродни яичным желткам, иногда встречались коричневые середки. Мягков вновь вспомнил Дашу – в который уж раз; чтобы не размякать, постарался перевести мысли на что-нибудь другое.
Он находился на окраине города, на дороге, по которой должны были пойти «камышовые коты», прикидывал, где лучше было посадить засаду с ручным английским пулеметом, замаскировать ее, а потом вдруг поднял своего мирного вислогубого Гнедка на дыбы и поскакал в комендатуру – Даша по-прежнему не выходила из головы, судьба ее тревожила Мягкова.
В комендатуре он снова набрал номер комитета комсомола – секретаря там по-прежнему не было.
– И что, он так и не появлялся? – неверяще спросил Мягков.
– Не появлялся, – послышалось сверчковое верещание, – хотя эти вещи я не обязана вам докладывать.
Ближе к закату, когда огромное красное солнце зависло над линией горизонта, действительно сделалось жарче, опытный Мягков угадал правильно, – днем с моря приносился слабенький ветерок, продувал пространство, а сейчас воздух застыл, обратился в горячее желе, всякий человек оказывался в нем стиснут, спеленут по рукам и ногам – даже пошевелиться было нельзя, таким плотным делалось пространство.
Хотя комары, например, чувствовали себя вольготно, свободно, без усилий, перемещались с места на место, кусались по-собачьи зло, пили кровь, сводили с ума местных коз, собаки трусливо прятались от них, поглубже забирались в будки, запечатывались там – не достать, еще слепни шарились по палисадникам, искали клиентов, из которых можно было бы выпустить кровь.
Слепни в здешних местах были какие-то мелкие, словно бы выжаренные солнцем, выродившиеся – умирающее племя, а не слепни, – но кусались эти «умирающие» почище собак, иной экземпляр размером не больше мухи мог запросто прокусить яловый сапог. Вот такие звери обитали в окрестностях их городка.
Правда, слепни и оводы на севере, где доводилось бывать Мягкову, попадались в несколько раз крупнее, летали они, как свинцовые пули, просечь живую плоть могли насквозь.
Комендант снова уселся на своего покорного Гнедка и поскакал в роту Ряповского – надо было подготовить встречу и там.
Чекисты тем временем выяснили, что в комендантской роте был только один нормальный краском, не продавшийся, – командир взвода Слонов, к нему претензий не было никаких, да и не принадлежал он к бывшим офицерам, в роте появился всего два дня назад и в игры, которыми тешились краскомы, не играл.
По происхождению Слонов был из мещан, отец его, красноармеец, погиб при форсировании Сиваша, в Екатеринодаре младший Слонов с отличием закончил командирскую школу и был прислан в полк Попогребского.
Мягкову он понравился – открытое лицо, честный взгляд, трудной работы не чурается, может взяться за всякую… Хороший парень, в общем.
Слонов с красной повязкой на рукаве расположился в просторной комнате дежурного, в помощники к нему было определено два человека, один из службы Мягкова, сообразительный парень по фамилии Клевец, второй, глазастый и рукастый, очень толковый стрелок, был из чекистов.
– Ну как, к встрече любителей кормить комаров в плавнях готовы? – спросил Мягков у чекиста.
– На сто пятьдесят процентов, – бодро отозвался тот.
– А ты, Клевец?
– Тоже на все сто пятьдесят.
– Молодцы! – похвалил Мягков помощников дежурного. – Комсомольский секретарь случайно на глаза никому не попадался?
Чекист отрицательно покачал головой.
– И мне нет, – сказал Клевец.
Дежурный краском вообще ничего не ответил на это, комсомольского секретаря он ни разу в жизни не видел в глаза, даже не знал, мужчина это или женщина?
– Что, набедокурил он чего-нибудь, да?
– Вроде того…
– Видел я его пару раз в щекотливых ситуациях, – Клевец не удержался, хмыкнул. – В атаку с ним я бы не пошел.
– Об этом сейчас не будем, – покосившись на чекиста, строго проговорил Мягков.
– А в чем он провинился, товарищ командир?
– Дурак он, тем и провинился. Решил нам в помощь прислать девчонок, которые не отличают винтовку от лошадиного хомута, а саблю от шенкелей. Ни разу в бою девчата не были.
– Жалко девчонок, – искренне проговорил Клевец, – на пулю им наткнуться – проще пареной репы.
Мягков поводил головой из стороны в сторону, сглотнул скопившуюся в горле сухость, покашлял в кулак, – ну, словно бы с силами собирался, которых у него не было.
– Готовность номер раз – в двадцать три тридцать, – наконец произнес он.
«Готовность номер раз» на языке Мягкова означала высшую степень готовности, следующая ступень уже предполагала команду «Пли!» и нажим указательного пальца на спусковой крючок винтовки. Лицо Клевца сделалось серьезным: коменданту он верил, тот впустую бросаться словами не будет.
Проверкой своей Мягков остался доволен: здесь ребята встретят художников-специалистов по меловым крестам как положено, только красная вьюшка, да выбитые зубы будут летать по воздуху…
Легко вскочив на Гнедка, Мягков поскакал в комендатуру.
Комсомольский секретарь на работе так и не появился, он словно бы провалился сквозь землю, либо взлетел на небеса – недаром носил фамилию Богомолов.
Мягков готов был съездить ему кулаком по шее и наверняка бы одарил парой ударов, да только человек этот никак не попадался ему на глаза.
Впрочем, дело это было временным – в конце концов он обязательно попадется…
Вечер опускался на землю удручающе медленно, жара делала время каким-то безразмерным, резиновым, под ногами в пыли с громким треском взрывались электрические искры.
Громко, будто работающие пилы, кричали цикады, от резкого протяжного звука их в ушах возникала глухота, да еще боль начинала ломить виски – от боли этой сильно страдали люди, имевшие в прошлом ранения в голову.
Около темных, обвядших за день деревьев носились, творя замысловатые зигзаги, летучие мыши.
Городок замер. Люди чувствовали: должно что-то произойти. Но что именно? Этого никто не знал. Хотя понятно было одно – ничего хорошего не произойдет. Этого даже ожидать не следует.
Сквозь листья деревьев ярко, будто дорогие каменья, посверкивали звезды, подмигивали земле, людям – то ли заигрывали, стремясь стать ближе, то ли предупреждали о чем-то.
В половине двенадцатого ночи, в расположении роты Ряповского, в проходной, показался человек, на плече у которого гнездилась похожая на длинную узловатую чурку коряга, завернутая в промасленную холстину, часовой пропустил позднего гостя в дежурную комнату, находившуюся за стенкой, тот прошел и, отдуваясь озабоченно, стащил корягу с плеча:
– У-уф! – Стер рукою пот со лба, огляделся и назвал пароль: – Через два дня наступит полнолуние.
Клевец, поправив ремень с тяжело провисшей кобурой, отозвался:
– Это хорошо. Осенью вырастет богатый хлеб.
Пришедший кивнул – отзыв был правильный, напряжение, проступившее на его лице (даже желваки вспухли твердыми буграми на щеках), ослабло. Он поинтересовался хриплым голоском:
– Куда идти дальше?
Клевец ткнул пальцем в небольшой, слабо освещенный коридор:
– Туда!
В ответ снова последовал послушный кивок, сопровождаемый вторым вопросом:
– Собираемся там?
– Там, – бодро ответил Клевец.
– Это хорошо, – не удержался пришедший, – наконец-то мы свернем голову власти нестираных портянок… А то ждать уже устали.